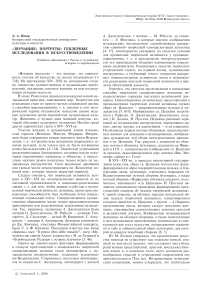"Звучащие" портреты: гендерные исследования в искусствоведении
Автор: Шкор Старцева Лидия Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Гендерное образование в России и за рубежом: история и современность
Статья в выпуске: 3 (4), 2009 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются религиозные и светские представления о художественном творчестве женщин (аристократического и буржуазного сословий), характерные для XIV-XIX вв. В процессе интенсивной секуляризации искусства религиозные представления о способах творческой самореализации женщин, воплощавшиеся в коннотациях образа св. Цецилии, постепенно трансформировались в светские представления об «идеале творческой женщины».
История искусств, синтез искусств, гендерные исследования, художественное творчество женщин, междисциплинарность
Короткий адрес: https://sciup.org/14821445
IDR: 14821445
Текст научной статьи "Звучащие" портреты: гендерные исследования в искусствоведении
«История искусства — это дискурс, это совокупность текстов об искусстве, не всегда письменных» [1: 724]. На протяжении XIV—XIX вв. женщинами создано множество художественных и музыкальных произведений, оказавших заметное влияние на всю последующую историю искусств.
В эпоху Ренессанса произошло рождение новой музыкальной практики, завоевавшей мир. Творчество для итальянцев стало не просто частью социальной жизни, а способом мировосприятия, т. к. именно в этот исторический период итальянское искусство заняло ведущее положение среди европейских музыкальных культур. Живопись и музыка дали мощный импульс, который обусловил культурное господство Италии среди других европейских стран в XIV—XVI вв.
Участие женщин в музыкальной жизни итальянских городов (Венеции, Мантуи, Феррары, Флоренции) было совершенно новым явлением эпохи Возрождения, т. к. «в Средние века женщинам запрещались занятия музыкой, если только они не были посвящены целям богослужения» [2: 134]. Творческие устремления представительниц благородного сословия имели некоторые ограничения: например, в обществе, в присутствии мужчин дамам полагалось только играть на музыкальных инструментах. Свои вокальные дарования они (дамы) могли демонстрировать на «Концертах поющих дам», которые носили закрытый характер.
Следует отметить, что творческая активность женщин в XIV—XVI вв. непосредственно зависела от их сословной принадлежности и социально-родственных связей, т. е. для того, чтобы заявить о себе как о полноценной творческой личности, женщине, кроме ярко выраженных способностей, был необходим четко определенный социальный статус. Совершенствовать художественное образование могли только представительницы аристократии или родственницы художников/музыкан-тов. Так, например, художница А. Джентиллески была сестрой О. Джентиллески, М. Робусти — дочерью Тинторетто, Д. Скультори — женой Ф. Киприани, С. Ангу-ишола — дочерью А. Ангуишолы. Дочерьми композитора Дж. Каччини, участника Флорентийской камераты, были С. и Ф. Каччини. Последняя известна как автор сборника пьес “Il p r imo libro d e lle musiche”, опер «Мученичество святой Агаты» (совместно с М. де Гальяно) и «Освобождение Руджеро с острова Альчина» [3: 46].
Одним ир значительных факторов формирования в социуме представлений о возможностях творческой самореализации женщин стали автопортреты с музыкальными инструментами, созданные художницами Возрождения. Сохранилось несколько автопортретов за спинетом С. Ангуишолы, автопортрет с лютней
А. Джентиллески, с нотами — М. Робусти, за спинетом — Л. Фонтаны, в которых именно изображения музыкальных инструментов способствовали раскрытию «двойной» творческой самопрезентации художниц [4: 17]. Автопортреты указывают на сходство условий для проявления творческой активности у художниц-современниц, т. е. в пространстве интертекстуальности эти произведения обладают одинаковыми смысловыми доминантами. Означающим сходство творческих устремлений служат, на первый взгляд, музыкальные инструменты, а глубинный «текст» портретов раскрывает социокультурные условности эпохи и возможности реализации женской творческой активности в пределах объективной данности.
Отметим, что светские представления о возможных способах творческой самореализации женщины непосредственно отражали постулаты религиозной доктрины. Олицетворением религиозных представлений о предназначении творческих усилий женщины служил образ св. Цецилии — покровительницы музыки и музыкантов [5: 610]. Изображения св. Цецилии встречаются у Рафаэля, О. Джентилески, Доменикино, позднее у К. Дольчи, Н. Пуссена. Цецилию рисовали играющей на музыкальных инструментах: портативном органе, лютне, виолах, а в дальнейшем — и на клавесине. На обложках первых нотных сборников, предназначенных именно для домашнего музицирования, изображалась музыкантка, чей облик непосредственно напоминал о св. Цецилии. Так, рисунок с девушкой на обложке нотного сборника Аттеньяна, изданного во Франции в 1531 г., воспроизводит изображение св. Цецилии за органом, аккомпанирующей хору ангелов (Ван Эйк, алтарь собора в г. Гент).
В XVI—XIX вв., в процессе интенсивной секуляризации искусства, образ св. Цецилии постепенно трансформировался в образ покровительницы музыки, и благородные дамы, музицируя, стремились подражать ей. Вышеупомянутый нотный сборник Аттеньяна, а также нотный сборник «Парфения» (обложка которого, несомненно, напоминает «Св. Цецилию» Н. Пуссена) являются уникальными примерами формирования представлений социума об «идеале творческой женщины». С одной стороны, на обложке передан визуальный облик «идеала творческой женщины», олицетворением которого является св. Цецилия, с другой — в сборнике представлены пьесы, которые следует исполнять женщине, стремящейся соответствовать канонам светской и религиозной доктрин. Изображение музицирующей женщины на обложке сборника, а также напечатанные в нем музыкальные произведения, понимаемые в совокупности как текст искусства, опосредованно заключают в себе и собирательный образ аудитории, для которой создавался подобный сборник [6; 7].
Ю. М. Лотман утверждал, что произведение искусства никогда не существует как отдельно взятый, изъятый из контекста предмет: оно составляет часть быта, религиозных представлений, простой, внехудожествен-ной жизни и, в конечном счете, всего комплекса разнообразных страстей и устремлений современной ему действительности (Там же). Интерпретируя лотманов-скую концепцию, можно утверждать, что значительно возросшее (к началу XVIII в.) количество картин с изображением музицирующих дам свидетельствует, с одной стороны, о сложившейся традиции музицирования женщин исключительно в рамках частной жизни, с другой — об устоявшихся социокультурных представлениях относительно приемлемых способов творческой самореализации женщин. Совокупность светских и религиозных представлений социума о творческой самореализации женщин опосредованно отражалась в портретах, запечатлевших дам в момент музицирования (или с музыкальными инструментами). Подобные портреты являлись не только изображением реальных персон, но и одновременно (в пространстве интертекстуальности) передавали идеализированные характеристики портретируемых, отражающие соответствие их творческих устремлений религиозным и социокультурным канонам.
Творческие устремления женщин в XVIII—XIX вв. постоянно ограничивались сводом негласных правил (вспомним деятельность художниц А. Кауфман, Э. Виже-Лебрен, пианистки М. Шимановской, певицы А. Каталани и др.). В качестве ярчайшего примера проявления социальных условностей, в значительной степени предопределяющих выбор творческого пути женщиной, выраженного средствами изобразительного искусства, мы можем назвать автопортрет А. Кауфман «На распутье между Живописью и Музыкой». Автопортрет написан как кульминация театральной пьесы, где художница выступает одновременно и в роли главной героини, и в образах Музыки (на коленях которой лежат ноты) и Живописи (в руках которой палитра). Указанием на символическую власть, какую имеет над главной героиней Музыка, служит пурпурное одеяние музы. Ласково пожимая руку художнице, словно при прощании, она обещает служить ей утешением и поддержкой. Аллегория Живописи, украшенная, словно полководец, алой перевязью, указующим жестом призывает художницу штурмовать вершины мастерства, которые символизирует горный пик на заднем плане автопортрета. Театральность мизансцены, поз и одеяний подчеркивается композицией картины, которая представляет собой сценическую площадку. Таким образом, в пространстве интертекстуальности сюжет автопортрета приобретает свойственные пьесе либретто, драматургию, временные характеристики.
С другой стороны, в пространстве интертекстуальности этого автопортрета выпукло проявились характерные представления социума (в XVII—XIX вв.) относительно женских занятий определенными видами искусства (живописью или музыкой). По мнению А. Байера [8], занятия живописью воспринимались в социуме как наиболее приемлемый вид осуществления творческих устремлений для женщины буржуазного сословия. Выбирая занятия живописью, художница выбирала «бо- лее добродетельную жизнь», т. к. занятия музыкой означали для нее «судьбу фаворитки и куртизанки».
В эпоху романтизма дамы занимаются литературой, философией и музыкой, становятся обычной аудиторией для поэта и музыканта, причем аудиторией образованной, имеющей хороший вкус. Однако идеи, выраженные в автопортрете А. Кауфман, не потеряли своей актуальности и во второй половине XIX в. Так, например, княгиня Тенишева писала: «Боже мой, как трудно женщине одной что-нибудь сделать. Ей все ставится в вину, каждый ее шаг перетолковывается в дурную сторону, всякий может ее осудить (...). А в особенности, если эта женщина решается создавать что-то свое. Как бы ни были благородны ее цели, каковы бы ни были результаты ее деятельности — даже ленивый и тот считает своим долгом бросить в нее камень» [9: 127].
Несмотря на множество ограничений, только придерживаясь которых женщины могли создавать свои художественные произведения, их творчество органично взаимосвязано с историей развития европейского искусства в целом. Вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что использование гендерного подхода в искусствоведении открывает новые ракурсы художественного наследия, создает иные способы интерпретации произведений живописи, и с картин европейских художниц, изображающих мгновенья музицирования, льются сокровенные мелодии.
Список литературы "Звучащие" портреты: гендерные исследования в искусствоведении
- Поллок Г. Созерцая историю искусства: видение, позиция, власть/Г. Поллок//Введение в гендерные исследования. СПб., 2000. Ч. 2.
- Шестаков В. П. От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики от античности до XVIII века/В. П. Шестаков. М.: Музыка, 1975.
- Ливанова Т. Н. Западноевропейская музыка XVII-XVIII веков в ряду искусств/Т. Н. Ливанова. М.: Музыка, 1977.
- Старцева Л. А. Мелодии автопортретов/Л. А. Старцева//Музычнае iтэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. 2004. № 1.
- Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве/Дж. Холл; пер с англ. А. Майкапара. М.: Крон-Пресс, 1996.
- Лотман Ю. М. История и типология русской культуры: сб./Ю. М. Лотман. СПб.: Искусство, 2002.
- Лотман Ю. М. Статьи по семиотике искусства/Ю. М. Лотман. СПб., 2002.
- Байер А. Портрет в живописи/А. Байер. М.: Slovo, 2003.
- Журавлева Л. Княгиня Мария Тенишева/Л. Журавлева. Смоленск, 1994.