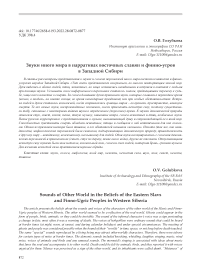Звуки иного мира в нарративах восточных славян и финно-угров в Западной Сибири
Автор: Голубкова О.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены представления о звуках и голосах персонажей иного мира восточнославянских и финноугорских народов Западной Сибири. «Тот свет» представлялся зазеркальем, во многом повторяющим земной мир. Духи виделись в облике людей, птиц, животных, но чаще оставались невидимыми и вступали в контакт с людьми при помощи звуков. Услышать голос инфернального персонажа считалось знаком, предвещавшим перемену в судьбе, чаще всего известие о смерти. За голоса домашних духов принимали звуки, которые слышали в переходное время (ночью, в полдень, на закате солнца, во время календарных праздников) или при особых обстоятельствах. Встреча людей и духов считалась возможной, когда соприкасались границы миров - во времени, пространстве, накануне смерти. Те же самые звуки, воспроизводимые человеком, могли привлекать нечистую силу, поэтому существовали табу, связанные с некоторыми видами шума в определенное (пороговое) время. К звукам демонической природы относили стук, свист, хохот, пение, тихую музыку, завывание ветра, голоса животных и птиц, необычные звуки. Пение русалок коррелировало с представлениями о музыке, выманивающей душу и сопровождающей ее в иной мир. Способностью чувствовать смерть обладали животные, птицы и сообщали о ней нетипичными для них голосами. Одним из признаков иномира быта тишина, а его обитателей называли «немыми». Немота (так же, как невидимость) мифологических персонажей была символом, подчеркивающим демоническую природу, принадлежность к другому миру - невидимому, неосязаемому, неслышному для людей. Одни звуки ассоциировались с голосами демонических персонажей и привлекали их (свист, стук по дереву, пение около воды), другие их отгоняли. Отпугивающими нечистую силу звуками были звон металла, колокольным звон, голоса и смех людей, матерная брань, громкая музыка. Для изгнания нечистой силы практиковали шумные обряды.
Звуки, голоса, мифология, иной мир, нежить, нечистая сила, шум, звон, свист, немота, тишина
Короткий адрес: https://sciup.org/145146483
IDR: 145146483 | УДК: 398.4 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0872-0877
Текст научной статьи Звуки иного мира в нарративах восточных славян и финно-угров в Западной Сибири
За двадцать лет полевых исследований, посвященных изучению мифоритуального комплекса восточнославянских и финно-угорских (преимущественно коми) народов России, были собраны материалы, раскрывающие различные аспекты народных верований. Отдельную группу представляют нарративы о звуках иного мира, голосах нежити.
Объединение материалов по сюжету, независимо от этнической принадлежно сти информантов, обусловлено гипотезой о целостности славяно-финно-угорского мифоритуального комплекса, сложившегося на территории ряда регионов России (Северо-Запад России, Приуралье, Западная Сибирь) в силу исторических причин. Взаимовлияние культур славянских (в первую очередь русских) и финно-угорских народов в процессе формирования этносов, их расселения на территории Европейской России и дальнейшего продвижения на север и восток, происходило на различных уровнях: бытовом, мировоззренческом, обрядовом, конфессиональном и т.д. Растянувшиеся на несколько веков процессы этнокультурного взаимодействия (начиная с XI–XII вв. – времени формирования древнерусской народности на основе слияния восточнославянских, финно-угорских и балтских племен [Седов, 2005, с 218; Горский, 2008, с. 5]), продолжаются до наших дней. Огромная территория и пестрый, дисперсный этнический состав населения многократно усиливали локальные различия верований и обрядов, которые в ряде случаев дифференцировались в большей степени по региональной принадлежности, чем по этнической, образуя относительно единые мифоритуальные комплексы, характерные для той или иной территории. Поэтому региональный принцип в исследовании традиционной культуры восточнославянских и финно-угорских народов в ряде регионов России (включая Западную Сибирь) представляется наиболее продуктивным. На примере представлений о звуках, соотносимых с голосами нежити , выявляя сходства и различия локальных верований, можно проследить эволюцию и реконструировать исходные образы некоторых мифологических персонажей.
Иной мир в верованиях русских, белорусов, украинцев, коми представлялся зазеркальем, в ко- тором по ту сторону бытия повторялась жизнь, во многом похожая на жизнь людей. Духи, населявшие тот параллельный мир, виделись в облике людей, птиц, животных, от смертных их отличали магические способности. Обитателей иномира можно было встретить при определенных обстоятельствах – в пограничное время (ночью, в полдень, на закате солнца, во время календарных праздников), в особом месте, но, как правило, для людей они были невидимы. Зато их можно было услышать. Звуки иного мира, во многом повторяющие голоса людей, животных, птиц, завывание ветра, треск огня, деревянный стук или же, напротив – полное отсутствие звуков, тишина – осмысливались как знаки, предсказания о грядущих переменах в судьбе услышавшего или его родных.
Домашние духи (домовой, кикимора) топали, стучали, стонали, плакали, завывали, звенели посудой, скрипели половицами, трещали веретеном, стучали прялкой, коклюшками, воспроизводили звуки, похожие на человеческую речь. «В каждом доме живет суседко. Что-то делает, может разговаривать. Только слова его непонятные, бормочет невнятно. <…> Часто кто-то стучит по три раза, то в окно, то в стенку, но не в дверь. А спрашивать “ кто там? ” нельзя, тогда что-то плохое будет» (ПМА, с. Мереть, Сузунский р-н НСО, 2019). «Положила конфеты домовому в его место, а сын их нашел и съел. Домовой всю ночь не давал спать, топал, психовал» (ПМА, д. Петропавловка, Маслянинский р-н НСО, 2016). «Как сына схоронила, на девятый день ночью в доме всё гремело. В окно стучало, посудой кто-то гремел. А кто это? То ли домовой бесился, то ли сын приходил» (ПМА, там же). «Когда умер дед, до сорока дней домовой беспокоил. На кухне гремело, кастрюли падали, погреб обвалился. Через сорок дней душа на тот свет уходит, тогда тихо стало» (ПМА, с. Довольное НСО, 2015). В «мычании» домового многие информанты пытались расслышать слова «добро» или «худо» – в ответ на вопрос, какое событие предвещает его появление. В то же время, распространено мнение, что нельзя вступать в контакт с духами, даже с домовым (который не считается нечистой силой), поскольку сам вопрос может спровоцировать («притянуть»)
несчастье. «Домовой ночью по хате ходит. Увидел, молчи. Нельзя его спрашивать, к худу или к добру. Заговорит с тобой, значит быть беде» (ПМА, д. Кукарка, Карасукский р-н НСО, 2004).
Более пугающими были звуки, которые связывали с кикиморой, ее появление в доме предвещало беду. «В войну у нас в подполе кикимора завелась. Никто не видел, только слышали. Ночью, как спать ляжем, слышно шаги под полом: тук, тук. Страшно было. Потом слышу, как будто свистит внизу. То ли свистит, то ли плачет. Бабушка старенькая была, я ее спрашиваю: - Ты слышишь? это чё? Она говорит: - Слышу, это кикимора у нас плачет, жди беды. На следующий день принесли похоронку, брата убили. Мужики все на фронте были. Потом еще два раза слышали. А следом похоронки приносили» (ПМА, с. Зыряновка, Заринский р-н, Алтайский край, 2009). «У соседей завелась кикимора. Каждую ночь по чердаку у них как на телеге по всей хате каталась, грохот стоял» (ПМА, с. Светлое Краснозерский р-н НСО, 2004). «Худые люди гвозди под крыльцо подкапывают <...> кикимора придёт, будет пакостить, стучать и греметь. От этого кто-нибудь заболеет или умрет» (ПМА, с. Мереть НСО, 2019). « Заглянула я в баню, а там кикимора сидит, коноплю тюпает. Тюпает и тюпает, стукоток стоит» (ПМА, д. Барлакуль Здвинский р-н НСО, 2001).
Согласно приведенным текстам, за голоса домашних духов информанты принимали обычные звуки. Нетипичны время и обстоятельства, при которых слышали эти звуки.
Персонажи «дикого» пространства (лес, поле, водоем), часто оставаясь невидимками, распознавались по голосам. «Леший поет голосом без слов, бьет в ладоши, свищет, аукает, хохочет, плачет» [Даль, 2008, с. 530]. «Они умеют и хохотать, и аукаться, свистеть и плакать по-людски, и если делаются бессловесными, то только при встрече с настоящими, живыми людьми» [Там же, с. 536]. «Настоящий леший нем, но голосист. <…> Поет он иногда голосом во все горло (с такой же силой, как лес шумит в бурю) почти с вечера до полуночи» [Там же, с. 536]. «Немоту» мифологических персонажей, также как «невидимость», можно считать признаком, подчеркивающим демоническую природу, принадлежность к иному миру – невидимому, неосязаемому, неслышному для людей. Встреча представителей разных миров (духов и людей) возможна, когда соприкасаются границы этих миров – во времени, пространстве, на грани жизни и смерти. Появление лешего могло считаться предзнаменованием, а иногда и причиной смерти. «Дед ходил в лес, однажды рубил дрова. Вдруг поднялся сильный вихрь, кружит столбом вокруг него, ме- 874
шает работать, а вокруг все тихо. Дед разозлился и кинул топором прямо в центр ветряного столба. Ему оттуда обратно топор выбросили, топор был в крови. Все прекратилось, вихрь рассыпался и кто-то рядом захохотал, но никого не видно. Дед понял, что это был леший. Вернулся домой и слег, а на следующий день умер» (ПМА, с. Болотное НСО, 2013). У коми связь леса с иным миром еще более тесная: «Лес в мифопоэтической концепции мира является одной из метафор мира предков» [Лиме-ров, 1998, с. 15].
Свист, соотносимый с ветром, считался звуком демонической природы. В ряде мест существовали запреты на свист: с одной стороны, потому что свистит нечистая сила, а с другой – полагали, что свист привлекает нежить: лешего, заложных покойников. Свист в доме мог прогнать домового и тем самым оставить семью без домашнего духа-покровителя. Свист во время поминальных обрядов в честь за-ложных покойников («вятская свистопляска»), по мнению Д.К. Зеленина, не был местным вятским явлением; подобные обряды-праздники сопровождались свистом и в других местах России [1995, с. 134–137]. «Свист – языческий оберег от нечистой силы; недаром же древнерусские поучения так часто восстают против «сопелий» и «гудцев»» [Зеленин, 1995, с. 135]. В данном контексте, вероятно, свист можно рассматривать как прием симпатической магии.
Представителям иномира были присущи пение и любовь к музыке. Ряд фольклорных сюжетов повествует о музыкантах, приглашенных или похищенных нечистой силой. «Жил у нас музыкант, играл на гармошке. Пригласили его в Бор-ково на свадьбе поиграть. Приехали вечером, посадили в бричку, увезли. Он всю ночь играл. А как только петухи запели, он видит, что сидит на кочке посреди болота» (ПМА, д. Петропавловка НСО, 2016).
Русалки пели песни, звонко смеялись, манили чарующими голосами. «Трактористы работали в поле в ночную смену, видели русалок. Едет на тракторе, на борону ему сядут русалки и катаются, песни поют. По три штуки садились и ехали» (ПМА, с. Прямское, Маслянинский р-н НСО, 2018). «Умерла молодая девочка. Потом её многие в поле видели. Работают ночью трактористы в полях, а она садилась им на плуг и каталась, песни пела. Называли её певунья. В белом одеянии, в венке, как похоронили» (ПМА, там же, 2016). Кроме песен и смеха, русалкам приписывали особые звуки. «Русалки ихкают. Кричат так “ их, их ” . Бегут, подскакивают и ихкают. По полю ходили, цветы рвали. С цветочками, с букетами бегали» (ПМА, с. Мо-розовка, Карасукский р-н НСО, 2019).
Подобно тому, как свистом можно вызвать лешего или иную нечистую силу, пением можно привлечь русалок. «Около воды нельзя песни петь. На песни русалки выходят, могут утопить. <...> Была девочка Шуронька, она утонула. Ее потом русалкой видели. Вечером на берегу песни пела, прохожих в воду заманивала» (ПМА, с. Нижняя Омка, Омская обл., 2002). Появление русалки могло рассматриваться как предзнаменование большой беды - смерти, войны, эпидемии, голода. «Русалка в белом саване по улице шла, потом сразу война началась. Все, кто видел, говорили, страшно было на нее взглянуть, мороз по коже. Сразу поняли, что недобрый знак, что-то страшное случится» (ПМА, с. Зыряновка, Алтайский край, 2009).
Одна из гипотез связывает происхождение русалок с сиренами, которых, в свою очередь, соотносит с культами Аполлона Дельфийского и Диониса, а производимую ими «музыку смерти» выводит из булькающих звуков варящейся плоти в котле Пифии. «Первобытная омофагия с ее “бульканьем плоти” заменилась “песней сирен” <…> “музыку смерти” стала представлять флейта – духовой инструмент, сделанный из тростника или опустошенных от мозга костей животных. Думали, что она исторгает из тела дух, вызывая разрушение и гниение плоти» [Акимова, Кифишин, 2000, с. 204]. «Эвфемистическая “пе сня” сменила собой брутальный акт “пожирания” птицей-богиней мертвой, загнивающей плоти мужского паредра» [Там же, с. 201]. Таким образом, музыкальность, пение, мелодичный голос персонажей иномира могли быть связаны как с представлениями о музыке, выманивающей душу и сопровождающей ее в иной мир, так и с древнейшими погребальными обрядами, в т.ч., первобытной омофагией.
Необычным голосом обладали мифологические персонажи, увлекающие душу на «тот свет» или предвещающие скорую кончину. Такими вестниками могли считать животных или птиц: им приписывали способность чувствовать смерть и сообщать о ней нетипичным поведением, звуками: вой собаки, пение курицы петухом, крик совы, стук дятла, карканье ворона или кукование кукушки вблизи жилья. «Дятел в стену дома с улицы стучит - к покойнику. Задолбит в стену, на третий день кто-нибудь умрет» (ПМА, пос. Овгорт ЯНАО, 2004). «Кулик, бродя по берегам рек, скликает утопленников», а «сойка своим криком выкликает, выманивает душу из тяжело больного человека» [Гура, 1998, с. 97].
У обских коми (этнолокальной группы коми-ижемцев, проживающих в бассейне Нижней Оби) были выявлены представления о мифической птице вычкан, сведения о которой не зафиксированы в других местах. Все, без исключения, информанты называли вычкана «птицей», однако «птичьим» признаком этого персонажа является только голос – птичий крик или писк. Остальные характеристики не орнитоморфны: невидимка, имеет голое тело (без шерсти), маленький, бегает, не умеет летать. «Есть птица такая вычкан. Вещунья недоброго. Кричит так: «выч», «выч». Прямо так ярко. Сильно громкая птица. Это тоже урэс. <..> она маленькая птичка. Шерсти на ней нет, голая вся. Живет, может быть, в лесу, а может, в поселке. Днем ее нет, только ночью. Она не летает, а ходит. Кому она провычкает, у того беда случится, умрет кто-нибудь в доме» (ПМА, пос. Овгорт, 2004). «Птичка у нас водится. Маленькая и вся голая. Нет на ней ни пера, ни шерсти. Юркая очень, не успеешь разглядеть. А голос у ней громкий. Вичкан называется, потому что кричит: «вич», «вич». Говорят, она беду чувствует и предсказывает, и все правда» (ПМА, пос. Восяхово, 2006). «У вычкана тело голое, поэтому на глаза не показывается. У него клюв как у птицы, ноги, а крыльев нету. Он бегает, не летает. Может плавать по воде. Дает знак перед несчастьем: шипит как змея» (ПМА, пос. Ямгорт, 2004). «Вычкан - птичка. Ее не видать, а услышать можно. Она свистит в темноте. Бегает под окнами, не летает. Сама вся голая. Плохая птичка, беду предвещает. Кричит: «вжить», «вжить» неприятным голосом. К беде, к покойнику» (ПМА, пос. Овгорт, 2004). «Птичка вичкан мучила целый год перед смертью мужа. Летом под окном вичкала: «вич», «вич». А зимой дома ходит - пол скрипит, жутко! Урэс - это жуткое чувство. Вот если просто что-то послышалось -ничего не почувствуешь, а если жутко - значит урэс» (ПМА, пос. Восяхово, 2006).
Глагол «вычать» (фонетически соотносимый с персонажем вычкан) был распространен в северо-западных областях России в XIX – начале ХХ в., он употреблялся в значении «скучать, выражая это всхлипыванием и стонами» [Словарь…, 1970, с. 358]. В Симбирской губернии слово «ви-чать» означало «кричать, визжать как ребенок или как щенок» [Даль, 1880, с. 259]. Возможно, наименование персонажа вычкан могло быть не просто звукоподражательным, как это может показаться на первый взгляд. Глагол «вычать» («вичать») в значении «кричать», «стонать» мог быть известен зырянам как слово, заимствованное из русского языка, исчезнувшее из употребления в обыденной речи. Но оно могло сохраниться в качестве обозначения голоса мифического существа, основной характеристикой которого является крик, сопоставимый со стенанием или плачем, зовущим душу в иной мир. Далее это слово могло стать ло- кальным наименованием гибридного персонажа вычкан, вероятно, сформировавшегося на территории Нижнего Приобья в результате влияния мифологии обских угров (подробнее см.: [Голубкова, 2007, с. 130–133]).
Голосом инфернальных персонажей также считался деревянный стук. Таким голосом, например, обладала Лон-вэрт-ими – женщина, скручивающаясухожилия (известнахантамБелоярско-го р-на ХМАО–Югры: д. Ванзеват и др.): «Если жилы после захода солнца будешь скручивать, то Лон-вэрт-ими придет и будет на улице стучать, словно молотком – так она ругается» [Бауло, Голубкова, 2020, с. 126, 130]. У ижемских коми существовали табу, связанные с «деревянным шумом» в святочный период. Запрещалось стучать веретеном, щепить, ломать лучину, бросать дрова, поскольку считалось, что такого рода шум может пробудить нечистую силу (святочных духов). «Деревянный стук интерпретируется как вызов, как некий язык вхождения в контакт с самими святочными духами» [Панюков, 2012, с. 91]. Услышать деревянный стук в лесу предвещало скорую кончину. «Когда в лесу услышишь стук, будто кто-то дерево рубит, а вокруг никого нет, значит, скоро умрешь. Это лесные люди показали, что тебе уже гроб готовят» (ПМА, с. Шурышкары ЯНАО, 2011). Представления о деревянном стуке в лесу как о знаке – предсказании смерти были широко распространены также у русских.
Одни звуки ассоциировались с голосами представителей иномира и привлекали их (свист, стук по дереву, пение около водоема), другие их отгоняли. Отпугивающими нечистую силу звуками считались звон металла, колокольный звон (как церковный, так и перезвон бубенцов, колокольчиков), громкая музыка, смех, матерная брань, громкий крик, лай собаки, пение петуха.
Для изгнания нечистой силы практиковали шумные обряды. Например, обряд «топтания чудов» (которые в новогоднюю ночь вылезали из-под земли и из воды) у северных коми. На Ижме в день Богоявления, после освящения воды, с криками катались на лошадях и оленях вокруг села и по улицам, прогоняя злых духов [Максимов, 1984, с. 421]. На Сибирском Севере «топтали чудов » в первый день нового года (Васильев лун). Собираясь большими группами, ездили по селу на лошадях и оленях, громко кричали, смеялись, топали, стучали металлическими предметами, звенели бубенцами и колокольчиками. «В Васильев лун народ на лошадях ездил, а кто без лошади, так ногами снег топтали. Всем селом выходили топтать чудов. Все смеются, ребятишки толкаются в снег» (ПМА, пос. Овгорт, 2004). «В новый год выходили шуметь на улицу. Кричали, стучали 876
пустыми кастрюлями, ложками. Всем селом вселились, чудов пугали» (ПМА, там же, 2004).
В одном из нарративов о заколдованном месте (Провалье, где теряются люди, попадая в иной мир) женщина нашла путь домой, ориентируясь на звуки: колокольный звон, церковное песнопение, голоса людей. «Пошла вперед, а куда идти, в какой стороне деревня, я не знаю. Иду и слышу, будто голоса меня зовут, а слов, не разобрать. И мелодично так, будто в церкви поют. Я на эти голоса иду, и вышла к деревне» (ПМА, д. Петропавловка НСО, 2016).
Итак, определенные звуки (стук, свист, хохот, пение, тихая музыка, шум ветра, голоса животных и птиц) считались способом коммуникации людей и духов. Те же самые звуки, воспроизводимые человеком, могли привлекать нечистую силу, поэтому существовали табу, связанные с некоторыми видами шума в определенное (пороговое) время. Чаще всего звуки иного мира рассматривались как знаки смерти. Контакты представителей «того» и «этого» света были возможны, когда соприкасались границы миров во времени и пространстве. Для изгнания нечистой силы практиковали шумные обряды, сопровождаемые громкими криками, смехом, металлическим звоном.
Исследование проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0001 «Этнокультурное многообразие и социальные процессы Сибири и Дальнего Востока XVII–XXI в.».
Список литературы Звуки иного мира в нарративах восточных славян и финно-угров в Западной Сибири
- Акимова Л.И., Кифишин А.Г. Аполлон и сирены (о ритуальной специфике Дельф) // Жертвоприношение: Ритуал в культуре и искусстве от древностей до наших дней. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 199–212.
- Бауло А.В., Голубкова О.В. Легенда о Тан-варпэкве // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2020. – № 2 (49). – С. 123–134.
- Голубкова О.В. Орнитоморфные представления о душе у коми-зырян // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 3. – С. 125–134.
- Горский А.А. История России с древнейших времен до 1914 года: учебное пособие для вузов. – М.: АСТ – Астрель, 2008. – 286 с.
- Гура А.В. Звуки и голоса животных в традиционных народных представлениях // Слово и культура. Памяти Н.И. Толстого. – М.: Индрик, 1998. – Т. II. – С. 95–101.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1 (А–З). – М.; СПб.: Гостиный двор, Кузнецкий мост, 1880. – 814 с.
- Даль В.И. Поверья, суеверия и предрассудки русского народа. – М.: Эксмо, 2008. – 736 с.
- Зеленин Д.К. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки. – М.: Индрик, 1995. – 432 с.
- Максимов С.В. Год на Севере. – Архангельск: Сев.- Зап. кн. изд-во, 1984. – 605 с.
- Лимеров П.Ф. Мифология загробного мира. – Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 1998. – 128 с.
- Панюков А.В. Образ мороза в календарной мифологии коми-зырян // Изв. Коми НЦ УрО РАН. – Вып. 1 (19). – Сыктывкар, 2012. – С. 89–92.
- Седов В.В. Избранные труды: Славяне. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. – М.: Знак, 2005. – 944 с.
- Словарь русских народных говоров. – Л.: Наука ЛО, 1970. – Вып. 6. – 358 с.