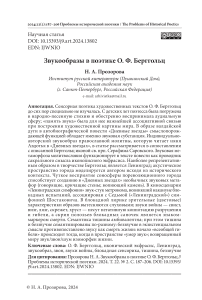Звукообразы в поэтике О. Ф. Берггольц
Автор: Прозорова Н.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
Сенсорная поэтика художественных текстов О. Ф. Берггольц до сих пор специально не изучалась. С детских лет поэтесса была погружена в народно-песенную стихию и обостренно воспринимала аудиальную сферу; «память звука» была для нее важнейшей ассоциативной связью при построении художественной картины мира. В образе валдайской дуги в автобиографической повести «Дневные звезды» смыслопорождающей функцией обладает именно звуковая субстанция. Индивидуально-авторский звукообраз православной молитвы, которую читает няня Авдотья в «Дневных звездах», в статье рассматривается в сопоставлении с описанной Берггольц иконой св. прп. Серафима Саровского. Звуковая метаморфоза молитвословия функционирует в тексте повести как проводник сакрального смысла иконописного экфрасиса. Наиболее репрезентативным образом в творчестве Берггольц является Ленинград; акустическое пространство города моделируется автором исходя из исторического контекста. Чуткое восприятие соносферы пореволюционного города способствует созданию в «Дневных звездах» необычных звуковых метафор (говорящие, кричащие стены; вопиющий камень). В киносценарии «Ленинградская симфония» звук-стук метронома, возникший накануне блокадных испытаний, ассоциирован с Седьмой («Ленинградской») симфонией Шостаковича. В блокадной лирике зрительные (цветовые) характеристики образов вытесняются слуховыми; звуки войны - свист, визг, лязг, скрежет, хруст - несут негативную коннотацию разрушения и гибели, а скрип полозьев блокадных саночек является знаком-маркером смерти. Семантика тишины амбивалентна; при этом тишина и беззвучие семантизированы по-разному: беззвучие в экзистенциальном смысле противопоставлено звуку как смерть жизни: начало «всеобщей гибели» происходит тогда, когда в пространстве «умер звук»; возвращенный миру звук/звон/шум изоморфен жизни.
О. ф. берггольц, иконический экфрасис, ленинград, звукообраз, звон, звуки войны, блокадная сенсорика, тишина, беззвучие
Короткий адрес: https://sciup.org/147243782
IDR: 147243782 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13802
Текст научной статьи Звукообразы в поэтике О. Ф. Берггольц
С енсорная поэтика — актуальное направление современного литературоведения, изучающее представленный в художественном произведении предметный мир посредством репрезентации чувственных ощущений (зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания). Важность обращения к сенсорике при анализе литературного произведения подчеркивал в свое время польский исследователь Е. Фарино (Faryno) [Фарино: 273–430]. Теме сенсорной образности посвящено немало книг и статей [Ляпина, 2005, 2014, 2016], [Рогачева], [Эпштейн] и др. По мнению Л. Е. Ляпиной, «единая субъективированная картина мира» моделируется автором «через систему сенсорных образов» [Ляпина, 2016: 52]. Система сенсорных образов, отобранных и структурированных творческим сознанием автора, — пишет Т. В. Васильева, — составляет сенсорную поэтику художественного произведения» [Васильева: 58].
Особое внимание уделяется исследованию звуковой картины мира (соносферы) как в отдельном литературном произведении, так и в творчестве писателя в целом.
Между тем «память звука» была для Берггольц важнейшей ассоциативной связью, которую она подчеркивала, когда размышляла о категории времени. «Когда я думаю или пишу о стыке, о нераздельном соединении прошлого и настоящего, а может быть, даже еще неизвестного нам будущего, — говорила Ольга Федоровна в интервью на ленинградском радио после войны, — то прежде всего возникает у меня звук. Нет ничего сильнее, чем память звука, память песни»1.
Ольга Берггольц выросла в поющей семье и с детских лет была погружена в народнопоэтическую песенную стихию. В доме пели все, собираясь по вечерам вместе: отец Федор Христофорович и мать Мария Тимофеевна Берггольцы, а также тетки по материнской линии. Пела и сама О. Ф. Берггольц, о чем писала в автобиографии:
«…я знаю множество песен — народных, цыганских, блатных; нередко я пела их Горькому, в обществе, и А. М. бывал растроган до слез» 2 .
В начале тридцатых годов в кругу ленинградских литераторов она подпевала антифашисту Э. Бушу, исполнявшему песни Красного Веддинга3, а находясь в заключении в 1938–1939 гг. по сфабрикованному обвинению в контрреволюционной деятельности, пела для сокамерниц:
«Плакала и пела неустанно, долго плакала и пела я — нашу песенку о дальних странах заучила камера моя…» ( Берггольц, 2014 : 114).
В доме Берггольцев особенной любовью пользовались песни о тройках и ямщиках, которые мчались зимой под звон бубенцов и колокольчиков. «…я знала их почти все, — писала поэтесса, — и больше всего любила песню о том, как в степи глухой замерзал ямщик…» (Берггольц, 2014: 437). Освоение песенной народной культуры способствовало формированию у Берггольц особой аудиальной восприимчивости — «памяти звука», ставшей наиболее репрезентативной составляющей художественной картины мира поэтессы.
Рассказывая в автобиографической повести «Дневные звезды» о посещении краеведческого музея в Угличе, Берггольц остановила внимание на знаменитой — «из песни» — валдайской дуге, которая «слабо светилась» в подвальном помещении «сказочной красотой своей — синими, пунцовыми и зелеными розами на бледно-матовом золоте, и была похожа на небольшую, но самую настоящую деревянную радугу» ( Берггольц, 2014 : 437). Далее ее взгляд упал на колокольчики и узорчатые бубенцы. Хранителя музея попросили тряхнуть валдайскую дугу, и тогда она «ожила». «Ох, как она залилась, зазвенела, зарыдала, захохотала, как живая, — писала Берггольц, — <…> и взвившееся веселье, этот сумасшедший звон серебряный, ударивший в каменные своды и рухнувший с них, как сверкающий ливень, наполнив собою все — подвал, сердце, жизнь!» ( Берггольц, 2014 : 438). Именно звуковая характеристика музейной реликвии стала смыслопорождающей. Звон не просто изменил акустику пространства — появилось мощное движение, перезвон поднялся под каменные своды и упал, преобразил подвальное помещение, вышел за его пределы и стал звуком-ливнем; лирическая героиня услышала «огнистую россыпь». Звукообраз валдайской дуги — яркая иллюстрация обостренной рецепции аудиосферы поэтессой.
Особенно показательна сенсорная образность — визуальная и слуховая — в сцене молитвы няни Авдотьи из повести «Дневные звезды». Нянька Авдотья (по словам поэтессы, «человек очень важный в детстве» — Берггольц, 1990 : 479) оказала свое влияние на религиозность юной Берггольц и ее веру в силу молитвы.
Икона, перед которой молится Авдотья, в тексте «Дневных звезд» не названа, но по описанию представляет собой не что иное, как известную икону с изображением святого Серафима Саровского, который кормит медведя хлебом (событие из его жития). Значение этой иконы, особенно любимой в народе, трактуется как напоминание людям о гармонии жизни в раю до грехопадения, когда человек владел даром повелевать животными. Известно несколько картин с изображением святого без нимба, которое считается неканоническим4. Однако Берггольц описала именно икону, т. е. дала развернутый религиозный иконический экфрасис, в котором подчеркнула сияние вокруг головы святого5. «У бабушки все иконы были одинаковые — с темными, сердитыми, длинными лицами. А у Дуни иконка была очень интересная: старичок, святой, ужасно похожий на нашего дедушку, — писала Берггольц, — только с чересчур большой головой и с сияньем вокруг головы, кормил из рук коричневого медведя, а кругом был густой, дремучий лес, и избушечка выглядывала из лесу, маленькая, с окошками и трубой, а из трубы даже шел дымок <…>. Когда перед иконкой горела зеленая лампадка, лес оживал и двигался…» (Берггольц, 2014: 383).
Вслед за зрительной экспозицией следует слуховое впечатление от молитвы простой крестьянки, уроженки Псковской губернии, няни и прислуги в семье Берггольцев. Речь Авдотьи передана в повести с орфоэпическими особенностями: неграмотная няня не выговаривала буквы «ч» и «щ», заменяя их на «ц». Девочки внимательно вслушивались в каждодневную молитву, в ее «цокающий шепот» и однажды услышали: «Светы божи, светы крепки, светы бессмертны, помилуйте мя» ( Берггольц, 2014 : 387). Канонический текст православного мо-литвословия, которое называется «Трисвятое» (или «Трисвятая песнь»), принято читать трижды: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»6. Услышав молитву Авдотьи, Берггольц зафиксировала метаморфозу слухового образа:
«Воображение перевело подслушанную молитву иначе — она была таинственна и прекрасна: "Цветы божьи, цветы креп кие, цветы б ессмертные, помилуйте нас".
И тотчас же, легко и отрадно, мы поверили, что у бога в раю растут такие цветы — огромные, с дерево, неувядающие, крепкие и добрые; они светятся, как фонарики, и сделают все, что у них попросишь» ( Берггольц, 2014 : 388).
Поистине «звуки, которые слышат только поэты»!7 Произошла не аберрация слуха, а творческая переработка услышанного: новый звук, зародившийся в эмоциональной сфере, породил новый смысл. Детская молитва к всемогущим цветам, растущим в райском саду, через много лет вспомнилась лирической героине в сочинском дендрарии, когда она впервые увидела магнолии:
«…среди крупных темных листьев, светясь, как фонарики, недвижно сидели огромные молочно-жемчужные цветы. <…> сама собой внезапно вспомнилась мечта-молитва раннего детства. И я засмеялась, — господи, да ведь я же в раю! И в веселом счастье я прошептала, не молясь и не кощунствуя: "Цветы божьи, цветы крепкие, цветы бессмертные, помилуйте нас"…» ( Берггольц, 2014 : 388–389).
«Память звука» оказалась связующей нитью между ушедшим детством и взрослым настоящим.
«Экфрасис, в классическом его понимании, — отмечает Н. Б. Будько, — всегда имеет скрытый смысл, который насыщает текст новыми значениями, и в этом состоит его основная функция» [Будько: 225]. В связи с этим утверждением обратим внимание на визуальную характеристику магнолий и колора-тивную лексику8 (молочно-жемчужные), помогающую уловить семантическую связь двух фрагментов повести. В поэтике Берггольц жемчуг/жемчужный соотносится с внутренним (глубинным) состоянием человека (ср.: «глубинный жемчуг сердца — умиленье» — Берггольц, 2014: 233), либо указывает на особое, порой возвышенное значение предмета («шло от него жемчужное сиянье» — Берггольц, 2014: 259). Исследователи русского религиозного экфрасиса подчеркивают: «правильная дешифровка» экфрасиса «через смысловую сакрализацию» помогает понять художественную ценность литературного произведения [Чернова: 201]. Предполагаем, что в творческом переводе Берггольц православной молитвы на поэтический язык сохранилась православная христианская доминанта — умиление Божиим миром, — напрямую коррелирующая с экфрасисом иконы (св. прп. Серафим Саровский кормит медведя), которая напоминает людям об утраченной гармонии. И проводником смысловой сакрализации стала звуковая метаморфоза.
Репрезентация акустического пространства в творчестве поэтессы зачастую неотделима от зрительных сенсорных образов. При этом соносфера — место, где рождаются индивидуально-авторские звукообразы Берггольц.
Звуковой мир родного города поэтессы — Ленинграда — является в художественной картине мира Берггольц одним из наиболее репрезентативных, смыслообразующих образов и представлен в творчестве как конкретное историческое, географическое и символическое пространство. Исходя из исторического контекста, поэтесса моделирует и звуковое городское пространство.
Описывая пореволюционный Ленинград в повести «Дневные звезды», Берггольц обращает внимание на характерную особенность предметного мира того времени — присутствие в городе плакатов и лозунгов, написанных буквально везде: на зданиях, стенах, воротах фабрик и заводов, фронтонах амбаров и т. д. Память сохранила стойкое зрительное впечатление — «прописные изогнутые буквы», написанные людьми только что научившимися писать и читать. Этими буквами и были начертаны революционные лозунги: «Не работающий да не ест!», «Ум не терпит неволи!», «Охраняйте революцию!» и т. д. Однако лирическая героиня не только видит эти лозунги-надписи, она слышит , как в городе кричит ими революция, «утверждает», «приказывает» и «восклицает»: «Мы не рабы!» ( Берггольц, 2014 : 433). Звукообраз пореволюционного Ленинграда вербализован в повести в системе духовных координат автора:
«Революция кричала, как только что родившийся младенец.
Нет, вернее, Революции надо было выговориться, выкричать все главное <…>. Она без конца, в любое время суток, пела
"Интернационал", она заставляла своими лозунгами и словами "Интернационала" вопиять даже камни» ( Берггольц, 2014 : 431).
Метафоры «кричащих» стен и «вопиющего» к человеку камня — важные компоненты поэтического идиолекта Берггольц. При этом образ вопиющего камня восходит к Евангелию от Луки, к эпизоду, в котором ученики славословят Иисуса Христа во время въезда в Иерусалим, а фарисеи просят Учителя прекратить петь ему хвалы: «Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 19:40).
Кричащая стена — синэстезический образ художественного мира, демонстрирующий полимодальность чувственных восприятий автора9. Семантика образа очевидна: надписи на каменных стенах Ленинграда (и на развалинах Севастополя, где бывала Берггольц во время войны) первоначально были средствами коммуникации; позже поэтесса назвала их хранителями памяти. Не случайно она с вдохновением отнеслась к предложению поместить надпись «Здесь лежат ленинградцы…» на каменной стеле Пискаревского кладбища, хотя от фиксации авторства на камне Берггольц отказалась. Подчеркнем, что прецедентный текст, вошедший в национальное сознание соотечественников, предваряется обращением к потомку и лексемой в значении «слушать»:
«Но знай, внимающий этим камням: никто не забыт, и ничто не забыто» 10 ( Берггольц, 1990 : 9).
В этом хрестоматийном тексте евангельская аллюзия прочитывается в проекции мировоззренческой позиции Берггольц: внимай камню, прославляющему память погибших в народной войне, он не «умолкнет».
В повести «Дневные звезды» пореволюционный Ленинград был представлен как насыщенное шумовое пространство: он «гудел» и «гремел» демонстрациями, манифестациями и коллективными декламациями, «выкрикивал» и пел «Замучен тяжелой неволей», «Вихри враждебные», «и без конца "Интернационал"…» (Берггольц, 2014: 414). В этой связи обращает на себя внимание соносфера в сценарии Берггольц к фильму «Первороссияне». Переполненный песенной стихией литературный сценарий вызвал критику при обсуждении на художественном совете Второго творческого объединения «Ленфильма»: автора корили за «избыток» и «карнавальную смену» песен, которые «мешают» зрительскому восприятию. Берггольц же, воспринимающая песню как звуковой символ-знак, отвечала: «Возможно, но эпоха пела»11. Киносценарист Б. Ф. Чирсков поддержал поэтессу, заявив, что в песнях «вся природа этой картины»12 и будущий фильм «и есть концерт, посвященный дням революции»13.
Палитру сенсорных ощущений включает в «Дневных звездах» описание демонстрации против известного английского ультиматума, выдвинутого лордом Дж. Керзоном.
«Мы выскочили из школы <…>, — писала Берггольц, — и с размаху очень удачно влились в жаркий, кричащий, грохающий ногами по булыжнику, ревущий медными трубами, полыхающий знаменами и красными платками поток рабочих…» ( Берггольц, 2014 : 413).
В высказывании обозначено несколько сенсорных модальностей: звуковая лексика взаимодействует со синэстезическим словосочетанием жаркий поток и поддерживается цветовой характеристикой (красный/жаркий).
С началом войны акустическая картина Ленинграда стала меняться [Пянкевич]. Новым звуковым маркером, как бы отрезавшим мирную жизнь города от военной, стал необычный звук-стук метронома, разносящийся из репродукторов «громко, беспощадно и мерно»14 и сопровождающийся стуком молотков. В сценарии «Л енинградская симфония» Берггольц писала:
«Во всем городе сухой стук молотков о дерево: то заколачивают окна, памятники, витрины… Стучит метроном, стучат молотки» ( Берггольц, 1988 : 191).
Показательно, что эту звуковую характеристику (мерный, механический стук) сентябрьского Ленинграда Берггольц соотнесла с Седьмой («Ленинградской») симфонией Д. Д. Шостаковича.
«И вдруг в стуке этом, — продолжала Берггольц в сценарии, — незаметно рождается шепот барабана: тот самый шепот, который внезапно возникает в первой части Седьмой симфонии. <…> и уже подсвистывает щемящий, механический лейтмотив первой части Седьмой — ее знаменитый марш» ( Берггольц, 1988 : 191).
Так, соносфера Ленинграда накануне блокадных испытаний была ассоциирована Берггольц с музыкой Шостаковича, сочинявшейся в том же хронотопе. «Память звука» породила метаморфозу, предложенную поэтессой в литературном киносценарии: из стука метронома/молотка рождается «шепот барабана» и «механический» лейтмотив первой части симфонии.
Необычные звукообразы — говорящие стены, характерные для пореволюционного Ленинграда, — присутствуют и в блокадном нарративе Берггольц. Проехав по осажденному городу и увидев покрытый плакатами, воззваниями и листовками забор, который показался поэтессе «живым куском истории», она рассказала об этом в радиопередаче 3 июня 1942 г.:
«Наши стены шепчут, бормочут, кричат : да, прямо на стенах пишется то, что должны знать граждане <…>. Одна кирпичная стена на Международном 15 огромными буквами кричит почти гекзаметром : "Не оставляйте детей возле горящих коптилок!"» 16 .
Любопытна и метафора шепчущей стены. Предполагаем, что она возникла по ассоциации с известным военным плакатом «Не болтай!» (художники Н. Ватолина и Н. Денисов), на котором была изображена женщина с предостерегающим жестом — поднесенным указательным пальцем к губам.
В «смертное время» — так называли ленинградцы самые страшные месяцы блокады Ленинграда конца 1941 — начала 1942 г.17 — в городе произошла определенная редукция сенсорики: не было шума транспорта (он стоял), не стало слышно детских голосов. «Всех приезжающих в Ленинград поражало это», — писала Берггольц ( Берггольц, 1989 : 308). С началом зимы в темное время суток зрительные образы стали вытесняться слуховыми.
Так, в стихотворении «Второе письмо на Каму» первый месяц блокады в городе (сентябрь) еще представлен во взаимодействии зрительных и звуковых образов:
«Ленинград в сентябре, Ленинград в сентябре… Златосумрачный, царственный листопад, скрежет первых бомбежек, рыданье сирен, темно-ржавые контуры баррикад» ( Берггольц, 2014 : 160) .
Если в этом тексте присутствует индивидуально-авторская колоративная лексика ( златосумрачный ) и составной цветовой эпитет ( темно-ржавые ), то в изображении зимы 1941 г. цветовые характеристики полностью отсутствуют, звуковое наполнение уже превалирует в тексте и дополняется осязательным признаком ( ледяное жилье):
«Ленинград в декабре, Ленинград в декабре!
О, как ставенки стонут на темной заре, как угрюмо твое ледяное жилье, как врагами изранено тело твое…» ( Берггольц, 2014 : 160).
«Темная заря» где-то за оконными ставнями (которые здесь — медиатор, граница между внутренним и внешним пространством), и в поэтическом высказывании акцентирован звук — стон . Редуцированная сенсорика блокадной повседневности была осознана и зафиксирована Берггольц позднее, уже в послевоенном стихотворении:
«Я знала мир без красок и без цвета.
Рукой, протянутой из темноты, нащупала случайные предметы, невиданные, зыбкие черты» ( Берггольц, 2014 : 219).
В поэме «Февральский дневник» воспроизведен образ блокады, стойко закрепившийся в сознании соотечественников: детские санки с поклажей, с завернутым в одеяло больным, обессилевшим ленинградцем или покойником. Однако и здесь зрительная картина предваряется характерным звуком — скрипом , который особенно выделяется в измененном шумовом пространстве Ленинграда, сигнализируя не просто о тяготах жизни горожан, но, в конечном счете, является звуком-маркером смерти:
« Скрипят, скрипят по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких, смешных, в кастрюльках воду голубую возят, дрова и скарб, умерших и больных…
Скрипят полозья в городе, скрипят …
Как многих нам уже недосчитаться!» ( Берггольц, 2014 : 164).
Звуки с негативной коннотацией — хруст, треск — слышатся в городе во время обстрелов:
«…и слышен хруст стены и плач стекла…» ( Берггольц, 1989 : 211).
В радиопередаче «Лето сорок третьего года (письмо за кольцо)» Берггольц говорила:
«…уныло свистят снаряды <…>, и я слышу, как хрустят стены города — враг ломает мой прекрасный город, увечит его. Нет ничего печальнее и душераздирающее этих звуков» ( Берггольц, 1989 : 225).
Звуки войны — свист, визг, лязг, скрежет — семантизированы в текстах Берггольц в негативном ключе и несут значение разрушения и гибели. Особенно показательно в этом отношении стихотворение «Европа. Война 1940 года», в котором используется прием повторения дисгармоничных фонем и с помощью синэстезического словосочетания голодный скрежет создается образ хищной железной птицы — ненасытной смерти:
«А над землею голодный скрежет железных крыл, железных зубов и визг пилы: не смолкая, режет доски железные для гробов.
Железный лязг и немая тишь, и день похож на тюрьму» (Берггольц, 2014: 131–132).
Тишина, которая устанавливается между бомбежками и обстрелами не радует, а томит — «коварная, зловещая тишина» прерывается взрывами и «скрежещущим шумом обвала». «И слышать это, — писала Берггольц, — было особенно больно» ( Берггольц, 1989 : 256). Семантика тишины в текстах Берггольц амбивалентна18. Так, после полного снятия блокады города в радиовыступлении под говорящим названием «В Ленинграде тихо» Берггольц акцентировала внимание на оппозиции звук — тишина , на желанном и долгожданном отсутствии звукового движения ночью:
«…можно спокойно, крепко спать ночью <…>, — писала она, — и проснуться на тихой-тихой заре живым и здоровым» ( Берггольц, 1989 : 256).
При этом тишина и беззвучие семантизированы у Берггольц по-разному: в экзистенциальном смысле беззвучие противопоставлено звуку как смерть жизни. Репрезентация сна о войне, который Берггольц описала в «Дневных звездах», именно такова: онирическое пространство беззвучно, а значит, мертво.
«Мне снится, как в воздухе появляются огромные летательные аппараты, похожие на дирижабли воздушного заграждения, — пишет Берггольц. — Они бесшумно движутся на меня, на мой го род. Тут гла вный страх в том, что все происходит бесшумно.
Это начало всеобщей гибели, и прежде всего в мире умер звук» ( Берггольц, 2014 : 491).
Лирическая героиня видит во сне огромный розовый дом, который рушится на нее:
«Я лежу навзничь, я смотрю на очень синее небо и вижу, как он (дом. — Н. П .) там бесшумно разламывается пополам, и розовые его стены начинают падать на меня. Гибель происходит в полной тишине. И если я даже крикну или попытаюсь застонать — меня никто не услышит: звук в мире уже не рождается. Планета глуха и нема» ( Берггольц, 2014 : 492).
Показательно, что сон наполнен цветом ( розовые стены, синее небо ), визуальная картинка прописана детально (лирическая героиня лежит на земле и смотрит в небо), но семантическую доминанту заключает в себе именно звуковая субстанция. И когда в сон «врывается звук», героиня просыпается и возвращается в «мир, звучащий миллионами звуков» ( Берггольц, 2014 : 492).
Звуком-знаком возвращения к жизни в то время, когда ситуация в городе стала налаживаться и уже ходил транспорт, был сигнал отбоя воздушной тревоги. После свирепых немецких обстрелов, особенно мучавших ленинградцев осенью 1943 г., возвращение обычного городского шума Берггольц описала с помощью экспрессивной лексики и синэстезического словосочетания серебряный голос фанфар:
«…на Старо-Невский высыпали люди, трамваи звякнули, задребезжали, залились звонками и скрежетом, побежали, громко сигналя, автобусы, все ожило, заговорило, зазвенело, казалось, даже пронзительно золотые лучи осеннего солнца заверещали над Старо-Невским, даже стекла в домах, голубевшие небом, даже асфальт под ногами — все было полно исступленно-веселого звона и гудения, а надо всем несся серебряный, чуть грустный голос фанфар…» ( Берггольц, 2014 : 434).
Возвращенный городской шум несет в себе жизнь.
Итак, звукообразы в творчестве Берггольц выполняют важнейшую смыслообразующую функцию. Слуховые ассоциации играют первостепенную роль при моделировании поэтессой художественного пространства. В повести «Дневные звезды»
именно звуковая метаморфоза православной молитвы раскрывает сакральный смысл религиозного экфрасиса — описания иконы св. прп. Серафима Саровского с сюжетом из его жития. Для Берггольц характерно чуткое восприятие аудиальной сферы Ленинграда — наиболее репрезентативного образа в творчестве поэтессы. Звуковой мир пореволюционного города представлен в необычных метафорах ( говорящие, кричащие стены, вопиющий камень). Блокадный нарратив содержит звуки-символы разрушения, гибели и смерти ( скрип, скрежет, хруст, визг, лязг ); в изображении Ленинграда декабря 1941 г. акцентирован звук стон . Семантика тишины в текстах Берггольц амбивалентна, а беззвучие в экзистенциальном смысле противопоставлено звуку как смерть жизни.
Список литературы Звукообразы в поэтике О. Ф. Берггольц
- Будько Н. Б. Музыкальный экфрасис народной песни: на материале рассказа И. С. Тургенева «Певцы», повести В. Г. Короленко «Слепой музыкант», рассказа А. И. Куприна «Гамбринус» // Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования: избр. тр. междунар. конф. (20–24 октября 2015 г.). Барнаул: АлтГУ, 2015. С. 225–233 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24936627 (13.12.2023). EDN: UZRXAJ
- Васильева Т. В. Сенсорная поэтика анималистической прозы В. П. Сысоева // Формирование профессиональной компетентности филолога в поликультурной образовательной среде: мат-лы II Междунар. науч.-практ. конф. (21–22 ноября 2019 г., г. Евпатория). Симферополь: Изд-во А. А. Корниенко, 2019. С. 58–61 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41507346 (13.12.2023). EDN: UUWLIM
- Забияко А. А. Синэстезия: метаморфозы художественной образности. Благовещенск: АмГУ, 2004. 215 с.
- Комисарук Э. Современные исследования звукового ландшафта в литературном произведении (на примере славянских культур) // Девятые и Десятые Андреевские чтения: сб. ст. по материалам XLVI и XLVII Междунар. филол. конф. (13–22 марта 2017 г., 18–28 марта 2018 г.). СПб.: ВВМ, 2018. С. 88–99.
- Ляпина Л. Е. Поэтика сенсорного восприятия в русской лирике XIX в. // Славянские чтения. Даугавпилс; Резекне: Изд-во Латгальского культ. центра, 2005. Вып. 4. С. 136–141.
- Ляпина Л. Е. Сенсорная поэтика в русской литературе XIX века: опыт изучения. Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2014. 169 с.
- Ляпина Л. Е. К исторической поэтике сенсорных характеристик // Вестник Череповецкого государственного университета. 2016. № 3 (72). С. 52–53 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26154613 (13.12.2023). EDN: WAIWON
- Николаева Т. М. Звуки, которые слышат только поэты // Николаева Т. М. От звука к тексту. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 449–462.
- Прозорова Н. А. Поэтология Ольги Берггольц: рефлексия и авторская стратегия // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 2. С. 353–372 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1620231242.pdf (13.12.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2021.8482
- Прозорова Н. А. Семантика молчания в поэтике О. Ф. Берггольц // Проблемы исторической поэтики. 2023. Т. 21. № 3. С. 208–227 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1694543322.pdf (13.12.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2023.12682. EDN: QLOAAL
- Пянкевич В. Л. «Симфония войны». Звуки и тишина блокадного Ленинграда в восприятии горожан // Петербургский исторический журнал. 2019. № 3. С. 130–154 [Электронный ресурс]. URL: https://hist.spbiiran.ru/wp-content/uploads/2019/11/10-1.pdf (13.12.2023). DOI: 10.24411/2311-603Х-2019-00053
- Редькина Н. С. Колоративная лексика в составе фразеологических оборотов // Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина: вековая история как фундамент дальнейшего развития (100-летнему юбилею РГУ им. С. А. Есенина посвящается): мат-лы науч.-практ. конф. преподавателей РГУ им. С. А. Есенина по итогам 2014/15 учебного года. Рязань: РГУ им. С. А. Есенина, 2015. С. 790–796 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24835859&pff=1 (13.12.2023). EDN: UXMOJL
- Рогачева Н. А. Ольфакторное пространство русской поэзии конца XIX — нач. XX веков: проблемы поэтики. Тюмень: Изд-во Тюменск. гос. ун-та, 2010. 403 с.
- Фарино Е. Введение в литературоведение = Wstepdoliteraturoznawstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. 646 с.
- Чернова С. К. Варианты русского религиозного экфрасиса: постановка проблемы // Череповецкие научные чтения — 2012: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (7–8 ноября 2012 г.): в 3 ч. / отв. ред. Н. П. Павлова. Череповец: ЧГУ, 2013. Ч. 1. С. 198–201 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=tprjtp (13.12.2023). EDN: TPRJTP
- Эпштейн М. Н. Тело на перекрестке эпох. К философии осязания // Вопросы философии. 2005. № 8. С. 66–81 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=hsgeez (13.12.2023). EDN: HSGEEZ
- Komisaruk E. Audiosfera oblężonego Leningradu (na materiale “Dzienników” Olgi Bergholc i “Zapisków człowieka oblężonego” Lidii Ginzburg) // Przegląd Rusycystyczny. 2014. No. 4. S. 27–38 [Электронный ресурс]. URL: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3622 (13.12.2023). (a)
- Komisaruk E. Cisza i milczenie w pejzażu dźwiękowym oblężonego Leningradu (na podstawie diariusza Olgi Bergholc i “Zapisków człowieka oblężonego” Lidii Ginzburg) // Slavia Orientalis. 2014. No. 4. S. 565–576 [Электронный ресурс]. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=95722 (13.12.2023). (b)