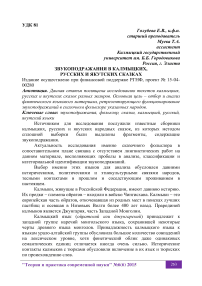Звукоподражания в калмыцких, русских и якутских сказках
Автор: Голубева Е.В., Муева Т.А.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 6 (6), 2015 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена исследованию текстов калмыцких, русских и якутских сказок разных жанров. Основная цель - отбор и анализ фактического языкового материала, репрезентирующего функционирование звукоподражаний в сказочном фольклоре указанных народов.
Звукоподражания, фольклор, сказки, калмыцкий, русский, якутский языки
Короткий адрес: https://sciup.org/140266955
IDR: 140266955
Текст научной статьи Звукоподражания в калмыцких, русских и якутских сказках
Источником для исследования послужили известные сборники калмыцких, русских и якутских народных сказок, из которых методом сплошной выборки были выделены фрагменты, содержащие звукоподражания.
Актуальность исследования именно сказочного фольклора в сопоставительном плане связана с отсутствием лингвистических работ на данном материале, восполняющих пробелы в анализе, классификации и категориальной идентификации звукоподражаний.
Выбор именно этих языков для анализа обусловлен давними историческими, политическими и этнокультурными связями народов, тесными контактами в прошлом и соседствующим проживанием в настоящем.
Калмыки, живущие в Российской Федерации, имеют давнюю историю. Их предки – племена ойратов – входили в войско Чингисхана. Калмыки – это европейская часть ойратов, откочевавшая из родных мест в поисках лучших пастбищ и осевшая в Низовьях Волги более 400 лет назад. Прародиной калмыков является Джунгария, часть Западной Монголии.
Калмыцкий язык ( ойратский или джунгарский ) принадлежит к западной группе наречий монгольского языка, сохранившей некоторые черты древнего языка монголов. Принадлежность калмыцкого языка к языкам урало-алтайской группы обусловила большое количество совпадений на лексическом уровне, хотя фонетический облик даже одинаковых семантических единиц отличается иногда очень сильно. Исторические контакты калмыков с тюрками обусловили включение в их язык и тюркских по происхождению слов.
Якутский язык принадлежит к тюркской группе языков, хотя по разным данным в якутском языке от 25% до 40% слов являются монголизмами.
Влияние русского языка на калмыцкий проявляется в активном процессе прямого заимствования и калькирования, что восполняет отсутствие слов в лексическом корпусе языка на определенные буквы. Так, в калмыцком языке в прошлом отсутствовали слова на буквы «р», «ф», а сейчас в современном калмыцко-русском словаре на эти буквы приводятся заимствованные из русского языка лексемы.
Таким образом, языковое взаимовлияние обусловлено не только общностью языковой группы, но и тесными историческими контактами и совместным проживанием на определенной территории.
Языковые изменения, процессы развития и становления языков лингвисты могут отслеживать посредством анализа различных системных единиц, фиксирующих ту или иную форму языка. С этой точки зрения уникальными по своим свойствам, особенностям появления и бытования являются фольклорные тексты больших и малых жанров.
Сказки являются отражением реальной действительности, они фиксируют знания народа о мире, указывают на мечты человека о лучшей жизни, об идеальном обществе, поступках человека, категориально членят мир, акцентируют внимание на народных ценностях.
Звукоподражания как результат освоения человеком звуковой картины мира есть и в фольклоре, что видно из отобранных примеров.
В фольклорном произведении «Семьдесят одна небылица» на русском языке встречаем звукоподражание: « Придя домой, я сварил своих уток в котле без воды, на тагане без огня, поел и лег отдохнуть. Лежу и слышу, где-то что-то тикает: тик-тик-тик. Что бы это значило? » [Калмыцкие сказки, 1962: 41]. В бытовых калмыцких сказках звукоподражания встречаются редко, но в ходе сбора языкового материала удалось найти следующие примеры.
В сказке «Два обманщика» встречаются звукоподражательные слова и звукоподражания: « Оставшийся обманщик проснулся, разодрал наклейки на глазах и пустился бежать. Бежал, бежал, остановился. Два, три раза заржал он как лошадь. Услышав, что ржет «лошадь», второй обманщик вернутся назад, стал звать лошадь к себе: «трпс, трпс » [Калмыцкие сказки, 1962: 68].
В сказке «Мудрец и гелюнг»: « Гелюнг говорит: - Журавли - птицы благородные, они щиплют в степи только душистую сочную травку эревни. Потому они и кричат так ласково, приятно: крык, крык, крык! » [Калмыцкие сказки, 1962: 114].
« Сирота-голыш отвечает: - Журавли не щиплют никакой сочной травки эревни, журавли лазят в грязном болоте и едят лягушек, потому они так и кричат: курлы, курлы! » [Калмыцкие сказки, 1962: 115].
В сказке «Злобный хан»: « - Нет, - отвечает парень, а сам вытащил нож из-за пояса, камень придвинул, точит нож, пальцем лезвие пробует -остер ли? Скряб! Скряб! » [Калмыцкие сказки, 1962: 123].
« Подошел парень к дверям загона, взял в руки охапку сена свежего и зовет: - Тпр-э-э, тпр-э-э-э, тпр-э-э! » [Калмыцкие сказки, 1962: 125].
« Парень наш тем временем нарубил дров, нагрузил ими телегу и за медведей взялся. Впряг их вместо быков, вскочил на телегу - и в путь-дорогу. Скорей быков довезли медведи телегу до ханской кибитки. - Тпр-у-ру! Тпр-р-ру! - кричит парень» [Калмыцкие сказки, 1962: 125].
В калмыцких волшебных сказках также встречаются следующие примеры использования звукоподражаний в фольклорном тексте.
В сказке «Богдо-Араши»: «- Брат, ты оставайся тут, я управлюсь с ним и один, - и соскочил с лошади, подобрал тюленьи свои брюки до карманов, засучил рукава до плеч, посмотрел на Хазан-Тоша своими быстро ястребиными глазами, и схватились они бороться с шумом «таш-баш», перебирая руками, кружась, припадая в разные стороны, выбрасывая по куску мяса, величиною с чашку » [Калмыцкие сказки, 1962: 154].
В сказке «О девушке, ставшей царицей, и о ее одиннадцати сыновьях» встречаем звукоподражание: « Сын обернулся воробышком, сказал матери: – Чик-чирик! Чик-чирик! - и полетел » [Калмыцкие сказки, 1962: 163].
В сказке «Богатырь Хорца»: « - Хаб-хаб! - застучали у них зубы » [Калмыцкие сказки, 1962: 202].
« - Таш-баш! - ухватились они за красные кушаки и ну локтями жать на становые хребты, хребты богатырские » [Калмыцкие сказки, 1962: 202].
« - Ташир-башир! - через голову друг друга перебрасывали »
[Калмыцкие сказки, 1962: 203].
В сказке «Два брата»: « На второй день на одноколке, запряженной девятью парами волов, приехал двадцатипятиголовый мус. Он кричал: «Шир!», «шир!» - шел дождь; кричал: «Бур!», «бур!» - кружил снег » [Калмыцкие сказки, 1962: 223].
В калмыцких сказках о животных часто встречаются звукоподражания, которые воспроизводят звуки, издаваемые животными.
В сказке «Братья мыши»: « - Хап! - лязгнул зубами волк, схватил старшего братца и проглотил его. Обомлел от страха младший брат, а волк тут как тут: - Хап! - и младшего братца проглотил » [Калмыцкие народые сказки, 1962: 301].
« - Хап! - и снова очутился братец в горле волка » [Калмыцкие народные сказки, 1962: 302].
« - Курлы-курлы! Крик-крук! - взмахнул журавль крыльями, полетел к мыши [Калмыцкие сказки, 1962: 303].
« Бряк! - упал волк наземь и издох » [Калмыцкие сказки, 1962: 304].
Примеры звукоподражаний, которые встречаются в отрывках из калмыцких сказок, можно считать заимствованиями из русского языка.
В сказке «Веселый воробей»: « - Чик-чирик! Чик-чирик! » - С утра до вечера порхает воробышек [Калмыцкие сказки, 1962: 304].
В сказке «Злая ворона»: « - Кар-кар! Я тебя, я тебя. Кар-кар! » [Калмыцкие сказки, 1962: 308].
В сказке «Петух и павлин»: « Прошел день. Прошла ночь. Ждет петух павлина. Но павлина нет. Стал беспокоиться петух. Не выдержал петух, закричал: -Ку-ка-ре-ку! » [Калмыцкие сказки, 1962: 311].
В якутских народных сказках встречаются звукоподражания.
В сказке «Медведь и лиса» встречаем интересное звукоподражание: «– Мин саамай улаханнык ити дулħа быыһыттын «ньаас» диэн баран көтөр кыылтан куттанабын уоннф туохтан да куттаммаппын, - диир эhэ» Якутские народные сказки, 2008: 110].
«- Больше всего я боюсь вот этого зверя (о бекасе), вылетающего из кочек с криком «ньаас», - а больше ничего не боюсь! - говорит медведь » [Якутские народные сказки, 2008: 111].
В сказке «Лиса и журавль» звукоподражание переводится с якутского языка на русский при помощи эквивалента: « Сакыл туран: - Сик-Сик Сиксиллээйи буолла » [Якутские народные сказки, 2008: 112]. « Лиса говорит: - Трях-Трях Трясушка дали (имя) » [Якутские народные сказки, 2008: 113].
« Саhыл: - Кирээ-Кирээ Кирээhэ буолла » [Якутские народные сказки, 2008: 114]. « Лиса: - Скряб-Скряб Поскребушка дали (имя) » [Якутские народные сказки, 2008: 115].
Журавль в якутских сказках в отличие от журавля в калмыцких сказках издает следующие звуки, не переводимые на русский язык:
« Туруйа: - Тууй-иэ, mYвкYн, тоНо кураанах буоларый?! - диэн бээтэ кэкэрдээн тасхар. - Тууй-иэ, тYвкYн, бэйэн сиэн кээhэн баран’н’ын! - Туруйа этэр» [Якутские народные сказки, 2008: 114]. «Журавль: - Тууй-иэ, обманщица, отчего ему быть пустым?! - сказал и, вытянув шею, вышел сам. - Тууй-иэ, обманщица, сама же и съела! - журавль сказал [Якутские народные сказки, 2008: 115].
В сказке «Птица Тюёнэн с четырьмя яйцами»: « Түөт сыымыттаах ТYeнэн кыыл, ытаан-ытаан баран, биир сыымытын т^эрэн биэрбит. Ону саhыл хар-кур ыстаан сиэн баран, баран-баран хаалбыт » [Якутские народные сказки, 2008: 118]. « Поплакала-поплакала птица Тюёнэн с четырьмя яйцами и сбросила одно свое яйцо. Лиса его с хрустом сжевала и убралась » [Якутские народные сказки, 2008: 119].
В сказке «Чирок и беркут»: « Күнүүлү санаан, «чус!» гэна ыһыытаан баран, көтөн «тирт» гынан хаал. Мантан барыллыа тойон соһуйан «һуй!» диэн өрө көтө түспүтүгэр, уйата самнан, суугунаан түспүт » [Якутские народные сказки, 2008: 126]. « Ревнуя, вскрикнул «чус!» - и тут же взлетел. От этого беркут-тойон вздрогнул, вскрикнув «суй!», взметнулся - гнездо его с треском свалилось » [Якутские народные сказки, 2008: 127].
В сказке «Пташка и мангыс»: «Онуоха ол ыт киитэ үлтү баран, халлаан mYeрm мун’нугар «чалып (чачып)» диэн («чып-чап» гынан), кетер ингин араа^шайа буолан - кennYm YhY» [Якутские народные сказки, 2008: 138]. «Тогда тот собачий помет, раскрошившись, превратился в разных птиц и со звуком «чалып (чачып)», (щебеча «чып-чап») разлетелись они во все четыре стороны неба, говорят» [Якутские народные сказки, 2008: 139].
В якутской волшебно-фантастической сказке «Чаачахаан-чаачахаан»: « Онуоха эмээхсинин иһиттэн инньэлээх сүүтүк тыаһа сиргэ кэлэн «кылыр» гына түһэр » [Якутские народные сказки, 2008: 166].« Тогда послышался звон - «бряк» - на землю из живота его старухи выпали наперсток и игла» [Якутские народные сказки, 2008: 167].
В сказке «Лыыбара»: « Онтон Ангаа Монгус eрYhY ойон иуэн, eрYс саамай ортотугар «чолк!» кына түһэн иһэн кэриэс эппитэ » [Якутские народные сказки, 2008: 176]. « Затем Ангаа Монгус, через реку перепрыгивая, на самой середине реки «чолк!» - падая, сказал » [Якутские народные сказки, 2008: 177].
В сказке «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами»: « Иньньэ диирин гытты, ун’а холумтаны «топ-топ» гына охсон баран, биир дьиэмэх ытарНаны салыгыр гына mYhэрэр. Холумтанын гиэнин «лон’-лон’» тонсуйар - биир бикилэНи лан’кыр гына mYhэрэр » [Якутские народные сказки, 2008: 202]. « Только сказала - в правый шесток «топ-топ» постучав, одни медные серьги с подвесками со звоном бросила. В печной шесток «лонг-лонг» постучав, одно медное кольцо с бряканьем уронила » [Якутские народные сказки, 2008: 203].
В русских сказках звукоподражания встречаются намного чаще.
В сказке «Лисичка-сестричка и волк»: « Стук, стук, стук! - стучится она (лиса) в избу к другому мужику » [Русские народные сказки, 1985 (I том): 12].
В сказке «Лиса, заяц и петух»: «Идет дорогой зайчик да плачет, а ему навстречу собаки: «Тяф, тяф, тяф! Про что, зайчик, плачешь?» [Русские народные сказки, 1985 (I том): 26]. «Петух третий раз: «Кукареку! Несу кому на плечи, хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!» [Русские народные сказки, 1985 (I том): 27].
В сказке «Морозко»: «Старик поехал. А собачка под столом: «Тяв, тяв! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину женихи не берут» [Русские народные сказки, 1985 (I том): 116].
В сказке «Баба-яга» встречается необычное звукоподражание, обозначающее лай собаки: «Подъезжают они к своей деревне, а дома собачка так и рвется: «Хам, хам, хам! Барыню везут, барыню везут!» [Русские народные сказки, 1985 (I том): 124].
В сказке «Лиса-плачея»: «Идет (старик), а навстречу ему медведь: «Куда, старик, пошел?» - «Плачеи искать, старуха померла». - «Возьми меня в плачеи». Старик спрашивает: «Умеешь ли плакать?» Он заплакал:
«м-е!» Старик говорит: «Не умеешь, не надобно, голос нехорош» [Русские народные сказки, 1985 (I том): 34].
В сказке «Терешечка»: « Терешечка опять кричит: «Гуси-лебеди! Возьмите меня, посадите меня на крылышки, донесите меня к отцу, к матери; там вас накормят-напоят», - «Ка-га! - отвечают гуси » [Русские народные сказки, 1985: 147].
В сказке «Князь Данила-Говорила»: « Бежали-бежали, глядь назад, а злодейка выдралась, увидала их и посвистывает: «Гай, гай, гай, вы там -то! » [Русские народные сказки, 1985: 151].
Таким образом, анализ текстов калмыцких, якутских и русских сказок показал, что в фольклоре используются разные звукоподражания и звукоподражательные слова. Несмотря на то, что калмыки, как и якуты, живут в соседстве с русскими на протяжении многих столетий, в сказках данных народов состав звукоподражаний различается сильно. Влияние русского языка на лексическом уровне проявляется по-разному. Якутские сказки сохранили свой индивидуальный колорит и национальноспецифические особенности в использовании звукоподражательных единиц. Так, в текстах анализируемых якутских сказок звукоподражания переводились с использованием средств русского языка (например: якут.: кылыр - русск.: бряк ; якут.: сик-сик - русск.: трях-трях ), но чаще оставались в неизменном виде (например: якут.: чолк - русск.: чолк ; якут.: тууй-иэ -русск.: тууй-иэ, якут .: чалып (чачып), («чып-чап») - русск.: чалып (чачып), («чып-чап»).
В калмыцких сказках некоторые звукоподражания совпадают с русскими единицами. Такой перенос обусловлен многими факторами. Во-первых, в калмыцком фольклоре звукоподражания чаще встречаются в сказках о животных. Данная разновидность сказок является более поздней по сравнению со сказками богатырскими или волшебными, так как в самостоятельную группу исследователи ее порой не выделяют.
Различный тип хозяйственной деятельности, географические и климатические условия проживания народов, традиции и обычаи, тотемные представления обусловили частотность упоминания ряда животных и птиц, которых разводили или на которых охотились представители определенного этноса. Кочевое скотоводство, которым жили калмыки, предусматривало разведение четырех видов скота: овец, лошадей, коров и верблюдов; свиней калмыки не держали, поэтому в исследованных сказках отсутствует образ свиньи. Также кочевые в прошлом народы (монголы, калмыки) негативно относились к кошке, считая ее неполезным животным, а иногда и представителем нижнего (потустороннего) мира. Калмыцкие звукоподражания, обозначающие звуки, производимые некоторыми животными, совпадают по своему облику с русскими. Так, в калмыцкой сказке ворона каркает по-русски: кар-кар ; часы тикают тик-так ; петух кричит ку-ка-ре-ку!
Жанр сказок, которые когда-то бытовали в устной форме, передаваясь в народе из уст в уста, предполагает обязательное влияние языковой личности самого рассказчика на озвучиваемый текст. Это объясняет наличие определенных авторских экспрессивно-окрашенных слов, использование единиц, свойственных живой разговорной речи. Возможно, поэтому некоторые сказочные звукоподражания, выделенные в ходе анализа, в такой форме нигде больше не встречаются.
Некоторые калмыцкие звукоподражания и звукоподражательные слова передаются авторами-переводчиками как междометия, теряя при этом свой звукоподражательный характер, это создает трудности в определении частеречной принадлежности подобных слов.
Анализ текстов калмыцких, русских и якутских сказок показал, что художественная речь – это основная сфера употребления звукоподражаний, в которой они часто встречаются. Максимальное воздействие на слушателей достигается путем создания в фольклорных текстах ярких образов и картин, что становится возможным при использовании экспрессивных, оценочных слов и звукоподражаний.
Список литературы Звукоподражания в калмыцких, русских и якутских сказках
- Калмыцкие сказки: сборник на калм. яз. / Сост. В.Д. Бадмаева. Элиста: Издательский дом «Герел», 2009. 440 с.
- Калмыцкие народные сказки / под ред. И.К. Илишкина, У.У. Очирова. Элиста: Калмгосиздат, 1962. 331 с.
- Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В 3 т. М.: Наука, 1985-1986.
- Якутские народные сказки / Сост. В.В. Илларионов, Ю.Н. Дьяконова, С.Д. Мухоплева и др. Новосибирск: Наука, 2008. 462 с.