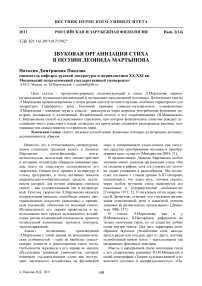Звуковая организация стиха в поэзии Леонида Мартынова
Автор: Павлова Наталия Дмитриевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - продемонстрировать наличествующий в стихе Л.Мартынова лирико-музыкальный, музыкально-ритмический и музыкально-мелодический потенциал. Поэтические тексты Л.Мартынова проанализированы с точки зрения синтеза поэзии и музыки, особенно характерного для литературы Серебряного века. Основной принцип словесно-музыкального «симфонизма» Л.Мартынова - единение звука и смысла - реализуется через широкое употребление фонемных повторов, ассонансов и аллитераций. Излюбленный поэтом и его современниками (В.Маяковским, С.Кирсановым) способ ассоциативного сцепления, при котором фонетическое созвучие рождает ассоциацию чисто смыслового плана, позволяет им причудливо соединять разнородные явления, подчеркивая тем самым новизну и странность мира.
Синтез, звуковое уподобление, фонемные повторы, аллитерация, ассонанс, ассоциативность образов
Короткий адрес: https://sciup.org/14728987
IDR: 14728987 | УДК: 821.161.09"1917/1992"
Текст научной статьи Звуковая организация стиха в поэзии Леонида Мартынова
Известно, что в отечественном литературоведении сложилась традиция видеть в Леониде Мартынове поэта-философа, поэта-интеллектуала, вследствие чего многие критики и историки литературы обращали внимание прежде всего на смысловую составляющую его творчества. Однако поэт пришел в литературу в «эпоху футуризма», в эпоху активных поисков выразительно-изобразительных средств, источником которых для поэзии априорно считался синтез – как художественный, так и литературный. Поэтому творчество Л.Мартынова является посредующим началом, способным связать пространственное искусство (живопись) с временным (музыкой), обеспечив их искомый синтез. Музыкальность его лирики проявляется в использовании всех средств музыкального воздействия: ритма, аллитераций и ассонансов, приемов музыкальной композиции, звуковых повторов, звукоподражаний.
Анализ поэтических произведений Л.Мартынова с точки зрения их фоносемантических особенностей – один из наиболее существенных аспектов в рассмотрении стиля поэта. Особенности звукописи в его лирике во многом обусловлены влиянием символистов, которые понимали «художественное слово как инструмент магического воздействия на физический мир» и воспринимали слово-символ как «могучее средство преображения человека и преобразования всего сущего» [Минералова 2004: 31].
В произведениях Леонида Мартынова особое значение имеет звуковая организация стиха. Она не сводима к рифме, хотя эта сторона его поэтики также узнаваема и разнообразна. Мы полностью согласны с точкой зрения Б.П.Гончарова, полагающего, что через звук, «точнее сказать, через особое звучание стиха выявляются его смысловые и содержательные особенности» [Гончаров 1973: 5]. О звукописи поэта верно писал В.Дементьев, отмечая, что «звуковая организация стихотворной речи в известной степени заменяет ее ритмическую организацию» [Дементьев 1986: 257].
В стихах Л.Мартынова, как и у В.Маяковского, Б.Пастернака, рифмуются не только окончания строк, но по существу любые слова внутри текста. Для него характерно своеобразное звуковое уподобление слов, находящихся рядом или поодаль друг от друга, поэтому излюбленный прием поэта – использование так называемых фонемных повторов.
Мысль о неразрывной связи интонации стиха с его содержанием развивает Ю.И.Минералов в своей монографии «Теория художественной словесности (поэтика и индивидуальность)»: «На-
глядное повторение (то есть воспроизводство ) в разных словах некоего общего фонемного комплекса превращает этот комплекс в целостную единицу, которая обладает собственной семантикой, содержит понятный “картинный” образ…» [Минералов 1999: 265]. Л.Мартынов создает новый конструктивный принцип смысловой организации. Перед нами восходящий к В.Хлебникову перенос центра тяжести «с вопроса о звучании на вопрос о смысле», явно ощутимая попытка создать «новый строй, исходя из случайных смещений» [Тынянов 1928: 25].
Рассмотрим с этой точки зрения стихотворение Л.Мартынова «Между домами старыми…» (1922). Семнадцатилетний поэт по-блоковски слушает «музыку революции»:
Между до м а м и ста р ы м и,
Между за бор а м и бур ы м и,
Меж ск р ипучи м и т р отуа р а м и
Бро не м ашина движется. (1: 16)1
Аллитерация звуков «р» и «м» , повтор однородных грамматических конструкций, анафорически соединенных предлогом «между» / «меж» , синкопированный ритм, формируемый использованием трехиктного дольника с женскими клаузулами, – все это порождает акустическую иллюзию рокота эпохи, тяжелого движения, скрежета бронемашины, управляемой «славным шофером-Революцией». А благодаря повторению в разных словах похожих фонемных комплексов «бор-бур-бро» , легших в основу диссонансной рифмы ( заборами – бурыми ), возникает некий ассоциативный образ (нечто, имеющее отношение к бору, северному ветру борею, буре и броне).
Рокот эпохи мы слышим и в более позднем стихотворении «Во дни переворота» (1967):
… го р од
Как будто бы р а ск олот и р аспо р от
В часы, когда зв енели, зв е зд енели
Р асшибленные ст екла на панели. (2: 191)
Использование аллитерации звуков и звуковых комплексов «р» , «зв» , «зд» , «ст» , «ск» , а также внутренней рифмы ( расколот – распорот , звенели – звезденели – на панели ) создает иллюзию звона стекла и цокота копыт.
В стихотворении «31 декабря 1950 года» аллитерация сонорных «р», «м», «н» и повторяющиеся трехфонемные комплексы «лом» рождают ассоциацию с завыванием вьюги, звоном ломающихся веток:
Декаб р ьский вих р ь р евет в а н те нн ах,
Зве н ит в зе р не, шу р шит в со лом е,
Лом ает хво р ост в бу р е лом е… (1: 266)
А в основе стихотворения «Подземный водолаз» – мастерски оркестрованный «голос» природы, вязь аллитераций («уводят воду», «шеле- стят…пошевели», «опомнись и умом…томимый», «каждой жадный», «без рук…без рек» (2: 263)), благодаря которым возникает ощущение шелеста листьев, журчания струй, сливающихся в обращенное к человеку заклинание, своеобразного соположения плотности, материальной прочности и струйности, легкости, проницаемости воды.
Таким образом, мы видим, что в звуке Л.Мартынов, как поэт-экспериментатор, видел источник смыслопорождения, в котором заключается механизм композиции и инструментовки как основных принципов организованности художественного целого.
Ярким примером подобной музыкальной ассоциативности образов является и стихотворение «Январка» (1932):
Рано встал ледо кол на при кол ,
Снег замел ледо кол и мол.
От мороза в порту лопнул кол о кол ,
Волка ранило кол о кол а ос кол ком… (1: 63)
Поэт мастерски соединяет в пределах одной строфы созвучные, но далекие в семантическом плане слова; и колокол совершенно органично превращается в сложное слово с удвоенным корнем - кол - в значении «колоть». Ва луны же могут быть «на холодную бухту на вал ены» только с «январской луны », а про вода способны гудеть, как не вода . Стихотворение представляет собой по сути многоголосную фугу. Одна мелодия незаметно рождает другую и перетекает в третью, чему во многом способствует употребление внутренней ( ледокол – прикол, ледокол – и мол, колокола – осколком ) и сквозной ( прикол – мол – колокол – осколком ) рифм. И вот перед нами уже сама Январка со своей музыкальной партией:
Хотя и далеко вато , но я надела костюм из космической ваты и опустилась из созвездия Ориона сюда.
Провода оказались солоноваты, нет, зачеркните – они показались мне сладковаты,
И я нечаянно перекусила их, не думая, Что случится беда.
Мне понравились ваши чудесные города. (1: 64)
Мелодия строится на внутренней прорифмо-ванности строк, включающих слова с четырехфонемными повторами ( далековато – ваты – солоноваты – сладковаты ). Помимо этого рифмуются конец третьей строки, начало четвертой, конец седьмой и восьмой строк ( сюда – Провода – беда – города ).
Не менее интересно в звуковом отношении стихотворение «Намедни» (1974), в котором
Мартынов сталкивает слова с трехфонемными корневыми комплексами:
А что
Так мед ово
Плывет –
Не звезда ль?
Нет!
Мед ное слово
Звенит, как мед аль. (2: 511)
Таким образом, поэт возводит значение слова «намедни» к словам «медь», «мед», «медаль» , в то время как они между собой семантически никак не связаны. Речь идет только о звуковом единстве, рождающем ассоциацию семантической близости.
Композиторское умение Мартынова в звуке передавать и внешний, и внутренний мир приводит к тому, что подчас звучание, а не привычное значение определяет у поэта отбор этих образов. Обратимся в этой связи к двум стихотворениям – «Усталость» (1950) и «Томленье» (1962).
Мелодика первого стихотворения создается путем нагнетания четырехфонемных повторов: «от стал ость навер стал ась», «о стал ась… у стал ость», «у стал ость разра стал ась», «у стал ость распла стал ась». Повторяя четырехфонемный комплекс - стал - , поэт создает подобие однокоренных слов. Само слово «усталость» звучит в стихотворении шесть раз. Данные повторы наряду с использованием разностопного (2-3) ямба, чередованием мужских и женских клаузул создают своеобразный ритм, ритм неровного биения сердца уставшего человека.
В стихотворении «Томленье» возникает иной словесный образ. И вновь Л.Мартынов играет фонемами, повторяя в словах «о лень е», «том лень е», «по лень я», «исце лень я», «расщеп лень ю» четырехфонемный комплекс - лень - , создавая тем самым эффект звукового уподобления слов. В результате такой фонетической игры достигается семантическое сближение разных по лексическому значению слов: томленье (т. е. изнуренность) и лень (т. е. безделье). Томленье – существительное, образованное от глагола «томиться», то есть маяться, изнывать.
Здесь, безусловно, влияние не только футуризма, но и имажинизма, провозгласившего, что поэтическое произведение – непрерывный ряд образов, являющихся самоцелью. Образ может таиться в корне слова, содержание – в окончаниях.
Л.Мартынов стремится к совершенствованию техники и доходит до того предела, за которым поэтика подчиняет себе тематику, не отменяя ее. Обратимся к стихотворению «Вода» (1946), представляющему собой своеобразную притчу о сути поэтического творчества, скрытый творче- ский диалог с Б.Пастернаком, переданный в интонации, ритме, лексике (см. стихотворение «О, знал бы я, что так бывает»). И это не случайно. В своем стихотворении Л.Мартынов бросает вызов некой рафинированности, «демонстративной изысканности» («Вода / Благоволила / Литься»), театральности, «чистой воде», которой не хватало «быть волнистой», «течь везде», т.е. не хватало изменяемости, движения. «Ей жизни не хватало – / Чистой / Дистиллированной / Воде!» (1: 176), а значит, и пастернаковской «полной гибели всерьез».
Тончайшая музыкальная нюансировка стихотворения поставлена на службу смыслу, четкому выводу. Стихотворение необычайно музыкально изысканным подбором и построением рифм, а графическое членение текста, своеобразный футуристический «рваный» синтаксис только подчеркивают внутреннюю прорифмованность строк, создаваемую двухфонемными повторами: «Благово ли ла», « Ли ться», «б ли стала». В свою очередь, путем четырехкратного повторения слова «не хва тало » в сочетании со словом « тала » достигается эффект уподобления слов. Л.Н.Мартынов прибегает к этому приему, чтобы развенчать формализм в любых его проявлениях. При помощи «обратной метафоры» поэт опровергает то, что имеет видимость, но не является таким по существу: дистиллированная вода имеет подобие чистой колодезной или речной воды – она «жизнеподобная», но не живая, не жизненная. Дистиллированной воде не хватает «го р ечи цветущих лоз», «водо р ослей», « р ыбы, жи р ной от ст р екоз», чтобы стать полноводной рекой. Важны здесь, на наш взгляд, аллитерации сонорного «р», создающие жесткую музыку реальной жизни.
Рифма в стихотворении связывает по несколько метрически однородных строк. Четкость внутренней организации строки (заданность ее членения) дает Л.Мартынову возможность располагать ритмические звенья столбиком, который удивительно точно отвечает внутренней напряженности переживания, уравновешивая по значению длинные и короткие отрезки стиха. Текст написан четырехстопным ямбом. Единственным средством, с помощью которого поэт разрушил инерцию традиционного размера, оказываются тщательно продуманные графические способы интонирования. Л.Н.Мартынов сохраняет здесь и обычную перекрестную рифмовку. Выделено во второй строфе «Блистала», также дающее созвучие (не хватало – тала – блистала), хотя и ослабленное, благодаря расстоянию между рифмующимися единицами. Поскольку каждое стоящее в графической строке слово оказывается речевым тактом, отчетливее становятся и аллитерации (Благоволила / Литься), и перекличка слов, одинаково оформленных грамматически (Чистой, / Дистиллированной / Воде!). Связи между рядами, которые в симметрично построенных стихах не были бы столь заметны, становятся связями, представленными графически, а значит, и подчеркнутыми интонационно.
Общая музыкальная тональность ощутима и в стихотворении «Олива» (1956). Конкретно она воплощена в попытке «по-музыкальному» обращаться с самим первоэлементом поэзии – словом – и с поэтической фразой: в троекратном повторении слова «олива» в начале стихотворения, создающем эффект заклинания, в богатой звукописи. Звуковой комплекс «р»-«щ»-«ш»-«к» создает жесткую, резкую мелодию жизни:
-
1. «…И слы ш атся ш умы в эфи р е…» (1: 373).
-
2. «…Пет р олеум пле щ ет бу р ливо…» (1: 373).
-
3. «Мо р я, / За мо р ями – п р оливы, / Каналы, во р ота и шлюзы, / В па к гаузах к опятся г р узы…» (1: 374).
-
4. «Им полон – то р еже, то ча щ е – / И этот х р ипя щ ий, пою щ ий / Бо р мочу щ ий, сви щ ущий я щ ик» (1: 374).
Л.Мартынов создает своеобразный «музыкальный» пейзаж, в котором выделяется поэтический образ-лейтмотив оливы, вечно живого, противостоящего всем стихиям дерева, являющийся символом бессмертия, символом торжества жизни, мечты о прекрасном. Музыкальным рефреном звучит в стихотворении шелест оливы:
-
1. «Там слышится шелест оливы» (4-я строфа).
-
2. «И слышится шелест оливы» (5-я строфа).
-
3. «Оливы прельстительный шелест» (7-я строфа).
В целях ритмизации текста поэт использует инверсию, располагая подлежащие после сказуемых («творится неблагополучье», «слышатся шумы», «ломаются сучья», «слышится шелест», «копятся грузы»).
Итак, основной принцип словесномузыкального «симфонизма» Л.Мартынова – единение звука и смысла, выражающее те глубины, которые открываются обращенному к ним человеческому сознанию, так что их можно не только видеть, но и слышать, чувствовать, созерцать и понимать. Помимо фонемных повторов и аллитераций, поэт широко использует ассонансы (принцип звукописи, основанный на многократном повторе гласного звука).
Повторяющийся звук вступает в ассоциативную связь с семантикой тех слов, которые его содержат. А последовательность звуков, звуковые переходы точно отражают ход поэтической мысли Л.Мартынова. Анализ стихотворений по- эта позволяет выявить общие закономерности на лейтмотивном уровне в звуковой организации.
Е.Замятин в своих «Лекциях по технике художественной прозы» писал, что всякий звук человеческого голоса, всякая буква вызывает в человеке известное представление, создает звукообразы. Так, например, «а», «о», «э» – компактные гласные звуки, выражающие чувство простора, полноты, величия, уравновешенности, силы и мощи: «Вдох – в подъеме гласных: у-о-е-а-ы-и ; выдох – в их падении от и до закрытого, глухого у » [Замятин 1999: 165]:
Ты
Х о р о ш а ,
Ты м о л о д а ,
М оя прекр а сн ая Земл я . (1: 592)
Я г о в о рю:
В д о м а х живут п о л я ,
А ин о гд а дремучие лес а ,
Р о с а и г о лубые небес а . (1: 618)
В поэтическом мире Л.Мартынова ассонансы звуков «а» и «о» могут обозначать и некую устойчивость, статичность:
Д о м ст а р,
Ст а р з а б о р,
Ст а р бульв а р,
Ст а р с о б о р,
Ст а р з а г о р о д о м б о р. (1: 74)
В стихотворении «Рубикон» ассонансы звуков «а» и «о» создают ощущение погружения в глубину веков: « А если взглянуть с друг о й к о л о к о льни, – чт о -т о вр о де о ск о лк о в а нтичных к о л о нн о щутил п о д к о пыт а ми м о й к о нь п о з а ди П о мер а нии, о к о л о г о р о д а К ё льн а , где блист а ет, всемирн о ю сл а в о й г о рд я сь м о н о п о льн о , бл а г о в о нн о е о зер о О дек о л о нь» (2: 508).
Напротив, узкие гласные «у» , «ы» , «и» – диффузные звуки, изображающие неполноту, утрату равновесия, слабость, даже страдание. Л.Мартынов обладает мастерством «звуковой светотени» (термин К.В.Мочульского), основанной на контрасте темного, глубокого «у» со светлым, открытым «э» . В качестве примера приведем строки из стихотворения «Деревня»:
Одна изв е стна, др е вность этих м е ст!
Я помню, как пылился зд е сь лоп у х.
Вот гд е -то т у т к у риный был нас е ст,
А гд е -то т у т искал з е рно п е т у х. (1: 618)
Резкий переход «э» в «у» передает нарастание внутреннего волнения, наплыв необыкновенных воспоминаний и чувств.
Интересным нам представляется сравнение звукописи Л.Мартынова с подобными приемами, используемыми близкими ему по духу С.Кирсановым и В.Маяковским.
Так, например, мотив памяти звучит и в итоговом стихотворении С.Кирсанова «Строки в скобках» (1972 г.):
Ж и л-б ы л – я .
(Ст о ит л и о б эт о м?)
Шт о рм б и л в м о л.
(М о л о д б ы л и м и л...)
В п о рт пл ы л фл о т.
(С выигрышным билетом жил-был я.)
П о мн и тс я , чт о ж и л. (Кирсанов 1974: 468)
Совершенно очевидно, что ассонансы звуков « а» и «о» создают иллюзию пространственновременного размаха, взгляда в прошлое, а ассонанс звука « и» дает ощущение скованного дыхания. Кроме того, последовательное чередование высоких и низких гласных: « о»-«и»-«о» в третьей, « о»-«о»-«ы»-«и» в четвертой, « о» -« ы»-«о» в пятой строках – напоминает размеренные удары колокола, память лирического героя как бы выхватывает из своих глубин определенные моменты прошлого.
Интересна и инструментовка стихотворения В.Маяковского «Наш марш» (1917):
Дн е й б ы к п е г.
Медл е нна л е т а рб а .
Н а ш б о г б е г.
С е рдц е н а ш б а р а б а н. (Маяковский 1973: 400)
Все четверостишие построено на антитезе ветхого и нового. Повторение гласных «ы» и «э» создает картину прошлого – старая скрипучая арба лет влачится на медленном быке суток. А в настоящем, нарисованном при помощи ассонансов звуков «э» и «а» , – бег, стремление, скорость, побуждаемая барабаном сердца.
Подобная антитеза, основанная на оппозиции низких звуков «у» , «о» и высоких «и» , «э» , выражает противопоставление темноты и света в стихотворении Л.Мартынова:
В о т л е с.
О н был г у ст.
Л о в и л ты пт и ц в с е тк у , в е тв е й л ю б и л хр у ст…
В о т л и ст.
О н был ч и ст.
Т у т вс е было п у ст о .
О н стан е т х о лм и ст,
Скал и ст и ветв и ст
О т гр у б о г о ч у вства.
И э т о – и ск у сств о ! (1: 109)
Низкое «у» здесь связано с переходом от внешних впечатлений к глубинам духовного зрения. По меткому замечанию И.И.Ковтуновой, «низкая тональность как в музыке, так и в языке обычно ассоциируется с отрешенностью и грустью» [Ковтунова 2004: 39].
Интересное сочетание ассонансов высоких звуков « э» и «и» , создающее ощущение чего-то вязкого, клейкого, стискивающего, мы встречаем в стихотворении Л.Мартынова «Елей»:
И кл е йкость е л е я хвал и л и кл е щ и :
«М и л ее е л е я
В е щ е ств н е и щ и !»
И п е л и во мгл е и м
Гн и лушк и и з пн е й:
«Покрыты е л ее м,
Мы тл ее м с и льн е й!» (Мартынов 1986: 504)
Итак, основной принцип словесномузыкального «симфонизма» Л.Мартынова – единение звука и смысла – реализуется через широкое употребление фонемных повторов, ассонансов и аллитераций. Кроме того, излюбленный поэтом и его современниками (В.Маяковским, С.Кирсановым) способ ассоциативного сцепления, при котором фонетическое созвучие рождает ассоциацию чисто смыслового плана, позволяет прихотливо соединять разнородные явления, обнажая тем самым новизну и странность мира. Анализ звуковой образности и методов её создания становится необходимым условием объективной и адекватной интерпретации произведений Л.Мартынова.
Список литературы Звуковая организация стиха в поэзии Леонида Мартынова
- Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха и проблема рифмы. М.: Наука, 1973. 276 с.
- Дементьев В.В. Леонид Мартынов: Поэт и время. Изд. 2-е, доп. М.: Сов. писатель, 1986. 299 с.
- Замятин Е. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М.: Наследие, 1999. 346 с.
- Кирсанов С.И. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Худож. лит., 1974. Т.1. 496 с.
- Ковтунова И.И. Поэтика А.А.Блока. Владимир: А.Ковзун, 2004. 55 с.
- Маяковский В. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Правда,1973. Т.1. 510 с.
- Мартынов Л.Н. Собрание сочинений: в 3 т. М.: Худож. лит., 1976.
- Мартынов Л. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель,1986. 768 с.
- Минералов Ю.И. Теория художественной словесности (поэтика и индивидуальность). М.: Владос, 1999. 360 с.
- Минералова И.Г. Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма. М.: Флинта: Наука, 2004. 268 с.
- Тынянов Ю. О Хлебникове//Собр. соч. Велимира Хлебникова: в 5 т. Л.: Изд-во писателей, 1928. Т.1. С.3-32.