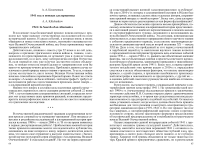1941 год: в поисках альтернативы
Автор: Киличенков А.А.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: История и теория исторической науки
Статья в выпуске: 4 (78), 2023 года.
Бесплатный доступ
События трагического начала Великой Отечественной войны давно приобрели характер «больного места» исторической памяти современного российского общества, направляя усилия исследователей на поиск причин тяжелых поражений Красной армии в приграничных сражениях 1941 г. Утверждение в отечественной историографии интерпретационной модели, в соответствие с которой эти поражения были вызваны комплексом объективных факторов, лишь актуализировало вопрос о вероятности избежать трагедии 22 июня. Автор статьи исходит из того, что ответ на этот вопрос возможен только в рамках альтернативной истории. Выявление возможности или невозможности решений и действий советского военнополитического руководства накануне войны по отражению внезапного нападения или же минимизации его ущерба позволит не только разрешить проблему травмы исторической памяти, но и расширить поле исследовательского поиска, направив его на выявление мотивации ключевых акторов военно-политических процессов кануна войны. В статье используется оригинальная методика поиска и обоснования альтернативных ситуаций в период 1939-1941 гг. в рамках ретроспективного движения от идеального к реальному. В основе ее - определение условий, необходимых для отражения агрессии Германии. Применение метода исторической аналогии позволило выявить наиболее близкую по содержанию историческую ситуацию, в которой был решен комплекс вопросов по отражению широкомасштабного удара немецкой армии. В качестве таковой рассматривается ситуация Курской битвы лета 1943 г. Экстраполяция коэффициентов соотношения сил сторон дала возможность определить состав сил Красной армии на западной границе, необходимый для отражения нападения Германии 22 июня 1941 г. Корректировка этих показателей с учетом уровня подготовки двух армий дала возможность установить требуемую численность советских войск в приграничных округах в 6-6,5 млн. человек. Решающим условием достижения этой численности являлось проведение полной или частичной мобилизации вооруженных сил СССР. Проекция этого условия на предвоенную реальность позволила автору обосновать существование в исто рической действительности осени 1939 г. - лета 1940 г. трех периодов, в пределах которых существовала альтернатива трагедии 1941 г.
Великая отечественная война, красная армия, сталинский авторитаризм, 1941 год, историческая память, коллективная травма, историческая аналогия, альтернативная история
Короткий адрес: https://sciup.org/149145238
IDR: 149145238 | DOI: 10.54770/20729286_2023_4_64
Текст научной статьи 1941 год: в поисках альтернативы
В последние годы бесконечный процесс поиска истины о прошлом все чаще выводит отечественных исследователей на поле исторической памяти. И среди событий, к которым вновь и вновь обращаются новые поколения ученых, неизменно оказывается начало Великой Отечественной войны, все более проявляющее черты травматического события.
Действительно, начиная с самого утра 22 июня и по сей день, вопросы о причинах трагического начала войны и, главное, о возможности его предотвращения, не оставляет умы и души не только исследователей, но и всех, кому небезразлична история Отечества. И, если первый из них уже получил достаточно полное объяснение, то поиски ответа на второй далеки от завершения или хотя бы какого-то промежуточного результата. Проблема в данном случае заключена в самой природе нашего знания о прошлом. То есть, в нашем случае мы изучаем то, как и почему Великая Отечественная война началась тяжелейшим поражением Красной армии. Поиск же ответа на вопрос «А можно ли было избежать этой катастрофы?» требует от исследователя работы с несостоявшимся прошлым, иначе говоря — с альтернативной версией истории.
Именно этот вопрос и составил цель подготовки данной статьи — определить вероятность иного сценария развития событий 22 июня 1941 г. путем выявления альтернативных ситуаций, в пределах которых мог существовать шанс принятия решений, позволявших предотвратить катастрофическое начало войны или же свести к минимуму его трагические последствия.
* * *
В отечественной академической традиции альтернативная история прошла сложный путь отрицания-признания1. Пик интереса советских и российских исследователей к альтернативной истории пришелся на конец 1980-х — начало 2000-х гг.2 В это же время появились и первые диссертационные работы3. Проблематика военной истории также привлекла внимание многих исследователей и публицистов, оказавшись на пике интереса к концу первого десятилетия нового века, что нашло свое отражение в выпуске издательством «Эксмо» целой научно-популярной серии сборников «Альтернативы Великой Отечественной»4 и отдельных изданий5. На этот же период приходит-64
ся и настоящий расцвет военной «альтернативистики» за рубежом6. Но уже в 2010-е гг. интерес к альтернативной истории в России был почти утрачен, оставшись уделом лишь отдельных авторов, сохранивших прежний интерес к «иной истории»7. Более того, сама альтернативная история начала рассматриваться как форма фальсификации8.
Данное обстоятельство можно признать весьма прискорбным, поскольку возможности именно альтернативной истории представляются в настоящий момент наиболее перспективными в поисках выхода из «историографического тупика», возникшего в исследованиях кануна Великой Отечественной войны. Эта ситуация, понимаемая как невозможность существенного приращения нового научного знания о событиях предвоенного периода, стала вполне закономерным результатом движения научной мысли второй половины XX — начала XXI вв. Дело в том, что пройденный за этот период отечественной и зарубежной наукой путь накопления научного знания позволил с определенной полнотой реконструировать цепь ключевых событий конца 1930-х — начала 1940-х гг, выявить как объективные внешние факторы, так и субъективные ошибки и просчеты советского военнополитического руководства, закономерно приведшие к тяжелейшему разгрому Красной армии летом 1941 г. Более того, в оценке приоритетного воздействия этих причин акцент в 2010-е гг. определенно сместился в пользу объективных факторов, что вполне закономерно привело, с одной стороны, к признанию неизбежности произошедшей катастрофы и невозможности ее предотвратить, с другой же — к оценкам действий советского руководства как наиболее оптимальных из возможных.
В результате, мы можем говорить о радикальной перемене в интерпретации причин катастрофы 1941 г. На «ревизионистской волне» 1990-х гг. отечественные исследователи пришли к заключению, что именно действия И. В. Сталина открыли дорогу драматическому характеру начала войны, в то время как существовала вполне реальная возможность предотвратить подобный ход событий. Оставалось лишь установить момент, когда могли и должны были быть приняты необходимые для этого решения и выстроить альтернативную траекторию движения истории в 1939-1941 гг. Но этот процесс так и не был завершен, а «историографический маятник» пошел в противоположную сторону, вполне закономерно формируя представление об исторической предопределенности и неизбежности трагического начала Великой Отечественной войны.
Однако укоренению данной интерпретации событий 1941 г. препятствует механизм травмы культурной памяти9. Действительно, характер, масштаб и последствия поражений 1941 г. оставили в сознании советского и постсоветского общества глубокий след, превратившись в своего рода «больное место памяти» и ее глубокую травму. Характер этой травмы объясняется не только тяжестью потерь Красной армии в приграничных сражениях, но и разительным несоответствием колоссальных затрат советской страны на подготовку к войне — как человеческих, так и материальных — и результатов этой подготовки. Риторический, по сути своей, вопрос: «Ради чего же тогда были потрачены колоссальные ресурсы и миллионы жизней, если случился 1941 год?» — естественным образом приобретал другую форму: «Как же все-таки можно было это предотвратить?». Сконструированный исследователями в 2010-е гг. нарратив неизбежности поражения в начале войны лишь задвигал этот вопрос подобно пресловутому скелету обратно в «шкаф исторической памяти». И, поскольку ее травмы прямо воздействуют на коллективную идентичность, не требуется никаких провидческих способностей, чтобы предсказать, что в определенный момент истории этот «скелет снова выпадет из шкафа». Отмечая эту особенность механизмов исторической памяти, известный исследователь «альтернативистики» А. В. Нехамкин писал по этому поводу: «Альтернативы тоже приходят из прошлого и тревожат покой настоящего, бросая ему своеобразный вызов. Если от такого вызова отмахиваться, игнорировать его, он будет регулярно возвращаться, деструктивно воздействуя, как минимум, на массовое сознание, а как максимум — на политическую, экономическую, культурную действительность»10. История, действительно, «суровая надзирательница», и она вновь и вновь будет требовать правильных ответов на поставленные вопросы.
Исходя из очевидной логики сформулированных выше суждений, исчерпывающий ответ на «больной» вопрос начала войны представляется возможным только в рамках обращения к альтернативной истории. Действительно, только доказательство возможности принятия решений советского военно-политического руководства, позволявших предотвратить катастрофическое начало войны, дает основание утверждать, что этот шанс все же существовал, но по каким-то причинам не был реализован. Таким образом, возникает шанс уточнить позиции в затянувшемся споре историков об истинных причинах трагедии 1941 г, одновременно направив их усилия на изучение других, не менее важных, аспектов истории начала Великой Отечественной войны.
* * *
Самым первым и одновременно самым сложным шагом в построении альтернативных моделей, безусловно, является выбор методологии исследования. Несмотря на наличие большого числа публикаций, вопрос методологии альтернативной истории по сей день остается наименее проработанным. Большинство авторов предпочитает следовать собственному, как правило, интуитивному пониманию сути альтернативы в истории, что создает чрезвычайное многоголосие и пестроту спорных методологических моделей.
Данная статья построена на предложенном академиком И. Д. Ко вальченко понимании альтернативности как наиболее ярком выражении особенности общественного развития и органическом сочетании объективного и субъективного11. Но отдавая необходимую дань социологии марксизма, автор все же подчеркивал, что именно субъективный фактор «представлял собой компонент, который определял исход борьбы за реализацию той или иной из существенно отличных возможностей развития»12. Более важной методологической проблемой для реализации заявленной цели становится обоснование выбора альтернативной ситуации, то есть такой конкретно-исторической ситуации, в рамках которой, действительно, существовало несколько возможностей дальнейшего хода событий, каждая из которых, согласно И. Д. Ковальченко, представляла собой часть реально существовавшей действительности, из которой вырастает будущее13.
И, наконец, методологическую основу предлагаемого исследования необходимо дополнить главной составляющей — не только критериями, но и способом выявления альтернативной ситуации. Исследователи альтернативной истории обычно выявляют подобные ситуации в процессе исторической реконструкции, воссоздавая последовательность произошедших событий, как бы «нащупывая» альтернативность одного из них. Другими словами, альтернатива выявляется в ее исторической проспекции — в ходе проецирования возможного будущего из определенной точки исторической действительности. Одним из наиболее ярких примеров подобной проекции является реконструкция известным исследователем С. А. Экштутом хода восстания декабристов 14 декабря 1825 г, в ходе которого был выявлен момент, когда шедшая на Сенатскую площадь колонна лейб-гренадер под командой поручика Н. Панова неожиданно столкнулась с Николаем I, выехавшим из Зимнего дворца под охраной небольшого эскорта кавалергардов. Но вместо ареста императора поручик отдал приказ пробиваться на соединение к восставшим. Шанс одним ударом решить исход всего дела был упущен14.
Выявление подобной альтернативной ситуации и обоснование возможности поворота событий в данный исторический момент в другое русло с последующей их реконструкцией от реального к идеальному как раз и составляет традиционный способ обоснования альтернативы, позволяющий формировать «веер возможностей» умозрительного характера, полностью исчерпывающий набор всех возможных вариантов развития.
Но само наличие указанного «веера возможностей» как раз и является главным недостатком этого способа, так как обоснование альтернативной траектории неизбежно требует «обсчета» большой массы факторов (решения своего рода уравнения с большим числом переменных). Эта необходимость делает сам процесс одновременно и чрезвычайно трудоемким, и малопродуктивным. При этом на каждом следующем шаге альтернативного моделирования кратно возрастает количество учитываемых факторов, необходимых для оценки их воздействия и оценки последствий этого воздействия.
В рамках данного исследования предлагается иной способ выявления альтернативной ситуации. В основе его — ретроспективное движение от идеального к реальному. Иначе говоря, началом исследования становится реконструкция идеального (желаемого) состояния, от которого затем прокладывается цепочка промежуточных состояний к ситуации, реально существовавшей в состоявшемся прошлом. Представляется, что предлагаемая модель более соответствует поиску ответа на вопрос о существовании «альтернативы 1941 г», поскольку в процессе деконструкции исследователь избегает «веера возможностей» и движется по единственной траектории, обеспечивающей достижение искомого результата.
* * *
Ключевая задача данного исследования состоит в обнаружении реальных исторических ситуаций, в рамках которых было возможным принятие решений, позволявших предотвратить катастрофическое начало Великой Отечественной войны. Согласно избранной нами методологии эти альтернативные ситуации выявляются методом ретроспективного движения от идеального к реальному. Идеальным представляется состояние полной готовности Советского Союза к отражению агрессии гитлеровской Германии или минимизации ее последствий. Преимущества исторического «послезнания» позволяют определить ключевые характеристики советской военной мощи, необходимые для отражения немецкого нападения.
Отчасти подобная задача решалась в рамках реконструкции, предпринятой известным российским военным историком А. В. Исаевым в работе «Великая Отечественная альтернатива», где автор сравнивал соотношение живой силы противостоящих армий к 22 июня 1941 г. и ставил вопрос о составе Красной армии, необходимом для решения задач упреждающего удара по противнику. Основанием для подобного расчета стало соотношение сил в период успешных действий советских войск в 1944 г.15
Данный метод представляется исторически корректным и уместным для решения задач данной статьи. Однако нам требуется выявить и применить иной аналог успешных действий Красной армии, когда удалось отразить длительно готовившийся удар противника в условиях заранее созданной обороны. Далее, используя метод экстраполяции алгоритма действий одной из сторон, реализованный в исторической действительности, следует применить его к гипотетической ситуации начала войны.
И наиболее корректным аналогом, по нашему мнению, является ситуация, возникшая в ходе сражения на Курской дуге, когда в июле 1943 г. впервые с начала войны советские войска сумели отразить заранее подготовленный масштабный и мощный удар противника, 68
сохранить свои начальные позиции, а затем перейти в успешное контрнаступление.
При этом метод экстраполяции в данном случае предполагает выявление соотношения сил сторон накануне Курской битвы и применение полученных коэффициентов к показателям противостоящих армий июня 1941 г. Применение данного метода дает ответ на вопрос — какой силой должна была обладать Красная армия для отражения немецкой агрессии в 1941 г? Тот состав, которым она располагала к 22 июня (см. таблицу № 1) не смог обеспечить отражение удара Германии.
Таблица № 1. Соотношение вооруженных сил СССР и Германии (включая армии ее союзников) к 22 июня 1941 г.16
|
Показатель |
X я я са я я s У 3 О о |
X я я са о я я я Я те О cd г) В м О о |
я о те я я 3 я ^ о О ° О я о Я я § Й £ и |
О о Я И 4 § В и ” ч ч и S и о ° 5 о ° & cd 3 „ И 3 ® ч и § s £.1 5 Я ° 2 с О о cd PQ о я |
са о & о X я я я Я S cd Й &3 S & & Й С 23 m о cd Щ Н о О св о & О « |
я о те я я 3 я ^ о О ° О я о Я я » s § £ и |
|
Общая численность, человек |
7329 000 |
5 434 729 |
1,3:1 |
4329500 |
2 743 000 |
1,6:1 |
|
Танки и САУ, ед. |
6292 |
186911 |
0,3:1 |
4364 |
127821 |
0,3:1 |
|
Боевые самолеты, ед. |
6852 |
210301 |
0,3:1 |
4795 |
8696* |
0,6:1 |
|
Орудия и минометы, ед. |
88251 |
76500 |
1,2:1 |
42601 |
53499 |
0,8:1 |
1 — указаны только исправные
Если же обратиться к соотношению сил сторон к началу Курского сражения, то разница показателей 1941 г. и 1943 г. (см. таблицу № 2) сама по себе дает объяснение столь разным результатам приграничного сражения начала войны и Курской битвы.
Таблица № 2. Соотношение вооруженных сил СССР и Германии к началу Курской битвы (июль 1943 г.) 17 .
|
Показатель |
те s X 3 E E Ph О о и нВ О о Е Е У ^ о Я S S У щ й 2 3" 5 О U |
те X Е 1 Рн нВ Е Е те S У § Ян 3"U ю U ои |
те S о W S Е Е о и 8U u s В S S 5 •& § ■^ 2 О & U |
2 х 2 3 Е ^8 м о Е СО Е S Е Е cd ё в S V Рн н^ [—। *& |
те й О § X & нВ -б4 Е g и о ^8 Н св V нВ I- 1 § Рн 3"и ю U о и |
те S W S Е Е о и 8и CD S В S ^и |
3 те S § я Рн Рн U Е те 5 § ч U Ц S й И К И К у & 8 & ™ S s ° & m с |
S Рн U л >^ )Е ^ Е 55 )Е * S Л Е Е 1 ” S £ § g- U и |
ч S о W S Е Е 8^ о и 8и U S S S 5 -& § о & ^ U |
|
Общая численность, человек |
7 145 000 |
11 909 000 |
1:1,7 |
5 165 000 |
6 442 000 |
1:1,2 |
900 000 |
1 392 000 |
1:1,5 |
|
Танки и САУ, ед. |
6 415 |
19 243 |
1:3 |
5 850 |
9 918 |
1:1,7 |
2 700 |
5 093 |
1:1,9 |
|
Боевые самолеты, ед. |
4 680 |
13 883 |
1:3 |
2 980 |
8 357 |
1:2,8 |
2 000 |
3 200 1 |
1:1,6 |
|
Орудия и минометы, ед. |
71 800 |
168 604 |
1:2,3 |
54 330 |
103 085 |
1:1,9 |
10 000 |
33 796 2 |
1:3,4 |
-
1 — только исправные
-
2 — включая реактивную артиллерию
Советские вооруженные силы к началу июля 1943 г. имели общее превосходство в численности солдат и офицеров в 1,7 раза, в том числе на советско-германском фронте — в 1,2 раза, и на Курской дуге — 1,5 раза. Превосходство в танках и САУ составляло соответственно 2,9, 1,7 и 1,9 раз, в самолетах — 2,9, 2,8 и 1,6 раз, количестве орудий и минометов — 2,3, 1,9 и 3,3. Именно такое соотношение сил сделало возможным победоносное завершение Курской битвы, как на оборонительном, так и на наступательном ее этапе.
Если использовать коэффициенты соотношения сил к началу Курской битвы для определения состава Красной армии, необходимого для успешного отражения удара 22 июня 1941 г., то мы можем по- лучить данные, представленные в следующей таблице (см. таблицу № 3).
Таблица № 3. Численность вооруженных сил СССР, необходимая для отражения нападения Германии и ее союзников 22 июня 1941 г. 18
|
Показатель |
X ^ Рн нВ 5! О о |
^ нВ Нм О о |
ч я о я о О о Я |
Я и 4 св о 5! В д д У Рн Ч Ч и S nU ° go нн м нВ я 5 § § g 2 с О о CQ о Я |
& о X 3 cd Я &S Я §Н cd Я О Рн о « |
я я о те я о О о я |
|
Общая численность, человек |
7 329 000 |
12 459 300 |
1:1,7 |
4 329 500 |
5 195 400 |
1:1,2 |
|
Танки и САУ, ед. |
6 292 |
18 876 |
1:3 |
4 364 |
7 418 |
1:1,7 |
|
Боевые самолеты, ед. |
6 852 |
20 556 |
1:3 |
4 795 |
13 426 |
1:2,8 |
|
Орудия и минометы, ед. |
88 251 |
202 977 |
1:2,3 |
42 601 |
80 941 |
1:1,9 |
1 — приведены данные с учетом численности ВМФ и НКВД
Экстраполяция коэффициентов соотношения сил в Курской битве, результаты который представлены в вышеприведенных таблицах, позволяет в целом определить необходимый состав советских вооруженных сил к началу войны. Красной армии необходимо было иметь под ружьем 12 459 300 человек, 18 900 танков, 20 500 самолетов и 202 900 орудий и минометов. Из этого состава 5 195 400 человек, 7 418 танков, 13 426 самолетов и 80 941 орудие и миномет следовало сосредоточить на западной границе. Наличие этих сил и средств давало шанс приграничным округам отразить удар трех немецких групп армий утром 22 июня 1941 г.
***
Как видно из приведенных таблиц, по-настоящему критическим ресурсом оставалась численность советских вооруженных сил. Красной армии для предотвращения катастрофы необходимо было (см. таблицу № 4) увеличить свой состав на западной границе на 2452 000 бойцов и командиров, орудий и минометов — на 27 442, увеличения количества танков и самолетов не требовалось.
Таблица № 4. Численность пополнения вооруженных сил СССР, необходимого для отражения нападения Германии и ее союзников 22 июня 1941 г.
|
Показатель |
X я я са я я те Я Он тео cd г ) Нм О о |
те те я S я я 2 те S О д X О хюи § ° § 8 ” д О о -о х § н в И о И щ о д д дуд Д те О ►Г Я О |
О Я Я Я я я § я те X |
са о & о X я я я Я S Д & Д )Д m о cd Д Н о О св о & |
о ^^ д « « д о к д 3 § § я Д а д tt о Р§ &° S д ® « Д к § й s д о ^д Д® Д д О о 2 Д S Ч о Й о св 5 д &р УЬ4 о |
О Я Я Я Я я я § я X |
|
Общая численность, человек |
5434 729 |
12459 300 |
7 024 571 |
2743 000 |
5195 400 |
2 452 400 |
|
Танки и САУ, ед. |
18691 |
18876 |
185 |
12782 |
7418 |
не требуется |
|
Боевые самолеты, ед. |
21030 |
20556 |
не требуется |
8696 |
13426 |
4730 |
|
Орудия и минометы, ед. |
76500 |
202977 |
126477 |
53499 |
80941 |
27442 |
Насколько выполнима была эта задача?
Приведение вооруженных сил в состояние полной готовности к отражению агрессии должен был обеспечить подготовленный в Генштабе Красной армии в феврале 1941 г. новый мобилизационный план, выполнение которого предусматривало наличие в составе советских вооруженных сил 8 682 827 человек, 36 879 танков, 22 171 самолет, 61226 орудий19. Реализация этого плана вполне позволяла довести численность личного состава приграничных округов до по- казателей, необходимых для отражения нападения Германии. И хотя авторы плана предупреждали, что в случае его реализации в феврале 1941 г. по причине недопоставок промышленности возникнет недокомплект 10 695 танков всех типов, 9 529 боевых самолетов, 9 418 орудий20, количества имевшейся весной 1941 г. техники и вооружений все же было достаточно для отражения агрессии Германии.
Но для корректности моделирования исторической ситуации на основе экстраполяции показателей 1943 г. также необходимо иметь ввиду, что Красная армия в канун Курской битвы все же отличалась от состояния 1941 г. по целому ряду других характеристик. Прежде всего, речь идет о накопленном к тому времени опыте ведения войны, носителях этого опыта — солдатах, офицерах и генералах, многие из которых к тому времени прошли свою собственную школу войны, значение чего невозможно переоценить согласно русской народной поговорке «за одного битого двух небитых дают». Но не менее значимым было и качественное изменение состава вермахта к лету 1943 г. Необходимо помнить, что понесенные к тому времени безвозвратные потери (убитые, умершие от ран и болезней, увечные и пленные) пришлись на наиболее боеспособное ядро немецкой армии — тех, у кого за плечами были победоносные кампании в Европе и России.
Иначе говоря, соотношение качественных характеристик противников в 1941 г. было несравнимо хуже для Красной армии, чем два года спустя. Не обладая на данный момент исчерпывающей статистикой качественных показателей как советской, так и немецкой стороны, все же сделаем допущение, что при экстраполяции модели соотношения сил летом 1943 г. на лето 1941 г. необходимо ввести дополнительный коэффициент количественного превосходства Красной армии, позволявший компенсировать качественные показатели вермахта образца июня 1941 г. Думается, в той реальной ситуации у советской стороны просто не было иного способа компенсировать превосходство противника в опыте полномасштабной войны, кроме как доведя численность своих сил до 6-6,5 млн. человек в приграничных округах. Мобилизационный потенциал Советского Союза вполне позволял пополнить ряды вооруженных сил до этого уровня, а наличие вооружений и техники давало возможность укомплектовать необходимое число новых соединений за счет потенциала внутренних округов. Напомним, что результатом объявления 22 июня 1941 г. всеобщей мобилизации стал единовременный призыв 14 возрастов 1905-1918 гг. рождения, и за первые 10 суток в вооруженные силы были направлены 5 350 000 человек, из них свыше 505 000 офицеров запаса21. При этом по причине внезапного нападения и быстрого продвижения войск противника на западных территориях остался контингент 5631 000 человек, который не успели мобилизовать. Очевидно, что если бы призыв начался в мирное время, то под ружье за это же время могло быть бы поставлено почти 11 млн. призывников. Итак, на данном этапе мы имеем основания для промежуточного, но совершенно необходимого вывода: Красная армия уже весной 1941 г. имела полную возможность получить требуемую численность личного состава приграничных округов для отражения нападения Германии.
Более того. Даже в случае отказа от немедленного объявления всеобщей мобилизации существовала возможность призыва ограниченного контингента под видом Больших учебных сборов (БУС). Мобплан 1941 г. предусматривал возможность частичной мобилизации (вариант «Запад») только западных округов (АрхВО, ЛВО, При-6ОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО, МВО, ОрВО, ХВО, СКВО, ПРИВО, УрВО), что должно было обеспечить штатную численность Красной армии 7 852 423 человека22. И в этом случае вполне реальным представляется шанс довести группировку на западной границы до искомых 6-6,5 млн. человек.
Но очевидно и другое. Для отражения агрессии Германии или минимизации ее ущерба совершенно недостаточно было просто получить дополнительный контингент личного состава и требуемое количество техники. Требовались месяцы для достижения необходимого уровня боевой подготовки вновь созданных и укомплектованных до штатов военного времени соединений. К этому необходимо добавить время на переброску войск из внутренних округов к границе и их развертывание в новых районах. Поэтому мобилизацию следовало начать никак не позже весны 1941 г, что давало минимально необходимое время для подготовки к войне, позволявшее решить самые неотложные вопросы — получить приписной состав, технику, средства связи и обеспечения, укомплектовать, вооружить соединения Красной армии и обеспечить их полное развертывание по планам прикрытия западной границы.
В итоге мы получаем хронологическое пространство для первоначального поиска альтернативных ситуаций — наиболее благоприятных моментов для принятия решения о проведении мобилизации в ее скрытой или открытой форме как главного и абсолютно необходимого условия предотвращения катастрофы 1941 г.
Важнейшим условием корректности наших построений является обоснованность выявления самих «альтернативных ситуаций», необходимым признаком которых следует считать наличие в их рамках различных вариантов действий. Другими словами, возможность данных действий в этот исторический момент должна не только не противоречить реалиям исторического прошлого, но и опираться на сочетание внутренних и внешних факторов, определявших принимаемые решения. Данное понимание сути альтернативной ситуации позволяет выявить ряд промежутков времени в период 1939-1941 гг, в пределах которых существовала реальная возможность принятия 74
решений, позволявших предотвратить катастрофу 1941 г. или минимизировать ее масштабы и последствия.
Анализ совокупности внешних и внутренних факторов, существовавших в период 1939-1941 гг, дает основание считать, что подобные ситуации могли возникнуть в рамках пяти временных промежутков: (1) апрель — июнь 1941 г; (2) вторая половина ноября 1940 — середина января 1941 гг; (3) апрель — июнь 1940 г; (4) декабрь 1939 — март 1940 гг, (5) август — октябрь 1939 г
Альтернатива № 1
В абсолютном своем большинстве современные отечественные исследователи военной истории отвергают целесообразность построения альтернативных моделей изучения кануна войны, не видя в этом никакого смысла. Но когда заходит речь о последнем предвоенном месяце, все же допускается исключение, признающее наличие некоторого «иного варианта» развития событий.
Впрочем, число тех, кто склонен видеть вероятность другого развития событий в последний предвоенный месяц, все же не велико, и куда меньше тех, кто пытается выстроить альтернативный сценарий23. Основанием для этих редких допущений служит некоторая документальная база, известная как «план Василевского». Напомним, что в начале 1990-х гг. исследователям стали доступны документы, свидетельствующие о том, что в первой половине мая 1941 г. в Генеральном штабе Красной армии был разработан план нанесения упреждающего удара по немецким войскам, замысел которого отличался необычайной решительностью и даже дерзостью. Автор плана — заместитель начальника Оперативного управления Генштаба генерал-майор А. М. Василевский, исходил из того, что «Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить [Подчеркнуто в тексте. — А.К.] нас в развертывании и нанести внезапный удар». Василевский предложил «не давать инициативы действий Германскому Командованию... упредить [Подчеркнуто в тексте. — А.К.] противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания...» Для этого нужно было провести «скрытое отмобилизование войск под видом учебных сборов» и «скрытое сосредоточение» на границе 211 дивизий и 47 дивизий резерва во втором эшелоне24. Кроме того, сохранилось свидетельство прямого участника тех событий — маршала Г. К. Жукова, в тот период исполнявшего обязанности начальника Генерального штаба Красной армии, подтвердившего, что этот план, действительно, был представлен Сталину25. И эти факты дают основание утверждать, что советское военно-политическое руководство, как минимум, обсуждало альтернативный вариант развития событий.
Но все же, по нашему глубокому убеждению, при наличии явных свидетельств альтернативной ситуации возможность развития событий по иному сценарию в данном случае была равна нулю. Причиной тому являлось неблагоприятное сочетание внутренних и внешних факторов, полностью ее исключавших. Для начала обратимся к оценке внешнеполитических факторов, прямо влиявших на возможность альтернативного развития событий. И здесь приходится констатировать, что рассматриваемый период апрель-июнь 1941 г. начался большой дипломатический удачей СССР. 13 апреля 1941 г. был подписан Пакт о нейтралитете с Японией, что давало некоторую надежду на безопасность восточных границ. Другой нежданной удачей стала отвлечение германских войск на проведение Балканской кампании в апреле 1941 г, но ее скоротечность — всего три недели — не позволяла создать какое-либо «окно возможностей» для решительных действий советской стороны.
В остальном же ситуация была крайне неблагоприятная. Практически все страны, граничившие с Советским Союзом, к тому времени или уже стали открытыми союзниками Германии (Румыния, Болгария) или имели основания для реванша (Финляндия), в лучшем случае, придерживались позиций сомнительного нейтралитета (Турция). Какие бы то ни было союзнические отношения с кем-либо у СССР просто отсутствовали, страна оказалась в дипломатической изоляции.
По-настоящему решающим фактором ситуации апреля-июня стали действия Германии в этот период. Немецкая армия, действительно, находилась в периоде сосредоточения и развертывания своих сил на советской границе. Начнем с того, что уже в сентябре 1940 г. за счет призыва резервистов численность вооруженных сил Германии начала увеличиваться с 5 765 000 человек до 7 329 000, к июню 1941 г. количество дивизий выросло со 156 до 210, в том числе 152 пехотных, 21 танковой и 10 моторизованных. С середины февраля началась переброска войск к границам СССР26. Советский Генштаб на основе имевшихся разведданных точно определил состояние сил вероятного противника. И, теоретически, это был наиболее удобный момент для нанесения упреждающего удара. Но все же шансов на его успех не было никаких.
Уязвимость собственного положения в момент сосредоточения и развертывания войск понимал и противник, что заставляло его предельно внимательно фиксировать состояние войск Красной армии. Учитывая высокую интенсивность немецкой разведки в этот период, трудно допустить, что подготовка советских войск к нанесению упреждающего удара могла бы остаться незамеченной. В этой ситуации неизбежно должно было начаться соперничество противников в скорости своих мероприятий по подготовке удара. И, если вспомнить, что Красная армия на тот момент не имела опыта проведения всеобщей мобилизации и развертывания вооруженных сил на ее основе, а логистические возможности западных областей СССР заведомо уступали противнику27, исход гипотетического противобор- 76
ства становится очевидным. К этому следует добавить значительную фору немецкой стороны, начавшей сосредоточение сил вторжения уже в середине февраля 1941 г.28
Иначе говоря, внешняя военно-политическая ситуация сводила на нет альтернативу упреждающего удара Красной армии. «План Василевского» в случае попытки его осуществления должен был завершиться катастрофой, по своим масштабам превосходящей реальную катастрофу 1941 г. Это впоследствии признавал и Г. К. Жуков, возвращаясь к реакции Сталина на «план Василевского»: «Сейчас же я считаю: хорошо, что он [Сталин. — А.К.] не согласился тогда с нами. Иначе, при том состоянии наших войск, могла бы произойти катастрофа гораздо более крупная, чем та, которая постигла наши войска в мае 1942 г. под Харьковом»29.
Для нас в данном случае важно зафиксировать, что высшее командование Красной армией достаточно трезво оценивало степень угрозы со стороны Германии и предлагало меры упреждающего характера. Ситуация апреля-июня 1941 г. требовала от советского высшего руководства срочных, решительных и масштабных действий. Однако вплоть до 22 июня И. В. Сталин отказывался от подобных шагов, опираясь на собственную оценку ситуации и считая решительные меры преждевременными. Но, видимо, какие-то сомнения у него все же были, следствием чего стал ряд решений. Во второй половине мая 1941 г. на учебные сборы было призвано 802 000 человек, что составляло 24% приписного личного состава по мобплану 1941 г. Эти меры дали возможность увеличить численность 99 из 198 имевшихся дивизий. В первую очередь это коснулось войск приграничных округов, где 21 стрелковая дивизия получила полный штат в 14000 человек, 72 дивизии увеличились до 12000 человек и 6 дивизий — до 11 000 человек. Кроме этого, началось выдвижение к границе трех общевойсковых армий из внутренних округов30. По сути, речь идет о мероприятиях по скрытной частичной мобилизации. Однако эти действия все же следует считать паллиативными. И дело не только в призыве лишь ограниченного контингента. Да, почти 100 дивизий увеличили свою численность, но они не получили необходимого количества подвижных средств — автомобилей, тягачей, тракторов и лошадей, что серьезно ограничивало боеспособность этих соединений. Половинчатость даже этих ограниченных мер явно говорила о неготовности советского руководства к необходимым действиям.
Для нас гораздо важнее оценить в рамках возможной альтернативной ситуации вероятность действий, позволявших избежать катастрофических последствий нападения Германии. Согласно предлагаемой методике такую возможность могла обеспечить только полная мобилизация советских вооруженных сил в ее открытой или скрытой форме с целью доведения их численности в приграничных округах до искомых 6-6,5 млн. человек. Эта задача в оставшееся время апреля-июня 1941 г. гипотетически вполне могла быть решена, и осу- ществление этих мероприятий позволяло лишить немецкую армию ее численного превосходства. Но гарантировать успешное отражение агрессии, безусловно, не могло. Даже при самом оптимистичном сценарии, когда удается довести общую численность Красной армии до предусмотренных мобпланом 8 682 000 человек, а войска на западной границе — до 6-6,5 млн. человек, во весь рост вставала задача ее полного и своевременного обеспечения всем необходимым.
Парадоксальность этой гипотетической задачи заключается в том, что общий ресурс Красной армии к началу войны — и численность призывного контингента, и количество военной техники — позволял укомплектовать войска приграничных округов до уровня необходимого для отражения удара вермахта. Но в реальности к началу войны войска имели всего лишь 71% от предусмотренных действующим мобпланом танков, 67% — самолетов, 65% — зенитных орудий, 50-75% средств связи и военно-инженерного имущества, 20-35% средств заправки и транспортирования горючего и смазочных материалов, обеспеченность войск боеприпасами не превышала 85% двухмесячной нормы31. Причина этого разительного несоответствия заключалась в том, что Красная армия к началу войны находилась в состоянии широкомасштабной реорганизации, продолжавшейся и после принятия мобилизационного плана 1941 г., но завершить ее в остававшееся до начала войны время уже не было никакой возможности.
Но и это еще не все. Необходимо исходить из того, что задачи не только мобилизации, включая получение приписного личного состава, техники и средств связи, обозно-вещевого снабжения и т.п., но и сосредоточения и развертывания на границе новых дивизий и армий, сколачивания их штабов, отработки взаимодействия родов войск и, в целом, подготовки к отражению удара немецких войск не могли быть решены в течение месяца по причине слабой подготовленности тыловых служб. И это не говоря уже о необходимой подготовке призывного контингента, в подавляющем большинстве своем прошедшего лишь военные сборы в 1920-1930-е гг. Для успешного решения всех этих задач требовалось неизмеримо больше времени.
Все приведенные выше соображения дают полное основание для вывода о том, что в реальности апреля-июня 1941 г. не существовало альтернативного сценария успешной мобилизации Красной армии просто в силу негативного сочетания внутренних и внешних факторов, препятствующих ее реализации.
Наиболее оптимальным и, главное, реалистичным в ситуации кануна войны представляется решение на принятие экстренных мер по отражению нападения с целью минимизации неминуемого ущерба методом «делай то, что возможно». Для этого требовалось привести войска приграничных военных округов в повышенную боевую готовность для выполнения задач обороны имеющимися силами. Эта задача не требовала столь масштабных мероприятий, как моби- лизация пяти миллионов призывников, и могла быть осуществлена в минимальные сроки, как это и предусматривалось существовавшим планом прикрытия границы на случай нападения Германии. Приведение войск в боевую готовность, получение ими предусмотренного штатом вооружения, боеприпасов, техники, связи и снабжения, занятие укреплений или выдвижение в назначенные районы сосредоточения— все это, как минимум, позволяло избежать потери управления и связи, растерянности командиров и деморализации личного состава. Словом, всех тех последствий, которые вызвал эффект внезапного удара противника.
Конечно же, и в этом случае не было шанса успешно отразить нападение Германии: слишком неравными были силы и в количественном и, особенно, в качественном отношении. Но совершенно твердо можно было бы рассчитывать на минимизацию ущерба и существенное ограничение масштаба и последствий неудачного начала войны. И здесь, как нигде, могла и должна была сработать старая истина — “Praemonitus, praemunitus” («Кто предупреждён, тот вооружён»).
Альтернатива № 2
В предыдущей главе мы установили, что несмотря на некоторое признание самой возможности альтернативного развития событий в мае-июне 1941 г, реального шанса предотвратить катастрофическое начало войны все же не было. Для поиска новой альтернативной ситуации, в рамках которой такая возможность имелась, необходимо сделать следующий шаг в нашем движении вспять исторического времени.
Такой ситуацией в исторической ретроспективе нам видится период второй половины ноября 1940 г. — января 1941 г. Принятие решения на проведение мобилизационного развертывания советских вооруженных сил в это время давало достаточно возможностей для перевода частей и соединений на штаты военного времени и выдвижения их в районы сосредоточения и развертывания на западной границе. Учитывая завершение Германией своих операций на Западе и начало постепенной передислокации войск на Восток, можно говорить о том, что обе армии могли бы начать свое развертывание на советско-германской границе примерно в одно время.
Обращаясь к реальным историческим условиям, позволявшим или даже толкавшим советское руководство к принятию решений о начале непосредственной подготовки к войне, необходимо признать, что ситуация внутри и во вне страны явно этому способствовала. К ноябрю 1940 г. в боевых действиях Второй мировой войны наступила стратегическая пауза. Германия, не сумев подавить систему противовоздушной обороны Англии и разгромить ее военно-воздушные силы, вынуждена была на время отказаться от проведения операции «Морской лев». Вероятность постепенного вовлечения
США в ход войны, начало кампании по оказанию помощи Англии — все это делало перспективы германского продвижения на запад сомнительными, и перед руководством третьего рейха встала проблема выбора стратегического направления дальнейшего движения. Как стало известно позже, выбор был сделан в пользу восточного направления.
Кроме общей оценки стратегической и военно-политической ситуации в Европе руководство Советского Союза имело и куда более весомые основания для принятия решения о переходе к активной фазе подготовки к отражению нападения. 12-14 ноября 1940 г. состоялся визит председателя Совнаркома СССР и наркома иностранных дел В. М. Молотова в Берлин, главным содержанием которого стала попытка выстраивания дальнейших отношений между двумя странами. Российские исследователи внешней политики сходятся во мнении, что эта попытка закончилась неудачей32. Повторить успех договора о ненападении 1939 г. и расширить перспективы отношений с Германией не удалось. Окончательным подтверждением тому стал отказ Берлина ответить на ноту советского МИДа, предлагавшего обсудить возможность развития отношений в новых условиях.
Состоявшееся вскоре после визита Молотова присоединение к Тройственному пакту Венгрии и Румынии, как и одновременная неудачная попытка Москвы заключить пакт о ненападении с Болгарией33, по сути, должны были стать «моментом истины» для советского руководства, которое получило все основания полагать, что сохранение прежней модели взаимодействия с Германией уже невозможно, а война в этой ситуации закономерно оказывалась единственным выходом. По сути, промежуток времени после возвращения Молотова из Берлина 15 ноября 1940 г. и до середины января 1941 г, когда Германия отказалась отвечать на предложения Москвы обсудить перспективу дальнейших отношений, еще мог оставаться временем колебаний, но после фактического отказа Берлина необходимо было признать: война неизбежна и нужно срочно готовить страну и армию к ее началу. Прямым подтверждением тому служит и тот факт, что 18 декабря 1940 г. Гитлер одобрил план нападения на СССР. И сохранившиеся свидетельства подтверждают это. «В конце 1940 г. и в начале 1941 г. мы чувствовали, что движемся к войне, — вспоминал Н. С. Хрущев. — Сталин в моем присутствии ни разу не поднимал вопроса о том, что война неизбежна, но видно было по его настроению, по его поведению, что он чувствует это и очень встревожен... Когда начала надвигаться война, Сталин стал совершенно другим... стал как бы мрачнее»34.
Дополнительным фактором принятия необходимых решений могла бы стать позиция верховного командования вооруженных сил. Необходимо вспомнить, что В. М. Молотова в ходе поездки в Берлин сопровождали военные, выводы которых о результатах этого визита были совершенно однозначны. А. М. Василевский, один из членов 80
делегации, позднее рассказал в беседе с Константином Симоновым: «Что немцы готовились к войне и что она будет, несмотря на пакт [о ненападении 1939 г], были убеждены все, кто ездил в ноябре сорокового года вместе с Молотовым в Берлин. Я тоже ездил в составе этой делегации, как один из представителей Генерального штаба. После этой поездки, после приемов, разговоров там ни у кого из нас не было ни малейших сомнений в том, что Гитлер держит камень за пазухой. Об этом говорили и самому Молотову. Насколько я понял, он тоже придерживался этой точки зрения»35.
Эти выводы о приближении войны дополнялись изучением опыта начавшейся Второй мировой войны. В октябре и декабре 1940 г. в Москве были проведены совещания высшего командного состава армии и флота, где был дан взвешенный и точный анализ механизма блицкрига немецкой армии в Европе36.
Анализ внешне- и внутриполитической ситуации в руководстве СССР показывает, что к середине января 1941 г. сформировались признаки возникновения альтернативного выбора. И политики, и военные имели все основания для вывода о вероятности нападения Германии в ближайшие месяцы. Необходимо было принимать решение о проведении мобилизации. И главное — начало действий по отмобилизовыванию и развертыванию Красной армии хотя бы в середине января 1941 г. давало возможность провести минимально необходимые действия по прикрытию границы и отражению нападения противника.
Но, разумеется, для полноценной готовности частей и подразделений требовалось проведение полномасштабных учений, с привлечением разнородного состава сил, позволявших отработать взаимодействие на поле боя всех родов войск, в первую очередь пехоты, артиллерии, танков и авиации. Исходя из масштаба и сложности решения подобных задач, речь может идти, как минимум, о боевой учебе в течение всего года, и тогда сроки необходимого начала полной мобилизации необходимо сдвигаются на весну-лето 1940 г.
Альтернатива № 3
Продолжая наше ретроспективное движение в поисках альтернативных ситуаций от идеального к реальному, находим признаки новой альтернативной ситуации весной-летом 1940 г. Проведение мобилизации и всех подготовительных мер в этот момент представляется совершенно реальным как результат еще одного благоприятного сочетания нескольких факторов.
Окончание войны с Финляндией в марте 1940 г. открывало перед советским руководством ряд новых возможностей в процессе подготовки к войне с Германией. Прежде всего, Красная армия получила большой опыт ведения современной войны, и к тому же это был опыт боевых действий в чрезвычайно сложных условиях прорыва долго- временной обороны зимой в труднопроходимой местности. Война выявила целый ряд недостатков в подготовке войск, исправление которых было необходимо в условиях приближения большой войны. И эта возможность была использована советским руководством: в апреле 1940 г. в Москве прошло расширенное совещание при ЦК ВКП (б) по итогам войны с Финляндией, позволившее извлечь ряд важнейших уроков37. Среди прочего, произошли изменения в составе высшего командования Красной армии: в мае маршала К. Е. Ворошилова на посту наркома обороны сменил один из выдвиженцев «Зимней войны» — маршал С. К. Тимошенко, а в августе другой герой той же войны — генерал армии К. А. Мерецков — занял должность начальника Генерального штаба вместо маршала Б. М. Шапошникова.
Но куда важнее было то, что возникала прекрасная возможность без какого бы то ни было напряжения увеличить численность вооруженных сил. Для этого достаточно было просто задержать демобилизацию после окончания войны с Финляндией. Более того, полное отмобилизование армии могло быть проведено на завершающем этапе «Зимней войны» — в феврале-марте 1940 г. Этому в высшей степени способствовал уже отработанный в 1939-1940 гг. механизм мобилизации путем перевода соединений со штатов мирного времени на военные штаты и опыт решения возникавших логистических проблем. Сохранение в дивизиях ядра опытного комсостава и старослужащих бойцов при увеличении численности частей и подразделений позволяло наилучшим способом передать только что полученный опыт современной войны новому пополнению.
Завершение мобилизационных мероприятий в апреле-июне 1940 г. представляется совершенно реальным и в силу сочетания внешних факторов. Начало активной фазы боевых действий на Западе, вторжение Германии в Данию и Норвегию, а затем в Бельгию и Голландию, разгром объединенных сил союзников и капитуляция Франции — все это переключало внимание главных акторов международной политики на события в Западной Европе, ставшей центром приложения всех военных усилий Германии.
И, наконец, еще одно немаловажное обстоятельство. К этому времени военно-политическое руководство третьего рейха еще не приняло решение о подготовке нападения на СССР. Завершение советских мобилизационных мероприятий, сосредоточение и развертывание на границе с Германией шестимиллионной армии, оснащенной десятками тысяч танков и самолетов, могло бы стать новым сдерживающим фактором для Гитлера в ситуации принятия решения.
На этот раз у нас есть основания говорить об «окне возможностей», открывшемся для советского руководства в апреле-июне 1940 г. По сути, единственным сдерживающим фактором становились ограничения, налагаемые на действия СССР самим советским руководством. Точнее, его представлениями о происходящем, оценками и прогнозами. И реакция Сталина на поражения союзни-82
ков свидетельствует об этом совершенно недвусмысленно. «В это время я случайно... был в Москве, — писал об этом позднее тот же Н. С. Хрущев. — Я видел, что Сталин очень озабочен развитием военных событий на Западе... Было получено известие по радио, что немцы вступили в Париж, французская армия капитулировала. Вот тут Сталин нарушил свою замкнутость... Я его редко видел таким... он буквально бегал по комнате и ругался, как извозчик. Он ругал французов, ругал англичан, как они могли допустить, чтобы их Гитлер разгромил.. ,»38.
У Сталина было более чем достаточно оснований понять, что следующим объектом агрессии Гитлера должен стать СССР. Все эти соображения в их совокупности дают основания считать, что в конце весны — начале лета 1940 г. существовала альтернативная ситуация, содержащая возможности проведения мобилизации советских вооруженных сил, достижения ими необходимого численного состава и подготовки к отражению неизбежного нападения Германии. Но советское военно-политическое руководство предпочло остановить рост вооруженных сил и сократить их численность. В разгар «Зимней войны» в январе 1940 г. Красная армия достигла 4,718 млн. человек, но в мае 1940 г. было решено снизить ее до 3,302 млн., а еще через два месяца нарком обороны С. К. Тимошенко издал директиву об увольнении личного состава Красной армии после завершения операций в Прибалтике и Бессарабии39. В итоге еще один шанс создать предпосылки предотвращения катастрофы 1941 г. был упущен.
Альтернатива № 4
Очень близкой по совокупности факторов представляется альтернативная ситуация № 4, возникшая в конце 1939 — начале 1940 гг. Действия Красной армии по присоединению к Советскому Союзу Западной Украины и Западной Белоруссии в сентябре 1939 г. потребовали проведения мобилизационных мероприятий, позволивших увеличить ее численность в сентябре 193 9 г. на 2 610 000 человек. Быстрое окончание «польского похода», казалось бы, должно было положить конец этому росту, но начавшаяся уже 30 ноября война с Финляндией дала советскому руководству все основания призвать новые контингенты и снова увеличить численность вооруженных сил. В конце декабря 1939 г. — начале 1940 г. было принято два постановления об увеличении численности Красной армии до 4 163 000 человек, а затем и новом дополнительном призыве 505 000 человек рядового состава и 50000 командиров запаса40. Более того, выявившаяся вскоре вполне реальная перспектива вмешательства в ход «Зимней войны» Англии, планировавшей отправить свои войска на помощь Финляндии41, вполне могла послужить еще одним совершенно обоснованным поводом для дополнительной мобилизации.
В любом случае сочетание этих факторов внутреннего и внешнего характера оказывалось чрезвычайно благоприятным для действий по увеличению состава вооруженных сил СССР до показателей, определенных выше. Мобилизационные мероприятия, начатые в сентябре 1939 г. и продолжавшиеся до января 1940 г, могли продолжаться и дальше без всяких помех как внутри страны, так и снаружи ее. Разгоравшаяся в Западной Европе война, все более и более поглощавшая и силы, и внимание европейских стран создавала почти идеальные условия для проведения советским руководством активных и открытых мобилизационных мероприятий в конце 1939 г. —начале 1940 г. Германский фактор также следует «сбросить со счетов», поскольку немецкое командование было целиком поглощено подготовкой активной кампании на Западе. Но почти идеальная альтернативная ситуация не была реализована и на этот раз.
Альтернатива № 5
На основе использования предложенной методики поиска альтернативных ситуаций мы неизбежно приходим к событиям августа 1939 г. Именно ситуацию, возникшую накануне подписания советско-германского пакта о ненападении, в отечественной историографии некоторое время было принято считать альтернативной42.
Но используемые в нашем случае критерии выявления альтернативы дают основания для парадоксального вывода: в августе 1939 г. у советского руководства, как раз, и не было никакой альтернативы.
Начать следует с того, что сама обстановка лета 1939 г. кардинальным образом отличалась от содержания альтернативных ситуаций, исследованных ранее. Если в период конца 1939 г. — начала лета 1941 г. внешнеполитическая составляющая являлась вполне однозначной, и возможные шаги ключевых участников были достаточно жестко заданы общей расстановкой сил, ходом событий и их же собственными действиями, предпринятыми ранее, то накануне подписания советско-германского пакта о ненападении она выглядела до предела запутанной и непредсказуемой. В начале 1939 г, еще в ходе подготовки Германии к аннексии территории Чехословакии, началась очень сложная игра дипломатий крупнейших европейских держав — Англии, Франции, Польши, Германии и СССР, — целью которых было стремление получить максимальную политическую выгоду при наименьших потерях. Особенностью этой игры было полная свобода маневра всех участников при совершенной условности принятых обязательств43. И Советский Союз принимал участие в этой игре на равных согласно так называемой «доктрине Литвинова», изложенной им 4 апреля 1939 г. полпреду СССР в Германии: «Задержать и приостановить агрессию в Европе без нас невозможно, и чем позднее к нам обратятся за нашей помощью, тем дороже нам заплатят»44.
Установки сторон были вполне прозрачны.
Германия, убедившись в неуступчивости Польши в вопросе о «Данцигском коридоре», уже в апреле 1939 г. принимает решение о подготовке к войне. Все же остальные участники в разной степени стремились избежать начала войны, пытаясь подкрепить свою позицию заключением политического или военного союза с противниками Германии, но при минимальных собственных обязательствах. В то же время ни один из них не исключал политического решения проблемы и возможности переговоров с Гитлером.
Наиболее существенным в позиции потенциальных противников Германии было их очевидное нежелание воевать. Гитлер достаточно быстро осознал морально-психологическую неготовность к войне своих противников и очень ловко использовал ее в своей политике. Каждый раз при обострении отношений он ставил своих оппонентов перед тяжелым выбором — или немедленное начало войны, или сохранение мира путем уступок агрессору. Неизменным сопровождающим приемом становилось возложение всей тяжести этого выбора на оппонентов Германии.
Точно в такой же ситуации оказалось и руководство СССР к лету 1939 г. Начиная с весны, велись предварительные переговоры по подготовке политического соглашения между СССР и Англией45, в апреле советская сторона предложила Франции и Англии заключить договор о взаимопомощи в случае нападения. К тому времени Польша уже заручилась поддержкой этих двух стран, но упорно не желала принимать помощь от Советского Союза. При этом все четыре стороны для достижения своих целей сохраняли контакты с Германией, которая в свою очередь активно использовала их, чтобы не допустить заключения военного союза между своими потенциальными противниками. Неудивительно, что попытки советской дипломатии в мае-июне 1939 г. добиться заключения договора о взаимопомощи и военной конвенции с Англией и Францией закончились ничем. В конце июня представители советского руководства открыто признали, что переговоры «зашли в тупик»46.
Новый раунд переговоров в июле проходил по прежней схеме: все участники выдвигали новые предложения и одновременно разыгрывали «немецкую карту», используя ее как средство давления на партнеров, а возможность заключения военно-политического союза— как инструмент воздействия на Германию с целью умерить ее притязания. Но она продолжала твердо идти к своей главной цели — началу европейской войны в наиболее выгодных для себя условиях. Именно это сочетание столь разных факторов стало причиной удивительных совпадений.
11 августа в Москву прибывает англо-французская военная делегация для ведения переговоров о заключении военного соглашения, и в этот же день советская сторона сообщает в Берлин о готовности вести переговоры об урегулировании спорных вопросов в Восточной Европе. 12 августа 1939 г. в Москве начинаются англо-франко-советские военные переговоры, и в этот же день Гитлер отдал приказ о начале сосредоточения и развертывания войск, назначив дату нападения на Польшу — 26 августа. 21 августа Берлин предложил Москве принять для переговоров министра иностранных дел Риббентропа, и одновременно в Лондон было отправлено предложение о визите рейхсмаршала Геринга. Обе страны отвечают согласием, но Гитлер выбирает Москву, и 23 августа Риббентроп прилетел в советскую столицу.
По сути, это означало, что Германия успешно продвигалась к своей цели, в то время как другие участники этой игры все еще пытались оказывать давление на нее и друг друга. Как результат, англо-франко-советские переговоры в Москве 12-25 августа стали всего лишь продолжением игры друг с другом на фоне стремительно завершавшейся подготовки Германии к нападению на Польшу.
Другим отличием альтернативной ситуации № 5 стал фактор японской угрозы. Напомним, что в дни, когда советскому руководству пришлось делать выбор между продолжением невнятных переговоров с Англией и Францией и срочным подписанием пакта о ненападении с Германией, на Дальнем Востоке продолжался острый военный конфликт с трудно предсказуемым исходом. 20-23 августа он достиг своей кульминации, и в момент начала советско-германских переговоров исход конфликта с Японией еще был не ясен, а возможность втягивания СССР в японо-китайскую войну оставалась совершенно реальной.
Как минимум, это означало что советское руководство было серьезно ограничено в своих действиях. Другими словами, степень его свободы в принятии решений в августе 1939 г. не идет ни в какое сравнение с исследованными ранее альтернативными ситуациями конца 1939 г. — начала лета 1940 г, и само наличие возможности выбора иного варианта действий совокупностью факторов внутренней и внешней политики никак на подтверждается.
* * *
Проведенное исследование позволило установить, что единственным способом предотвращения катастрофического начала войны с Германией являлось своевременное принятие решения о мобилизации советских вооруженных сил с целью доведения их группировки на западной границе до 6-6,5 млн. человек. Вторым дополнительным условием было наличие необходимого времени для соответствующей подготовки отмобилизованной и развернутой армии. Таким образом, фактор времени становился главным и решающим.
Исходя из этой логики, ключевым вопросом становился выбор времени начала мобилизации. Агрессор всегда имеет преимущество, так как он первый принимает решение о подготовке к войне, мобилизации, развертывании вооруженных сил, времени и месте нанесения удара. Единственный способ не допустить катастрофы — лишить 86
его этого решающего преимущества. На практике это означало, что советскому военно-политическому руководству было необходимо как бы «отзеркаливать» действия вероятного противника, не отдавая ему преимуществ опережающей мобилизации. Сосредоточение на границе с Германией мощной военной группировки кардинально меняло ситуацию. Советская внешняя политика теперь могла бы опираться на позицию силы, а не на демонстрацию миролюбия, а значит— слабости. Противники неизбежно менялись местами: Германия в ситуации подготовки удара на западном фронте должна была бы всячески избегать провокаций, повернувшись к СССР спиной, что одновременно означало бы полную свободу оборонительных действий Советского Союза.
И советское военно-политическое руководство получило возможность для подобных действий. Проведенный в рамках данной статьи анализ позволил установить наличие трех ситуаций, наиболее благоприятных для принятия решений о мобилизации. Эти альтернативные ситуации, возникшие в период с сентября 1939 г. по январь 1941 г, содержали реальные шансы предотвратить катастрофу 1941 г. или, как минимум, ограничить ее ущерб. Наиболее предпочтительным представляется период сентябрь 1939 г. — апрель 1940 г, когда Красная армия уже провела частичную мобилизацию и получила первый опыт современной войны, а ее противник оказался связан масштабными боевыми действиями на западном фронте.
Безусловно, дальнейший поиск ответов на вопросы о возможностях избежать трагического начала войны должен быть направлен на исследование самих альтернативных ситуаций, точнее — действий руководства страны и ее вооруженных сил, предпринятых во временных рамках возможного выбора, и, главное, причин, вследствие которых так и не были приняты возможные и прямо необходимые решения.
Список литературы 1941 год: в поисках альтернативы
- Ткаченко Н. А. История в сослагательном наклонении: опыт альтернативной истории // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. 2014. Т. 27. № 1–2 (66). С. 167–174.
- Ковальченко И. Д. Возможное и действительное и проблемы альтернативности в историческом развитии // История СССР. 1986. № 4. С. 83–104; Волобуев П. В. 1917 год: Была ли альтернатива? // Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа? Москва, 1991. С. 65–85; Иоффе Г.3. 1917 год: упущенная альтернатива // Россия и современный мир. 1993. № 2. С. 95–112; Экштут С. А. Сослагательное наклонение в истории: воплощение несбывшегося. Опыт историософского осмысления // Вопросы философии. 2000. № 8. С. 79–87; Данилевский И. Н. Соблазн альтернативы // Одиссей: Человек в истории. Вып. 12: 2000: История в сослагательном наклонении? Москва, 2000. С. 37–39.
- Экштут С. А. Проблема поиска исторической альтернативы: Опыт историософского осмысления движения декабристов: Диссертация… доктора философских наук. Москва, 1995; Бочаров А. В. Проблема альтернативности исторического развития: историографические и методологические аспекты: диссертация… кандидата исторических наук. Томск, 2002.
- Латов Ю. В. Альтернативные подходы к анализу альтернатив Великой Отечественной // Историко-экономические исследования. 2010. Т. 11. № 3. С. 128–132.
- Исаев А. В. Великая Отечественная альтернатива: 1941 в сослагательном наклонении. Москва, 2011.
- Tsouras P. G. Disaster at D-Day: The Germans Defeat the Allies, June 1944. London, 1994; Hitler Triumphant: Alternate Decisions of World War II. London, 2006; Fitz-Enz D. G. Redcoats’ Revenge: An Alternate History of the War of 1812. Washington (DC), 2008; Heller A. J. Gray Tide in the East: An Alternate History of the First World War. 2nd ed. Los Gatos (CA), 2017; Delve K., Noel-Smith M. Disaster in the Desert: An Alternate History of El Alamein and Rommel’s North Africa Campaign. South Yorkshire, 2019.
- Исаев А. В. Альтернативный 1941: Научные вероятности Великой Отечественной. Москва, 2019; Исаев А. В. Альтернативная история Великой Отечественной войны: возможности и пределы научного познания // СССР во Второй мировой войне: 1939–1945 гг.: Достижения и перспективы современных исследований. Москва, 2020. С. 30–42.
- Карабущенко П. Л. Фальсификация фальсификации, или новейшие разработки альтернативной истории // Гуманитарные исследования. 2009. № 1 (29). С. 215–224; Марюткин В. В. Официальная и альтернативная история Великой Отечественной войны (1941–1945): Проблемы взаимопонимания // Гуманитарные проблемы военного дела. 2018. № 1 (14). С. 75–80; Урюпина М. А. Великая Отечественная война в кривом зеркале адептов «альтернативной истории» // Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 25. Краснодар, 2021. С. 282–286.
- Галина М. Вернуться и переменить: Альтернативная история России как отражение травматических точек массового сознания постсоветского человека // Новое литературное обозрение. 2017. № 4 (146). С. 258–271; Нехамкин В. А. Контрфактический вызов прошлого: пути преодоления // Вестник Российской академии наук. 2017. Т. 87. № 3. С. 248–256.
- Нехамкин В. А. Контрфактический вызов прошлого: пути преодоления // Вестник Российской академии наук. 2017. Т. 87. № 3. С. 255.
- Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. Москва, 1987. С. 74.
- Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. Москва, 1987. С. 79.
- Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. Москва, 1987. С. 76, 83.
- Экштут С. А. Александр I. Его сподвижники. Декабристы: в поиске исторической альтернативы. Санкт-Петербург, 2004. С. 183–188.
- Исаев А. В. Великая Отечественная альтернатива: 1941 в сослагательном наклонении. Москва, 2011. С. 22, 23.
- Боевой и численный состав вооруженных сил СССР в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): Статистический сборник № 1. (22 июня 1941 г.). Москва, 1994. С. 10, 11; Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: Кампании и стратегические операции в цифрах. Т. I. Москва, 2010. С. 5; Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933–1945 гг. Москва, 2002. С. 263, 267, 295; Мельтюхов М. И. Организационное развитие Красной Армии в 1939–1941 гг. и проблема соотношения сил сторон к началу Великой Отечественной войны // 1941. Великая Отечественная Катастрофа: Итоги дискуссии. Москва, 2009. С. 197–283.
- Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: Кампании и стратегические операции в цифрах. Т. II. Москва, 2010. С. 6–8, 13, 26, 35.
- Боевой и численный состав вооруженных сил СССР в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): Статистический сборник № 1. (22 июня 1941 г.). Москва, 1994. С. 10, 11; Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: Кампании и стратегические операции в цифрах. Т. I. Москва, 2010. С. 5; Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933–1945 гг. Москва, 2002. С. 263, 267, 295; Мельтюхов М. И. Организационное развитие Красной Армии в 1939–1941 гг. и проблема соотношения сил сторон к началу Великой Отечественной войны // 1941. Великая Отечественная Катастрофа: Итоги дискуссии. Москва, 2009. С. 197–283.
- 1941 год: Документы. Кн. 1. Москва, 1998. С. 643–644.
- 1941 год: Документы. Кн. 1. Москва, 1998. С. 620–622.
- 1941 год: уроки и выводы. Москва, 1992. С. 110.
- 1941 год: Документы. Кн. 1. Москва, 1998. С. 648.
- Villahermosa G. The Storm and Whirlwind: Zhukov Strikes First // Third Reich Victorious: Alternate Decisions of World War II. London, 2002. P. 95–134; Первый удар Сталина, 1941. Москва, 2010.
- Горьков Ю. А. Готовил ли Сталин упреждающий удар против Гитлера в 1941 году // Другая война, 1939–1945. Москва, 1996. С. 176–181.
- «…Разговор закончился угрозой Сталина»: Десять неизвестных бесед с маршалом Г. К. Жуковым в мае–июне 1965 г. // Военно-исторический журнал. 1995. № 3. С. 41.
- 1941 год: уроки и выводы. Москва, 1992. С. 14–16.
- Меннинг Б. В. Советские железные дороги и планирование военных действий: 1941 год // Война и политика, 1939–1941. Москва, 1999. С. 359, 363, 364.
- 1941 год: уроки и выводы. Москва, 1992. С. 15.
- «…Разговор закончился угрозой Сталина»: Десять неизвестных бесед с маршалом Г. К. Жуковым в мае–июне 1965 г. // Военно-исторический журнал. 1995. № 3. С. 41.
- 1941 год: уроки и выводы. Москва, 1992. С. 82, 83.
- Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В 12 т. Т. 2: Происхождение и начало войны. Москва, 2012. С. 613.
- Сиполс В. Я. Еще раз о дипломатической дуэли в Берлине в ноябре 1940 г. // Новая и новейшая история. 1996. № 3. С. 145–161.
- Кульков Е. Н. Советская реакция на заключение Пакта трех держав // Война и политика, 1939–1941. Москва, 1999. С. 391.
- Хрущев Н. С. Время, люди, власть: Воспоминания. В 4 кн. Кн. 1. Москва, 1999. С. 287–290.
- Симонов К. Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине. Москва, 1990. С. 358–359.
- Русский архив: Великая Отечественная: Накануне войны: Материалы совещаний высшего руководящего состава ВМФ СССР в конце 1940 года. Т. 12 (1–2). Москва, 1997; Русский архив: Великая Отечественная: Накануне войны: Материалы декабрьского (1940 г.) Совещания высшего командного и политического состава Красной Армии. Т. 12 (1). Москва, 1993.
- Зимняя война, 1939–1940. Кн. 2: И. В. Сталин и финская кампания (Стенограмма совещания при ЦК ВКП(б)). Москва, 1999; «Зимняя война»: работа над ошибками (апрель — май 1940 г.): Материалы комиссий Главного военного совета Красной Армии по обобщению опыта финской кампании. Москва; Санкт-Петербург, 2004.
- Хрущев Н. С. Время, люди, власть: Воспоминания. В 4 кн. Кн. 1. Москва, 1999. С. 268.
- Мельтюхов М. И. Организационное развитие Красной Армии в 1939–1941 гг. и проблема соотношения сил сторон к началу Великой Отечественной войны // 1941. Великая Отечественная Катастрофа: Итоги дискуссии. Москва, 2009. С. 213, 217, 220.
- Мельтюхов М. И. Организационное развитие Красной Армии в 1939–1941 гг. и проблема соотношения сил сторон к началу Великой Отечественной войны // 1941. Великая Отечественная Катастрофа: Итоги дискуссии. Москва, 2009. С. 213.
- Черчилль У. Вторая мировая война. В 3 кн. Кн. 1. Москва, 1991. С. 253, 254.
- Кудрина Ю. В., Ржешевский О. А. Упущенная возможность // 1939 год: Уроки истории. Москва, 1990. С. 298–318; Мягков М. Ю., Ржешевский О. А. Упущенный шанс: англо-франко-советские переговоры летом 1939 г. и советско-германский пакт от 23 августа 1939 г. // «Завтра уже может быть поздно…»: Вестник МГИМО — Университета: Специальный выпуск к 70‑летию начала Второй мировой войны. Москва, 2009. С. 177–184.
- Мельтюхов М. И. Советский Союз в европейской политике осени 1938 — лета 1939 гг. // «Завтра уже может быть поздно…» Вестник МГИ- МО — Университета: Специальный выпуск к 70‑летию начала Второй мировой войны. Москва, 2009. С. 126–142.
- Мельтюхов М. И. Советский Союз в европейской политике осени 1938 — лета 1939 гг. // «Завтра уже может быть поздно…» Вестник МГИ- МО — Университета: Специальный выпуск к 70‑летию начала Второй мировой войны. Москва, 2009. С. 129–130.
- Мальгин А. В. Советская внешняя политика и НКИД СССР в мае 1939 — июне 1941 гг.: новая тактика или стратегический просчет? // «Завтра уже может быть поздно…» Вестник МГИМО — Университета: Специальный выпуск к 70‑летию начала Второй мировой войны. Москва, 2009. С. 149.
- Мельтюхов М. И. Советский Союз в европейской политике осени 1938 — лета 1939 гг. // «Завтра уже может быть поздно…» Вестник МГИ-МО — Университета: Специальный выпуск к 70‑летию начала Второй мировой войны. Москва, 2009. С. 132–133.