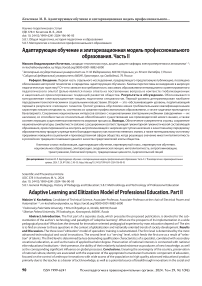Адаптирующее обучение и элитаризационная модель профессионального образования. Часть II
Автор: Кочетков М.В.
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Общая педагогика. Теория и методика профессионального образования, обучения и воспитания
Статья в выпуске: 1 (96), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Первая часть отдельного исследования, предваряющего предлагаемую публикацию, посвящена обоснованию авторской технологии и парадигмы «адаптирующее обучение». Каковы перспективы ее внедрения в широкую педагогическую практику? От чего зависит востребованность массовым образованием инновационно ориентированного педагогического опыта? Целью является поиск ответа на поставленные вопросы в контексте глобализационных и национально ориентированных тенденций развития общества. Результаты и обсуждение. Обосновывается трехуровневая «элитаризационная» модель подготовки специалистов. Первый уровень детерминирован наиболее передовыми технологическими и социальными новшествами. Второй - это «обслуживающий» уровень, подпитывающий первый в результате «селекции» талантов. Третий уровень обусловлен менее требовательными квалификационными характеристиками специалиста, соотносим со средним профессиональным образованием, а также задачами прикладного бакалавриата. Сохранение национальных интересов связано с национальными элитарными учебными заведениями - их наличием, со способностью их относительно обособленного существования как производителей нового знания, а также соответствующим существенным влиянием на мировые процессы.
Глобализация, адаптирующее обучение, перевернутый класс, перевернутое обучение, национальное образование, элитаризация, академическая лекция, интеллигентность, антропоинновации, трансгуманизм, болонский процесс, традиционные ценности, царскосельский лицей
Короткий адрес: https://sciup.org/149144809
IDR: 149144809 | УДК: 378 | DOI: 10.24412/1999-6241-2024-196-90-95
Текст научной статьи Адаптирующее обучение и элитаризационная модель профессионального образования. Часть II
Маksim V. Kochetkov, Candidate of Technical Science, Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Electrical Power and Automation 1, 2; ;
В первой части исследования представлена авторская технология «адаптирующее обучение» [1]. Она предусматривает организацию обучения в виде нетрадиционной последовательности проведения занятий. При этом практическое и семинарское занятия, проводимые до лекции, нацелены на самоактуализацию обучающимся проблематики учебного материала, «созревание» проблемы. Рекомендуется широкое внедрение технологии (парадигмы) адаптирующего обучения , базирующейся на методологии творчества и сотворчества. Отмеченная методология гармонично сочетает репродуктивно-креативные проявления процесса обучения, нацеливает педагога на обеспечение поисковой, самоактуализированной, «проблемно назревшей» познавательной деятельностью обучающегося, базируется на принципе согласованного изменения преподавателя и студента.
Авторская технология (парадигма) «адаптирующее обучение» может рассматриваться как современная разновидность технологии «перевернутый класс» («перевернутое обучение») [1].
В теории современного образования, в которой начинает доминировать полипарадигмальный подход [2, с. 312], парадигме классно-урочного обучения [3, с. 17] (далее — парадигма традиционного обучения, традиционное обучение) все чаще противопоставляется технология «перевернутое обучение», или «перевернутый класс» (flipped learning, classroom flip, inverted classroom). Действительно, мы считаем, что указанная технология в передовом практическом претворении и соответствующем теоретическом осмыслении справедливо претендует на образовательную парадигму [1; 4].
Вторая часть исследования связана с поиском ответа на вопрос о перспективах внедрения в систему образования технологии и парадигмы «адаптирующее обучение», в том числе в качестве одного из вариантов технологии «перевернутый класс». Адаптирующее обучение нацелено на подготовку творческого специалиста, отвечающего инновационно ориентированным вызовам времени. Поэтому в проекции на задачу подготовки инновационного специалиста (специалиста, способного к производственной и социальной инноватике) зададимся следующим дополняющим вопросом: с чем связан реальный, а не декларируемый запрос общества на творческие качества выпускника вуза?
Сразу отметим, что запрос общества на инновационного специалиста непосредственно взаимоувязывается с запросом общества на инновационного преподавателя.
Раскрываемые в статье результаты исследований обусловлены поиском ответа на поставленные вопросы в контексте глобализационных и национально ориентированных векторов развития современного общества в целом и его высшего образования в частности. Указанный контекст приобретает нарастающую актуальность для российского образования.
11 апреля 2022 г. Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса вследствие начала специальной военной операции. Многие отечественные эксперты единодушны во мнении относительно того, что по разным причинам почти за два десятилетия декларируемой интеграции российских университетов, научных центров в соответствующие европейские структуры она фактически не состоялась. Российская Федерация при этом утратила многие положительные особенности своей системы образования. Усилилось рассогласование культурно-идеологических маркеров, характеризующих социокультурные пространства европейских стран-участниц Болонского процесса и Российской Федерации, что, на наш взгляд, связано прежде всего с укрепляющимся курсом последней на сохра- нение и упрочение традиционных российских духовнонравственных ценностей 1.
Иными словами, национально ориентированный вектор развития в Российской Федерации начинает играть все более усиливающуюся гармонизирующую роль по отношению к глобализационным процессам, что, безусловно, актуализирует соответствующий ракурс исследований образовательных проблем.
Результаты и обсуждение
Лучший педагогический опыт всегда характеризуется поисковыми, самоактуализированными проявлениями познавательной активности обучающегося. Имеется множество соответствующих примеров, в том числе на основе технологии «перевернутый класс». Стоит даже заявить, что острый дефицит для теории подготовки инновационного специалиста в соответствующей педагогической практике отсутствует. В связи с этим несколько парадоксальным выглядит то, что массовое образование несильно стремится его перенимать.
И причина тому в еще одном на первый взгляд парадоксальном явлении — отсутствии реального, а не по большей части формального запроса от институций общества на появление инновационных специалистов. Такой запрос в истории развития государств существовал лишь относительно непродолжительные периоды, после чего подготовка инновационных специалистов фактически свертывалась посредством бюрократизации образовательной деятельности, а появляющиеся инновационные специалисты, если массово и не преследовались, то нередко становились внесистемными фигурами, в том числе в сфере образования и науки.
Дело в том, что феномен творчества столь сложен и непредсказуем, когда речь идет о воспитании и обучении профессионала и гражданина, что успешное формирование человека, способного к инновационно ориентированной профессиональной продуктивности, очень часто сопряжено с его дестабилизирующим влиянием на общественную и профессиональную среду: признанные в своих сферах неординарные личности нередко оказывались открыто критически настроенными к устройству и руководству соответствующей профессиональной деятельностью, резко оппозиционными к власти предержащим. Один из российских примеров — Царскосельский лицей. Его появление было обусловлено государственным запросом на, как бы сейчас сказали, инновационного специалиста высшей квалификации. Поначалу, во многом благодаря первому директору, там сложилась уникальная среда развития и гармонизации тех типологических проявлений творческой личности, о которых писал Я. А. Коменский, раскрывая соответствующий потенциал коллективного образования [5, с. 23–27, с. 40–43]. Результат создания такой среды в Царскосельском лицее — из тридцати первых выпускников пятерых считают выдающимися историками, учеными, государственными деятелями. Однако трое при этом стали декабристами.
Учитывая сказанное, неудивительно, что с годами эффект продуцирования Царскосельским лицеем масштабных творческих личностей все более снижался по мере того, как формализовывались многие стороны первоначально демократичной, свободолюбивой и педагогически соучастной образовательной среды (значимые для проявления талантов факторы). Вполне объяснимо, что представители любых институциональных форм общества практически всегда предпочитают предсказуемых, социализированных под свои текущие нужды выпускников учебных заведений их неординарным товарищам (во всяком случае в их большом количестве). То же самое справедливо и в отношении преподавательского состава.
В результате указанной незаинтересованности власти предержащих в появлении большого количества неординарных личностей последние возникали во все времена не благодаря, а вопреки системе образования и иным институциям (за редким исключением). И в относительно стабильные периоды развития общества это полностью всех устраивало, кроме разве что самих неординарных личностей. Нам не удалось найти несоответствия данному тезису в результате знакомства с биографиями достаточно многих признанных творцов в самых различных сферах профессиональной и общественно-политической деятельности. Именно та область, в которой преуспел человек, при ближайшем рассмотрении была связана по тем или иным причинам с этапом ее глубокого самоактуализированного осмысления вопреки сложившейся практике массового образования (фактор талантливого педагога в данном случае также рассматривается в качестве исключения из правил).
Нуждается ли общество в творцах сегодня? Казалось бы, ответ на данный вопрос очевиден, особенно в условиях нарастающей конкуренции технологий и культур, борьбы транснациональных и национальных интересов: любому государству необходимы инноваторы, иначе оно потеряет суверенитет, а благополучие народа, его ментальнокультурное развитие будут подчинены воле чуждых ему представителей. Сказанное кратно справедливо в отношении Российского государства с его территориями и богатствами. Вместе с тем на практике все обстоит иначе: запрос на творческих людей, на наш взгляд, носит больше декларативный характер, на деле российские государственные институции не столько способствуют этому, сколько препятствуют.
Итак, мы исходим из того, что основная проблема становления инновационного высшего образования (образования, продуцирующего инновационных специалистов) как российского, так и мирового состоит в отсутствии реального, подкрепленного созданием соответствующих условий, заказа на творческих людей от власти предержащих. Такой заказ до сих пор не мог носить массового характера из-за угрозы существованию элит в связи с большой степенью неопределенности поведения творческой личности. Относительно массовый заказ на творческого человека до сих пор появлялся только внутри самих элит 2, это «внутренний» запрос, учитывающий всегда понимаемую необходимость в некотором контролируемом обновлении элит из талантливых «низов».
Что и в связи с чем здесь может поменяться в будущем, прежде всего в российском образовании?
Социальное расслоение общества на элиту и «служебных» людей было и прежде. Однако «нынешнее понимание „служебных“ людей связывается с роботами» [6, c. 138], с антропоинновациями (интеграция с искусственным интеллектом, киборгизация, генная инженерия и пр.) [7; 8], с соответствующей дифференциацией общества и конкурентными преимуществами элиты [9].
Представляется, что опасаться власти предержащим непредсказуемости поведения творческих людей становится все менее актуальным: беспрецедентный глобальный контроль сведет такие угрозы к минимуму. Антропоинновации в дальнесрочной перспективе потенциально способны «аннулировать само человечество и его проблемы», а в среднесрочной — создают для представителей элиты не только колоссальные преимущества в профессиональных компетенциях, но и неограниченные возможности контроля над «служебными» людьми [8; 9].
Поэтому как никогда актуально решение фундаментального вопроса: что такое человек и остается ли он человеком по мере развития антропоинноваций, каковы в связи с этим стратегические ориентиры существования человечества [10; 11]. Однако данный вопрос вряд ли будет стимулироваться к обсуждению теми, кто управляет технологическим прогрессом (на фоне ближнесрочных преимуществ, предоставляемых антропоинновациями для контроля человека). Скорее всего, наоборот, будет делаться все, чтобы широкая общественность не задумывалась над указанным фундаментальным вопросом, чему, например, способствует дегуманитаризация образования, свойственная и российской высшей школе.
Именно перспективы абсолютной подконтрольности представителя современного социума, а также объективный рост объема профессиональных знаний, возросший спрос на инновационных специалистов в соответствии с неудержимо технологически усложняющимся миром профессий детерминируют то, что массовое образование будущего будет в большей степени ориентированным на подготовку инновационного специалиста, чем в настоящее время.
Мир профессий действительно сильно изменился. И он объективно требует значительного количества инновационных специалистов [12; 13]. В этом заинтересована мировая элита общества, контролирующая финансы, власть и технологический прогресс. Однако ее заинтересованность далека от альтруистических целей. Представляется, что в скором времени в странах-лидерах и во многих курируемых ими государствах установится жесткое разграничение.
Оно будет детерминировано тремя уровнями подготовки специалистов, в зависимости от потенциальных возможностей учебных заведений к развитию творческих качеств, а также доступа к передовым технологическим и социальным новациям.
Первый уровень подготовки связан с наиболее передовыми технологическими и социальными новшествами. Гуманитарная составляющая подготовки специалистов здесь представлена весьма достойно, как и самые передовые производственные и социальные инновации. В развитых странах Запада этот уровень уже давно ярко выражен, соответствующие учебные заведения широко известны и признаны общественностью в качестве элитарных. В настоящее время они непосредственно обслуживают те структуры общества, которые тесно взаимодействуют с транснациональными корпорациями и контролируют большинство ведущих технологических ноу-хау [14; 15].
Второй — это «обслуживающий» уровень, подпитывающий первый (в результате селекции талантов, например на этапе поступления в магистратуру). Требования к творческим способностям представителей второго уровня также достаточно высокие. Однако им, в отличие от представителей первого уровня, существенно затруднен доступ к «прорывному» знанию, в том числе социальным технологиям управления обществом. По мере внедрения антропоинноваций представители второго, а тем более третьего уровней будут все сильнее ограничиваться в доступе к наиболее значимым направлениям научно-технического прогресса, к возможностям искусственного интеллекта.
Третий уровень обусловлен менее требовательными квалификационными характеристиками специалиста. Учитывая возможную детализацию уровня, его справедливо соотнести со средним профессиональным образованием, а также задачами прикладного бакалавриата в нынешней высшей школе. Антропоинновации (прежде всего, слияние с искусственным интеллектом) на третьем уровне будут преследовать цель не столько расширения профессиональных компетенций и антропологических возможностей специалиста (хотя в какой-то степени и это тоже), сколько его подконтрольности правящим элитам.
Таким образом, мы предлагаем «элитаризационную» дифференциацию в качестве ключевого методологического основания теории и практики современного профессионального образования. Российская целенаправленная политика на разноуровневое образование, а также многолетняя подконтрольность России в сфере образования и технологий зарубежному влиянию [14; 15] привели к существенной подчиненности элитарному сегменту мирового образовательного пространства. Поэтому «эли-таризационная» методологическая основа продолжает отражать перспективы парадигмы «адаптирующее обучение» (как и внедрения иного педагогического опыта) и в отношении российской высшей школы, несмотря на выход Российской Федерации и Республики Беларусь из Болонского процесса.
Возможно, что в ближайшие годы ситуация существенно изменится. Действительно, глобализационным процессам в мире все большую конкуренцию начинают составлять национально ориентированные тенденции развития. В условиях состоявшегося разделения мирового образования на элитарное и неэлитарное сохранение национальных интересов связано с национальными элитарными учебными заведениями — их наличием и качественными характеристиками, в частности способностью относительно обособленного существования как производителей нового знания, а также существенностью соответствующего влияния на мировые процессы.
Первая из выделяемых нами глобализационных доминирующих тенденций развития современного образования обусловлена мерами курирующих элитарное образование структур по обеспечению контроля за технологическим и социальным прогрессом. В связи с этим вторая тенденция детерминирована стремлением той элиты, которая возглавляет глобализационные процессы в мире, взять под максимальный контроль элитарные учебные заведения в интенсивно развивающихся странах, а третья — целеполаганием на формирование человека, который не способен противодействовать интересам мировой элиты, что нередко связано с его неспособностью мыслить масштабно, гуманитарно, понимать и отстаивать интересы, традиции, культуру своего народа и государства.
Национально ориентированное образование, способствующее суверенитету страны и ее социальноэкономическому и самобытно-культурному процветанию, прямо противоположно представленным тенденциям. Оно, на наш взгляд, недостижимо без определяющего влияния на общество «интеллигентной интеллигенции» [16] 3 и соответствующих ощутимых изменений общества в направлении его демократизации, уменьшения разрыва между богатыми и бедными, иных проявлений справедливого устройства социума и общего благосостояния. Гуманитарная составляющая образования должна не только содержательно отражать национально ориентированный вектор развития общества, но и благоприятствовать решению интегрирующей задачи — контролированию антропоинноваций [9; 17–19], идеологически подпитываемых трансгуманизмом [8].
Элитарное образование, сосредоточенное в относительно небольшом количестве учебных заведений, на наш взгляд, всегда будет отличаться преобладанием «живых» форм обучения как эффективнейшего механизма гармонизации и развития универсальных творческих качеств человека, описанных еще Я. А. Коменским [5, с. 40–43], как фактора здоровьесберегающей среды [18] в сравнении с ее цифровизирующимися вариантами. Академическая лекция (важная составляющая якобы безнадежно архаичной парадигмы традиционного обучения [3, с. 17]) сохраняет и, на наш взгляд, продолжит успешно сохранять свое присутствие в элитарном сегменте образования. Так, академическая лекция применяется в авторской технологии «адаптирующее обучение» [1] при реализации образова- тельного процесса согласно закономерностям поисковой, самоактуализированной, «проблемно назревшей» познавательной деятельности обучающегося, принципу взаимосвязанного изменения преподавателя и студента. Наше достаточно поверхностное знакомство с преподаванием в признанных элитарных учебных заведениях, где академическая лекция также используется, позволило выработать суждение о том, что обучение в данных заведениях вполне соответствует логике поисковой, самоактуализированной познавательной деятельности. И здесь безусловная заслуга прежде всего педагогического состава. Его творчески развивающий потенциал не вызывает сомнения.
Но как массовое образование станет более творческим, коль скоро в этом (хоть и со сделанными оговорками) становятся заинтересованными мировые элиты, контролирующие технологический процесс? Ведь известно, что творчески неординарных специалистов могут подготовить только творчески неординарные педагоги. Откуда вдруг возьмутся преподаватели, способные тягаться в мастерстве с коллегами из элитарных учебных заведений? Как удовлетворить потребность в них в условиях обострившейся потребности в инновационных специалистах?
Творческий преподаватель в массовом образовании уже расширяет свое присутствие, но все более в имплицитной форме: как разработчик программ дистанционного и смешанного обучения, в частности автор видеолекций. В результате обучение характеризуется все более само-актуализированными проявлениями, в том числе благодаря технологии смешанного обучения «перевернутый класс».
В недалеком будущем аудиторная лекция, в ее неразрывной связи с иными разновидностями аудиторных форм организации обучения, станет, на наш взгляд, одним из самых показательных критериев элитарного учебного заведения, в отличие от доминирующего дистанционного образования со стертыми гранями привычных форм организации обучения в неэлитарном его сегменте.
Таким образом, проблема эффективной подготовки инновационного специалиста в будущем будет решаться, но весьма своеобразно, если речь идет о втором и третьем уровнях подготовки — посредством расширения имплицитного присутствия творческого педагога в учебном процессе. Данная тенденция уже уничтожает нынешний потенциал неявного знания российских неэлитарных вузов, как следствие, их инновационный потенциал [19; 20].
Относительно же первого уровня подготовки мало что изменится. Здесь веками существовавший запрос элиты общества на творческого педагога и всесторонне творчески развитого выпускника сформировал яркие примеры действующих педагогических систем, которым претят «оптимизации» и перманентные реформы. Возделывание недистанционной инновационно ориентированной академической среды — это скрупулезный, из поколения в поколение, процесс становления и поддержания студенческих и преподавательских традиций, научных школ, общественно-молодежных объединений, антифрустра-ционной бытовой и профессиональной среды.
Выводы
Запрос общества на инновационного специалиста несет в себе существенные вызовы устойчивости общественных институций, так как творческая личность нередко критически настроена и к профессиональной деятельности, и к ее организации и управлению, и ко многим общественным аспектам жизни социума. Следствиями этого в сфере подготовки специалиста являются ее формализация, бюрократизация, нивелирование возможностей творческого педагога, благоприятствование устоявшимся форматам образования, в частности традиционному обучению.
В обществе должен реализовываться не формальный, а реальный, т. е. подкрепляемый действенными мерами, запрос на инновационного специалиста. В отношении России указанные меры связаны с претворением национально ориентированного образования, усилением влияния и укреплением потенциала «интеллигентной интеллигенции», расширением соответствующей гуманитарной составляющей высшего образования, ее «укреплением» в способности противодействовать трансгуманизму, всеобъемлющим антропоинновациям, угрожающим человеку в его сложившейся душевно-телесной целостности. Меры связаны также с обеспечением широкого доступа населения к качественному передовому образовательному продукту прежде всего благодаря педагогу как носителю неявного знания, а также потенциальному источнику прорывных новаций в социальной и производственной сферах общества, источнику образования в единстве его обучающих и воспитательных функций. При этом основное условие — это реализация образовательного процесса согласно закономерностям поисковой, самоактуализированной, «проблемно назревшей» познавательной деятельности обучающегося, согласованного изменения преподавателя и студента. Отмеченному основному условию, в частности, удовлетворяет авторская технология и парадигма «адаптирующее обучение».
Перспективы. Дальнейшие исследования связаны с углублением анализа развертывания тех наметившихся особенностей изменения отечественного образования, которые справедливо считать национально ориентированными.
Список литературы Адаптирующее обучение и элитаризационная модель профессионального образования. Часть II
- Кочетков М. В. Адаптирующее обучение как перспективное направление развития технологии и парадигмы «перевернутый класс». Часть I // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2023. Т. 28, № 3(94). С. 319-327. https://doi.org/10. 24412/1999-6241-2023-394-319-327.
- Агапова Н. Г. Парадигмальные ориентации и модели современного образования (системный анализ в контексте философии культуры): монография. Рязань, 2008. 364 с.
- Тарасова О. И. Образование: между прошлым и будущим // Философия образования. 2020. Т. 20, № 4. С. 17-31. https:// doi.org/10.15372/PHE20200402.
- Гнутова И. И. От «перевернутого класса» к «перевернутому обучению»: эволюция концепции и ее философские основания // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 3. С. 86-95. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-3-86-95.
- Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие / сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. М., 1989. 416 с.
- Ильин Г. Л. «Трансгуманизация» современного образования // Высшее образование в России. 2018. № 1(219). С. 133-142.
- Kochetkov M. V., Kovalevich I. A. Specific Features of Educational and Pedagogical Discourse in the Context of Anthropological Challenges: Socio-Cultural Approach. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. 2020. Vol. 13, No 2. Pp. 268-277. https://doi.org/10.17516/1997-1370-0578.
- Kochetkov M. V., Avdeeva E. A. Humanitarian reversing higher education in the Russian Federation in light of the transhumanist challenges. The Philosophical Forum. 2021. Vol. 52, No 2. Pp. 103-114. https://doi.org/10.1111/phil.12288.
- Ракитов А. И. Высшее образование и искусственный интеллект: эйфория и алармизм // Высшее образование в России. 2018. Т. 27, № 6. С. 41-49.
- Leontyev G. D., Kurashov V. I. Dystopia of transhumanism in the context of general eschatology. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 2019. Vol. 9, No 1. Рр. 5176-5179. https://doi.org/10.35940/ijitee.A9225.119119.
- Vorontsova Yu., Arakelyan A., Baranov V. Smart Technologies: Unique Opportunities or the Global Challenges of Transhumanism. Wisdom. 2020. Vol. 15, No 2. Pp. 68-75. https://doi.org/10.24234/wisdom.v15i2.335.
- Kolesnichenko E. A., Radyukova Y. Y., Pakhomov N. N. The role and importance of knowledge economy as a platform for formation of industry 4.0. Studies in Systems, Decision and Control. 2019. Vol. 169. Pp. 73-82. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94310-7_7.
- Ríhová, L., Písar P., Havlícek K. Innovation potential of cross-generational creative teams in the EU. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17, No 4. Pp. 38-51. https://doi.org/10.21511/ppm.17(4).2019.04.
- Четверикова О. «Ликвидация»: судьба российского образования // Свободная Мысль. 2017. № 2. URL: http://svom.info/ entry/730-likvidaciya-sudba-rossijskogo-obrazovaniya/ (дата обращения: 19.01.2023).
- Странник С. Разрушение будущего. Кто и как уничтожает суверенное образование в России. Часть 2 // NEWSLAND. 2016. 9 апреля. URL: http://newsland.com/community/88/content/razrushenie-budushchego-kto-i-kak-unichtozhaet-suverennoe-obrazovanie-v-rossii-chast-2/5166774 (дата обращения: 19.01.2023).
- Лихачев Д. С. О русской интеллигенции. Письмо в редакцию // Новый мир. 1993. № 2. С. 3-9.
- Кочетков М. В., Смолянинова О. Г. Антропоэкологичность устойчивого развития и интеллигентность как адекватный отклик высшего образования // Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». 2022. Т. 15, № 9. С. 1269-1278. https://doi.org/10.17516/1997-1370-0927.
- Абдуллин А. Г., Лихолетов В. В., Караваев А. Ф. «Спасательный круг» профилактики ухудшения здоровья молодежи в эпоху цифровой трансформации образования // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2022. Т. 27, № 2(89). С. 173-188. https://doi.org/ 10. 24412/1999-6241-2022-289-173-188.
- Романов Е. В. Феномен утраты неявного знания высшей школой: причины и последствия. Часть I // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 4. С. 60-91. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2019-4-60-91.
- Романов Е. В. Феномен утраты неявного знания высшей школой: причины и последствия. Часть II // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 5. С. 61-85. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2019-5-62-86.