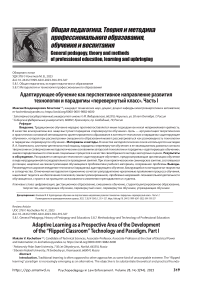Адаптирующее обучение как перспективное направление развития технологии и парадигмы «перевернутый класс». Часть I
Автор: Кочетков М.В.
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Общая педагогика. Теория и методика профессионального образования, обучения и воспитания
Статья в выпуске: 3 (94), 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Традиционное обучение нередко противопоставляется иным подходам как некая неприемлемая крайность. В качестве альтернативы все чаще выступает парадигма «перевернутое обучение». Цель - аргументация теоретических и практических оснований инновационно ориентированного образования в контексте технологии и парадигмы «адаптирующее обучение», которая при рассмотрении смешанного образования может рассматриваться как разновидность технологии и парадигмы «перевернутое обучение». Материалы и методы. В качестве методологических основ используются наследие Я. А. Коменского, системно-деятельностный подход, парадигма «перевернутое обучение» в ее эволюционном развитии согласно творческим и сотворческим методологическим основаниям авторской технологии и парадигмы «адаптирующее обучение», анализ парадигмального описания социальных процессов в качестве своеобразного метода экспертных оценок. Результаты и обсуждение. Раскрывается авторская технология «адаптирующее обучение», предусматривающая организацию обучения в виде нетрадиционной последовательности проведения занятий. При этом практическое или семинарское занятие, состоявшееся до лекции, нацелено на самоактуализацию обучающимся проблематики учебного материала, «созревание» проблемы. Выводы. Рекомендуется широкое внедрение технологии (парадигмы) адаптирующего обучения, базирующейся на методологии творчества и сотворчества. Отмеченная методология гармонично сочетает репродуктивно-креативные проявления процесса обучения, нацеливает педагога на обеспечение поисковой, самоактуализированной, «проблемно назревшей» познавательной деятельности обучающегося, строится на принципе согласованного изменения преподавателя и студента.
Цифровизация, дистанционное образование, смешанное обучение, студентоцентрированное образование, творчество, адаптирующее обучение, перевернутый класс, перевернутое обучение, упреждающее обучение
Короткий адрес: https://sciup.org/149143663
IDR: 149143663 | УДК: 378 | DOI: 10.24412/1999-6241-2023-394-319-327
Текст обзорной статьи Адаптирующее обучение как перспективное направление развития технологии и парадигмы «перевернутый класс». Часть I
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Исследование исходит из диалектической репродуктивно-креативной природы творческой познавательной деятельности. Ключевые движущие факторы подготовки инновационного специалиста (специалиста, способного к производственной и социальной инноватике) основываются на наследии Я. А. Коменского, а также парадигме «перевернутое обучение».
Большое значение для обоснования авторской технологии «адаптирующее обучение» имеет системнодеятельностный подход. Так, считается, что сама деятельность, даже если она носит репродуктивный характер, очень важна для «созревания проблемы». Человеку свойственно природное стремление к новизне. Поэтому деятельность с предметом познания, в том числе по образцу согласно строгому предписывающему регламенту, рассматривается как ведущий фактор появления познавательного интереса, «зарождения» «инстинкта откры- вателя», даже если речь идет об эффекте «изобретения велосипеда».
Исследование разворачивается в дискурсе образовательных парадигм в качестве методологического подхода к анализу образовательных процессов (парадигмы «перевернутое обучение», смешанного, традиционного обучения и др.). Определение складывающихся парадиг-мальных тенденций рассматривается как своеобразный экспертный анализ исследования противоречий современного образования. Ведь парадигмальный подход имплицитно связан с определенным обобщенным вектором эволюции образовательных идей, теорий, концепций. Под парадигмой понимают общепризнанный научным сообществом моделирующий комплекс фундаментальных идей и достижений. Представленное определение парадигмы как раз и придает парадигмальному дискурсу исследования потенциал экспертного анализа, когда объективность обнаруживаемых причинно-следственных связей обусловливается авторитетностью мнений тех ученых, чьи достижения или научные позиции соотносимы с теми или иными парадигмами.
Моделей образования в своем теоретическом и практическом преломлении становится все больше. Данная тенденция вряд ли утратит поступательное развитие. Сказанное вполне объяснимо, так как требования к творческим качествам специалиста как источнику прорывных производственных и социальных новаций расширяются, социокультурная реальность становится многограннее и сложнее, критерии эффективности образования все противоречивее, а конкретная педагогическая практика все сложнее для осмысления и теоретических обобщений.
В полипарадигмальном описании образовательного пространства современное теоретическое осмысление разнообразного опыта реализации технологии «перевернутое обучение» претендует на доминирующую парадигму в дискурсе смешанного образования, инновационно ориентированных вызовов времени.
Целью исследования является аргументация теоретических и практических оснований технологии и па- радигмы «адаптирующее обучение», которая при рассмотрении смешанного образования может оцениваться как разновидность технологии «перевернутое обучение».
Теоретические предпосылки и обзор проблемы. В парадигмальном подходе к анализу педагогических явлений сложилось вполне отражающее современные реалии понимание принципиальной полипарадигмаль-ности описания образования, которое характеризуется многоуровневой интеграцией на сложно сопоставимых основаниях существенно разнящихся моделей [1, с. 312].
Отметим некоторые парадигмы, причем в их противопоставлении.
Один полюс противопоставления представим получившей широкое практическое распространение традиционной парадигмой классно-урочного обучения [2, с. 17] (далее — парадигма традиционного обучения, традиционное обучение). Один из признаков традиционного обучения состоит в том, что сначала проводится академическая лекция, а потом практическое или семинарское занятие (возможны различные их сочетания). По мнению О. И. Тарасовой, образовательный ресурс парадигмы традиционного обучения, «этой педагогической модели, педагогической технологии полностью исчерпан», так как она несет «доминирование информационного многознания, стандартизацию мышления, полупроводниковую трансляцию готового знания, информационное и умственное потребительство» [2, с. 19], отсутствие «живого знания» [2, с. 25–27]. О. И. Тарасова не только усматривает в традиционном обучении исключительно «информационно-репродуктивную, трансляционную» стороны, но и почему-то соотносит их с создателем «Великой дидактики» Я. А. Коменским [2, с. 17].
Другой полюс противопоставления отразим рядом парадигм в контексте разных ракурсов, которые в тех или иных нюансах противоположны информационнорепродуктивным, трансляционным, стандартизирующим и «омертвляющим» характеристикам, приписываемым парадигме традиционного обучения.
На обучающемся как потребителе образовательных услуг делается акцент в консьюмеристской модели (consumer model) [3; 4], индивидуализировать и гуманизировать образовательный процесс призваны модели со-производства (co-production) [5; 6], совместного создания ценности (co-creation value) [7; 8], трансформирующего обучения (transformation model) [9; 10], студенческой вовлеченности (student engagement model) [11; 12]. «Оживить» знание в цепочке «студент — содержание образования — преподаватель» стремятся опять же модели студенческой вовлеченности и со-производства, а также парадигма трансформирующего обучения [9; 10]. Метаинтегрирующую роль в западном образовании по отношению к вышеназванным и иным парадигмам (например, к парадигме «перевернутое обучение») все чаще играет студентоцентрированная модель (student-centered model) [13; 14], которая призвана повысить вовлеченность обучающегося буквально во все проявления образовательной деятельности, в том числе и выходящие за рамки собственно процесса обучения [14] (взаимодействие с работодателем, выбор собственной образовательной траектории и влияющих на нее субъектов образования, определение концептуальных приоритетов развития образования, студенческое самоуправление и пр.).
Что касается российского образовательного научного дискурса, то многие парадигмальные идеи перечисленного спектра западных моделей находят отражение в компетентностной парадигме [15; 16], учитывая ее общепризнанную доминирующую и интегрирующую роль в современных теории и практике [17; 18]. Это произошло не только в результате самого активного участия России в Болонском процессе. Ведущим фактором, на наш взгляд, является сходство компетентностного и системно-деятельностного подходов. Есть даже точка зрения, что компетентностный подход — это переименованный вариант системно-деятельностного подхода [19] (отражает сущностные особенности отечественной педагогической теории и практики).
Представленное противопоставление парадигмы традиционного обучения очерченному спектру парадигм ориентировано на дидактическую сторону образования. В иных ипостасях отмеченные модели сами противопоставляютcя друг другу. Так, парадигме консьюмеристской модели в различных контекстах противопоставляются модели со-производства, совместного создания ценности, студенческой вовлеченности, студентоцентрированной парадигмы (модели, подходы, теории) [20].
Отдельное место в рассматриваемом противопоставлении занимает технология «перевернутое обучение», или «перевернутый класс» (flipped learning, classroom flip, inverted classroom) [21; 22], ставшая суперпопулярной в западном образовании [23; 24], которую сегодня в передовом практическом претворении и соответствующем теоретическом осмыслении справедливо рассматривать как образовательную парадигму [25], как методологическое основание образования, учитывая его уверенный курс на смешанные форматы, а также обостряющуюся потребность общества в творческих специалистах в контексте инновационно ориентированных вызовов времени.
Обрисованная, пусть и самыми большими мазками, поляризация образовательных моделей в виде противопоставления приписываемого Я. А. Коменскому традиционного обучения каким-то иным современным подходам составляет достаточно распространенный в российском научном дискурсе смысловой вектор поиска ответа на вопрос об эффективности образовательного процесса.
Вместе с тем мы беремся утверждать, что традиционное обучение не может быть чему-либо противопоставлено как некая неприемлемая крайность, так как отражает природу творческого потенциала человека, где значимы и репродуктивная, и креативная его стороны.
Другой вопрос — баланс отмеченных сторон творческого потенциала в контексте содержания образования, его темпоральных и иных ограничений.
Понимание отмеченного баланса с позиции механизмов творчества и сотворчества при подготовке специалиста, отвечающего инновационно ориентированным вызовам времени, послужит основанием для описания особенностей авторской технологии и парадигмы «адаптирующее обучение».
Результаты и обсуждение
Особенности технологии адаптирующего обучения. Широкая практика обучения до сих пор характеризуется тем, что изучение новой учебной темы начинается с академической лекции, после чего проводится практическое или семинарское занятие. В этом смысле справедливо говорить о доминировании в образовании парадигмы традиционного обучения.
Академическая лекция предполагает систематизированное изложение теоретико-методологической основы учебной дисциплины, в том числе тех проблемных и противоречивых аспектов, которые очерчивают и определяют рассматриваемую область знания. Таким образом, при традиционном обучении студенту в начале изучения новой учебной темы сразу предлагается некая модель, позволяющая объяснить презентованные ему проблемы и противоречия.
Вместе с тем значимые для формирования инновационного специалиста закономерности поисковой, самоактуализированной познавательной деятельности связаны с эффектом «изобретения велосипеда», а именно с «переоткрытием» той проблематики, которая детерминирует структуру и содержание учебного предмета, с появлением мотивированного, «созревшего» и «назревшего» запроса и на указанную проблематику, и на то знание, которое частично или полностью «снимает» данную проблемность. Только такой «изобретатель велосипеда» станет в будущем способен вывести теорию и практику своей профессиональной деятельности на существенно иной уровень развития. Ведь он уже в процессе обучения рассматривал ответы на возникшие у него вопросы как один из возможных вариантов моделирующего объяснения, а не в качестве некоего догмата, отказаться от которого в последующей профессиональной деятельности тем сложнее, чем усерднее студент относился к учебе.
Таким образом, традиционная последовательность проведения занятий, когда стартапной по учебным темам дисциплины у студента очной формы подготовки выступает академическая лекция, препятствует его поисковому, самоактуализированному освоению новой области знания, как следствие, подготовке уникального специалиста, способного к инновациям, обладающего большим творческим потенциалом (ключевой признак эффективности современной высшей школы).
Учитывая вышесказанное, мы исходим из того, что основной критерий эффективности обучения — это по- исковая, самоактуализированная познавательная деятельность будущего специалиста, детерминированная «переоткрытием» проблематики учебного предмета, назревшим осмыслением соответствующей системы знания. Неудовлетворение представленному комплексному критерию со стороны массового высшего образования всегда вызывало отторжение у студенческого сообщества. В связи с этим можно отметить, например, воспоминания Л. Н. Толстого о времени его обучения в университете [26, с. 43–44]. Однако отдельных комментариев заслуживает наследие Я. А. Коменского, с чьим именем, повторимся, связывают становление нынешней классно-урочной системы обучения в ее исключительно «информационно-репродуктивной, трансляционной» [2, с. 17] практической реализации.
Результаты отмеченного становления и то, как оно задумывалось Я. А. Коменским, на наш взгляд, характеризуются существенным несовпадением. Так, содержательный дискурс «Великой дидактики» исключает академическую лекцию как стартапную стадию обучения студентов по учебным темам дисциплины.
Лекция, по Я. А. Коменскому, может ознаменовать собой начало изучения учебной дисциплины или каких-либо ее больших разделов. Однако в этом случае для студентов-очников она должна носить обзорно-ориентирующий характер. Так, в разъяснении к Основоположению VI (Глава 16) «Прежде общее» отмечается: «…неправильно будет преподавать науки с самого начала со всеми подробностями, вместо того чтобы предпосылать им сперва простой общий очерк всех знаний». В комментариях к Основоположению IX (Глава 16) указывается: «Никогда не познает основания истины тот, кто начнет обучаться с обсуждения противоречий» [27, с. 58]. В комментариях к Основоположению II (Глава 18) подчеркивается необходимость «прежде всего сделать учеников любознательными и внимательными» [27, с. 67].
Основоположение II (Глава 16) предписывает ход образовательной деятельности в виде лаконичной установки «Материал ранее формы». В разделе II (Глава 20) говорится: «…следовало бы начинать обучение не со словесного толкования о вещах, но с реального наблюдения за ними. И только после ознакомления с самой вещью пусть идет о ней речь, выясняющая дело более всестороннее; пусть будут вещи, а не тени вещей, вещи … плотные, подлинные, полезные, хорошо действующие на чувство и воображение» [27, с. 71].
Из сказанного следует, что для обучающихся, у которых не актуализирована проблематика тех фундаментальных вопросов, систематизированные ответы на которые в готовом виде преподаются на лекции, семинарское и практическое занятия должны предшествовать академической лекции. В этом и состоит особенность разработанного нами адаптирующего обучения (в виде различных нетрадиционных последовательностей проведения лекции, практики и семинара). Технология раскрыта в сборнике материалов конференции [28–30], где присутствуют ссылки на более ранние и детальные публикации, в которых технология называется «нетрадиционной последовательностью проведения занятий», «нетрадиционной организацией обучения» и пр. Именно основоположником адаптирующего обучения как раз и следовало бы считать Я. А. Коменского, а не той получившей доминирующее влияние «информационнорепродуктивной, трансляционной» [2, с. 17] стороны образовательной практики, которая приписывается создателю «Великой дидактики».
Суть авторской технологии адаптирующего обучения состоит в том, что проведение семинарского (практического) занятия осуществляется не только после лекции, но и до нее [28–30]. При этом количество видов учебных занятий (совокупность лекций, практик, семинаров) при адаптирующем обучении, как правило, также не подвергается пересмотру, так как их учебные цели могут достигаться «со смещением по времени» [28–30], о чем ниже будут даны поясняющие комментарии.
Принципиальное значение имеют дидактические цели практических (семинарских) занятий, проводимых до лекции, которые призваны адаптировать обучающегося к новой области знания. Дидактические цели состоят в самоактуализации обучающимся проблематики учебной темы дисциплины, создании практикоориентированных условий для того, чтобы соответствующая область знания стала «актуально осознаваемой», обучающийся «озадачился», проникся теми вопросами, ответы на которые в систематизированном виде раскрываются на лекции.
Цели практических (семинарских) занятий, проводимых после лекции, соответствуют привычным российскому педагогу дидактическим задачам практики и семинара — не столько самоактуализации студентом проблематики изучаемой области знания, сколько углубленному осмыслению и практическому освоению того системного описания рассматриваемой области знания, которое было предложено преподавателем на лекции.
Сама лекция при адаптирующем обучении может носить знакомый всем характер, а именно академической лекции, т. е. той разновидности, которая получила наибольшее распространение в массовой практике российской высшей школы и которая во многом справедливо критикуется [2; 26], так как при реализации традиционной последовательности проведения занятий действительно слабо учитываются обозначенные ранее закономерности поисковой, самоактуализированной познавательной деятельности.
Таким образом, дело не в самой академической лекции, у которой, например, Н. В. Шестак не видит особых перспектив в связи с появляющимися дистанционными возможностями обучения [26], а Н. Н. Губанов и Н. И. Губанов, напротив, по той же причине придерживаются прямо противоположной позиции [31]. Основное инте- грирующее условие эффективности классических лекции, практики и семинара — это удовлетворение образовательного процесса логике поисковой, самоактуализи-рованной, «проблемно назревшей» познавательной деятельности (например, как это реализовано в авторской технологии адаптирующего обучения). Если отмеченная логика соблюдается, то академическая лекция, хотя и является характерным признаком [2; 26] критикуемого традиционного обучения, не только оказывается уместной, но и может стать ведущим проявлением высшего образования будущего.
Смешанное обучение и творчество. Основной посыл настоящего исследования связан с пониманием того, что развивать творческий потенциал студента может только творческий преподаватель с пониманием креативно-репродуктивной природы творческого потенциала индивида. Обе стороны (репродуктивная и креативная) важны для развития творческих возможностей обучающегося, в том числе и в ходе поисковой, самоактуализированной, «проблемно назревшей» познавательной деятельности.
Пандемия COVID-19 активизировала тенденции к изменению системы образования во всем мире в направлении смешанных форматов обучения, что требует отдельных комментариев в отношении соответствующих особенностей осуществления поисковой, самоактуали-зированной познавательной деятельности в контексте авторской технологии (парадигмы) адаптирующего обучения .
Смешанное обучение подразумевает дистанционную и аудиторную составляющие. Естественно, в периоды пандемий дистанционная составляющая приобретает абсолютный приоритет, что стало возможным благодаря цифровизации образования.
Когда пандемии проходят, аудиторная составляющая «возвращает» некоторые свои позиции в указанном балансе. Что это за позиции, какой баланс обеспечивает наиболее эффективное обучение, сегодня это предмет, пожалуй, самых острых дискуссий.
Технология «перевернутый класс» («перевернутое обучение») является одной из разновидностей смешанного обучения: она предусматривает упреждающую самостоятельную подготовку обучающихся с использованием дистанционных возможностей обучения (видеоматериалы, различного рода дистанционные задания). Разработанное нами адаптирующее обучение при реализации дистанционного образования может рассматриваться как разновидность технологии «перевернутый класс» в ее современных форматах [32, с. 76]. Тогда как обратное утверждение уже будет неверным, поскольку «перевернутый класс» — это вид смешанного обучения, особенности которого обусловлены средствами обеспечения дистанционного обучения.
Считаем, что изначальные особенности технологии «перевернутый класс» обусловлены только акцентом на самостоятельной подготовке в контексте аудиовизуальных дистанционных технологических возможностей демонстрации педагогического опыта. Данная технология, которая сегодня справедливо претендует на передовую образовательную концепцию [25], появилась благодаря тому, что два учителя химии стали выдавать сначала пропустившим занятие ученикам, а потом в качестве упреждающей самостоятельной подготовки видеокассеты с лекциями [24, с. 88]. Образовательный продукт передовых специалистов, как правило, отличается эффективностью самоактуализированного восприятия обучающимся новой для него области знания. Кроме того, обучающийся, выполняя задания самостоятельной подготовки в индивидуально комфортном режиме, получает время на осмысление материала, на обдумывание соответствующих проблемных моментов. В остальном технология «перевернутый класс», в том числе в ее современных вариациях [32, с. 76], не имеет каких-то принципиальных новшеств, все они были заимствованы из уже известного педагогического опыта по мере того, как данная технология получала бурное распространение и развитие в мировом образовательном пространстве.
Так, сложно считать ноу-хау эффекты «упреждающего» обучения технологии «перевернутый класс»: к моменту появления данной технологии уже существовала, например, упомянутая технология адаптирующего обучения . В зарубежном образовании в связи с этим сложно обойти вниманием новацию аж начала прошлого века. Причем имеется в виду технология, которая носила такое созвучное современному «перевернутому обучению» наименование, как «реверсное обучение», «реверсное инструктирование» [33, c. 29]. Относительно свежий пример «упреждающей доцифровой» западной педагогики — это технология Е. Мазура (1997), предусматривающая опережающую самостоятельную подготовку, способствующую проведению лекции с элементами семинара, с работой студентов в минигруппах [25, с. 88].
В настоящее время, как уже отмечалось, технология «перевернутое обучение» претендует на концепцию, парадигму современного образования [25].
Технология «перевернутое обучение» как методологическое основание образования далека от целостного оформления, что, на наш взгляд, обусловлено отсутствием интегрирующего концептуального стержня, связанного с закономерностями диалектической репродуктивно-креативной природы творчества в контексте предложенного комплексного критерия поисковой, самоактуализированной, «проблемно назревшей» познавательной деятельности обучающегося , а также с пониманием сотворческой сути процесса образования.
Теоретическое обоснование авторской технологии «адаптирующее обучение», в отличие от «перевернутого обучения», изначально базировалось на механизмах творчества и сотворчества. Сотворчество предполагает не только совместное создание преподавателем и студен- том образовательной со-бытийности (в виде дидактического контекста процесса обучения, совместного решения открытых задач, проектно-исследовательской деятельности и пр.), но и согласованное рассмотрение изменения студента и преподавателя. Остановимся на некоторых сотворческих эффектах профессиональной адаптации преподавателя к дистанционно ориентированной образовательной деятельности благодаря использованию относительно простых для понимания дидактических возможностей видов учебных занятий в их нетрадиционной последовательности, т. е. в результате применения технологии адаптирующего обучения.
Эффективность самостоятельной подготовки обучающихся многими учеными рассматривается как основной фактор продуктивности дистанционного обучения. При адаптирующем обучении, в том числе в рамках смешанного формата образования, результативность самостоятельной подготовки не является критически важной для эффективности обучения новой учебной теме на его первоначальном этапе. Заметим, что при многих вариантах реализации смешанного образования нередко ограничение доступа (программно-техническими средствами) к последующим содержательным блокам учебного курса, если не выполнены задания предшествующих этапов обучения. При адаптирующем обучении педагог принципиально не настаивает на самостоятельной подготовке на первоначальном этапе изучения новой темы. Это делается для того, чтобы обеспечить становление обучающегося в его самоактуализированном поисковом отношении к рассматриваемой области знания. В этом и заключается одна из сторон эффективности образования в контексте технологии адаптирующего обучения .
Цели практического (семинарского) занятия, которое проводится до лекции, как отмечалось ранее, как раз и направлены на то, чтобы, активизируя деятельностные механизмы появления интереса, мобилизовать жизненный опыт обучающегося, его природное стремление к новизне на «созревание» познавательного запроса относительно открывающейся области знания.
Если педагог решает применять адаптирующее обучение, то он естественным образом задается следующими вопросами, определяющими ход его проектировочной деятельности: какие выдать задания на самостоятельную подготовку, каким образом провести само практическое (семинарское) занятие в условиях, когда обучающийся еще не знаком с соответствующей системой знания (лекция не проводилась); как рассмотреть учебные вопросы, чтобы, с одной стороны, остаться в рамках содержательного дискурса учебной дисциплины, с другой — активизировать познавательный интерес обучающегося на основе его жизненного опыта и компетентности. В результате, если речь идет о семинаре, то, как показывает многолетний опыт, педагогом успешно проектируются наиболее актуальные практические задания в контексте адекватных им блоков учебного материала, которые не- редко распределяются по группам обучающихся, с тем чтобы обеспечить кооперацию при подготовке к семинару, работу в группах на самом семинаре. И многие современные средства дистанционного обучения в этом случае оказываются как нельзя кстати.
Если речь идет о практическом (лабораторном) занятии, которое предшествует лекции, то сама ситуация подталкивает педагога к осуществлению некоего общего обзора самого актуального теоретического материала, соответствующего информационному сопровождению обучения в дистанционном формате. Тот же эволюционный характер педагогически грамотных действий свойственен и заданиям по работе с оборудованием — задания естественным образом конструируются в логике «от простого к сложному», активизируя разработку педагогом соответствующего методического обеспечения.
Поисково-ориентированные, самоактуализиро-ванные эффекты технологии адаптирующего обучения обусловлены тем, что обучающийся чувствует себя необремененным обязательной всесторонней подготовкой к занятию, он свободно задает вопросы (в том числе выходящие за рамки данной учебной дисциплины), в свою очередь «подсказывая» преподавателю актуальный ход обучения и на текущем занятии, и на последующем. Сама деятельность по решению понятных заданий, работе с лабораторным оборудованием, иными учебнопрактическими средствами, даже если в начале она не вызывала интереса, приводит к таковому вследствие творческой сути человека, которому, как отмечалось ранее, крайне сложно дается рутинная работа, но у которого всегда сохраняется стремление к новому, к пониманию перспектив своей активности.
Лекционное занятие, проводимое после практики (семинара) даже в академическом его варианте, при адаптирующем обучении характеризуется качественно иным уровнем познавательного интереса обучающегося. Ведь он «созрел» до систематизации ряда проблемных вопросов, часть теоретического материала он воспринимает уже повторно, пусть и в более углубленном виде, преподаватель остается открытым для ответа на вопросы и саму лекцию строит с учетом той обратной связи, которая имела место на предыдущих занятиях. Но самое главное состоит в том, что система знания по данной теме воспринимается обучающимся не в качестве догмы, чего-то раз и навсегда определенного, а как один из подходов к описанию закономерностей рассматриваемого предмета изучения. Это значит, что обучающийся формируется как инноватор, т. е. тот, кто способен взглянуть на устоявшиеся знание и технологии с принципиально новой точки зрения.
Опыт показывает, что самостоятельная подготовка при адаптирующем обучении естественным образом действительно становится ведущим фактором обучения, при этом дистанционные возможности образования начинают проявлять себя с лучших сторон.
Один из часто возникающих вопросов у осваивающих адаптирующее обучение педагогов связан с возможным дефицитом учебного времени. Ведь не всегда имеется ресурс учебного времени на проведение практического (семинарского) занятия и до лекции, и после лекции. В этом случае занятия реализуются с упомянутым ранее «смещением по времени». На практическом (семинарском) занятии, которое предваряет изучение новой учебной темы, первая часть занятия завершается изучением предыдущей темы, углубляя осмысление обучающимися ее содержания. Во второй части рассматриваются учебные задания новой учебной темы в целях появления у обучающихся самоактуализированного, «проблемно назревшего» познавательного интереса к соответствующему разделу области знания.
Занятия со «смещением по времени» характеризуются динамичностью и разнообразием познавательной активности, что снижает утомляющий эффект от учебной деятельности; пропустившие по каким-либо причинам занятия обучающиеся достаточно быстро восстанавливают пробелы в обучении.
При акцентировании внимания на поисковой, само-актуализированной, «проблемно назревшей» познавательной активности обучающихся нам не понадобилось противопоставление репродуктивных проявлений обучения креативными: они составили органическое единство. Вместе с тем значимая для нас технология «перевернутый класс» («перевернутое обучение») нередко раскрывается в контексте классификации Б. Блума [25, с. 87] с ее логикой проектирования образования «от репродукции к креативности».
Заметим, что поисковый и самоактуализирован-ный познавательный процесс в отношении любой современной области знания не может осуществляться исключительно на креативном уровне. Это объясняется дефицитом учебного времени, приоритетами усвоения материала, в свою очередь ограничениями, связанными с содержанием образовательных программ, потенциалом педагогического состава, материальнотехнической базой учебного заведения, уровнем подготовки и мотивацией обучающихся, особенностями конкретной области знания. Более того, мы исходим из того, что, учитывая задачи взаимосвязанного изучения не только различных учебных тем (в том числе с «забеганием вперед»), но и различных учебных дисциплин, соответствующие эффекты упреждающего обучения со свойственными им «репродуктивными» проявлениями могут характеризовать все этапы изучения текущей учебной темы. Поэтому мы усматриваем в логике проектирования образовательной деятельности с позиции классификации Б. Блума существенные ограничения, так как считаем, что передовая педагогическая практика — это практика, темпорально «уравновешенная» в своих репродуктивно-креативных аспектах [34–36].
Таким образом, Российское государство остро нуждается в «прорывных» производственных и социальных новациях, соответствующих инновационных специалистах. Необходимое для этого условие заключается в соответствии образовательного процесса в его репродуктивно-креативной логике разработанному критерию поисковой, самоактуа-лизированной, «проблемно назревшей» познавательной активности обучающегося (в контексте методов и средств обучения в вузе). Выполнению данного условия призвано благоприятствовать широкое внедрение авторской технологии адаптирующего обучения .
Выводы
В отношении форм образования (аудиторных, дистанционных, смешанных) обоснована технология (парадигма) адаптирующего обучения, базирующаяся на наследии Я. А. Коменского, механизмах тем-порально сгармонизированного процесса обучения в его репродуктивно-креативных проявлениях; закономерностях поисковой, самоактуализированной, «проблемно назревшей» познавательной деятельности обучающегося, согласованного изменения преподавателя и обучающихся.
При ориентации на смешанное образование решение проблемы подготовки инновационного специалиста справедливо рекомендовать в связи с широкой популяризацией парадигмы (концепции, технологии) «перевернутое обучение» с учетом свойственных авторской технологии адаптирующего обучения особенностей.
Исходя из диалектичности репродуктивной и креативной сторон творческой природы человеческого познания, традиционное обучение некорректно противопоставлять иным его моделям в качестве некоей неприемлемой крайности: традиционное обучение тесно связано с репродуктивным аспектом творческого потенциала индивида, а это неотъемлемое проявление инновационной продуктивности специалиста. Традиционное обучение, во всяком случае свойственные ему признаки, всегда будет сохраняться в образовательной деятельности.
Перспективы. Дальнейшие исследования связаны с анализом факторов, которые способствуют и препятствуют внедрению в систему образования технологии и парадигмы «адаптирующее обучение», а также иного передового педагогического опыта в контексте глобализационных и национально ориентированных векторов развития общества в целом и образования в частности.
Список литературы Адаптирующее обучение как перспективное направление развития технологии и парадигмы «перевернутый класс». Часть I
- Агапова Н. Г. Парадигмальные ориентации и модели современного образования (системный анализ в контексте философии культуры): монография. Рязань, 2008. 364 с.
- Тарасова О. И. Образование: между прошлым и будущим // Философия образования. 2020. Т. 20, № 4. С. 17-31. https:// doi.org/10.15372/PHE20200402.
- Budd R. Undergraduate orientations towards higher education in Germany and England: problematizing the notion of «student as customer». Higher Education. 2017. Vol. 73, No 1. Pp. 23-37. https://doi.org/10.1007/s10734-015-9977-4.
- McCulloch A. The student as co-producer: Learning from public administration about the student-university relationship. Studies in Higher Education. 2009. Vol. 34, No. 2. Pp. 171-183. https://doi.org/10.1080/03075070802562857.
- Smolentseva A. Marketisation of higher education and dual-track tuition fee system in post-Soviet countries. International Journal of Educational Development. 2020. Vol. 78. Pp. 1-30. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102265.
- Barabas M. Co-Production Between the Provider and the Recipient, as a Method of Increasing the Performance in Educational Services. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2017. Vol. 10, No. 6. Pp. 234-247. https://doi.org/10.15838/esc.20176.54.15.
- Bovill C., Bulley C. J. A model of active student participation in curriculum design: Exploring desirability and possibility / C. Rust (ed.). Improving Student Learning (ISL) 18: Global Theories and Local Practices: Institutional, Disciplinary and Cultural Variations. Series: Improving Student Learning (18). Oxford Brookes University: Oxford Centre for Staff and Learning Development, 2011. Pp. 176-188.
- Ranjbarfard M., Heidari Sureshjani M. Offering a framework for value co-creation in virtual academic learning environments. Interactive Technology and Smart Education. 2018. Vol. 15, No 1. Pp. 2-27. https://doi.org/10.1108/ITSE-08-2017-0040.
- Bramming P. An argument for strong learning in higher education. Quality in Higher Education. 2007. Vol. 13, No. 1. Pp. 45-56. https://doi.org/10.1080/13538320701272722.
- Manzoor A., Aziz H., Jahanzaib M. [et al.] Transformational model for engineering education from content-based to outcome-based education. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning. 2017. Vol. 27, No. 4. Pp. 266-286. https://doi.org/10.1504/IJCEELL.2017.087136.
- Barber C. S. When Students are Players: Toward a Theory of Student-Centric Edu-Gamification Systems. Journal of Information Systems Education. 2021. Vol. 32, No. 1. Pp. 53-65.
- Meng L., Qiu C., Boyd-Wilson B. Measurement invariance of the ICT engagement construct and its association with students' performance in China and Germany: Evidence from PISA 2015 data. British Journal of Educational Technology. 2019. Vol. 50, No. 6. Pp. 3233-3251. https://doi.org/10.1111/bjet.12729.
- Wulf C. From Teaching to Learning: Characteristics and Challenges of a Student-Centered Learning Culture. Inquiry-Based Learning — Undergraduate Research / Harald A. Mieg (ed.). Cham, 2019. Pp. 47-55. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14223-0.
- Дубров Д. В., Кочетков М. В., Стеклянников В. Ю. Работодатель как актор студентоцентрированного образования: опыт реализации // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 11. С. 141-152. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-11-141-152.
- Смолянинова О. Г. Компетентностный подход в педагогическом образовании в контексте использования мультимедиа: монография. Красноярск, 2006. 172 с.
- Зимняя И. А., Мазаева И. А., Лаптева М. Д. Коммуникативная компетентность, речевая деятельность, вербальное общение. М., 2020. 400 с.
- Гилязова О. С., Замощанский И. И. Специфика универсальных компетенций высшего образования России в контексте компетентностно-ориентированного образования: концептуальный анализ // Перспективы науки и образования. 2022. № 2(56). С. 77-94. https://doi.Org/10.32744/pse.2022.2.5.
- Хуторской А. А. Методологические основания применения компетентностного подхода к проектированию образования // Высшее образование в России. 2017. № 12. С. 85-90.
- Лыкова В. С. Преобразование компетентности в компетенции и ключевые компетенции // Теория и практика современного образования: актуальные проблемы и перспективы развития: мат-лы всерос. науч.-практ. конф. Ярославль, 2014. С. 109-124.
- Малошонок Н. Г., Щеглова И. А. Модели организации обучения студентов в университете: основные представления, преимущества и ограничения // Университетское управление: практика и анализ. 2020. Т. 24, № 2. С. 107-120. https://doi. org/10.15826/umpa.2020.02.017.
- Comber Darren P. M., Brady-Van den Bos М. Too much, too soon? A critical investigation into factors that make Flipped Classrooms effective. Higher Education Research & Development. 2018. Vol. 37, No. 4. Рр. 683-697. http://doi.org/10.1080/07294360.20 18.1455642.
- López-Belmonte J., Guerrero A., Núñez J., Sánchez S. Scientific production of flipped learning and flipped classroom in Web of Science. Texto Livre Linguagem e Tecnología. 2021. Vol. 14, No. 1. Рр. 1-26. https://doi.org/10.35699/1983-3652.2021.26266.
- ^evikba§ M., Argün Z. An Innovative Learning Model in Digital Age: Flipped Class-room. Journal of Education and Training Studies. 2017. Vol. 5, No 11. Рр. 189-200. https://doi.org/10.11114/jets.v5i11.2322.
- Teo T., Khazaie S., Derakhshan A. Exploring teacher immediacy-(non)dependency in the tutored augmented reality gameassisted flipped classrooms of English for medical purposes comprehension among the Asian students. Computers & Education. 2022. Vol. 179. P. 104406. https://doi.org/10.1016/jxompedu.2021.104406.
- Гнутова И. И. От «перевернутого класса» к «перевернутому обучению»: эволюция концепции и ее философские основания // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 3. С. 86-95. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-3-86-95.
- Шестак Н. В. Лекция в вузе в контексте компетентностного подхода // Высшее образование в России. 2018. Т. 27, № 8-9. С. 43-53. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-8-9-43-53.
- Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие / сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. М., 1989. 416 с.
- Кочетков М. В. Становление и развитие профессиональных качеств преподавателя: возможности «адаптирующих» последовательностей проведения учебных занятий // Педагогика и медицина в служении человеку: мат-лы IV всерос. науч.-практ. конф. Красноярск, 2017. С. 206-217.
- Кочетков М. В. Становление профессиональных качеств преподавателя: нетрадиционная организация обучения, ориентированная на теоретическую подготовку // Педагогика и медицина в служении человеку: мат-лы IV всерос. науч.-практ. конф. Красноярск, 2017. С. 218-235.
- Кочетков М. В. Практико-ориентированные формы организации обучения как фактор дидактической готовности преподавателя // Педагогика и медицина в служении человеку: мат-лы IV всерос. науч.-практ. конф. Красноярск, 2017. С. 235-253.
- Губанов Н. Н., Губанов Н. И. Отмирает ли лекция в качестве ведущей формы обучения? // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 12. С. 72-85. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-12-72-85.
- Тихонова Н. В. Технология «перевернутый класс» в вузе: потенциал и проблемы внедрения // Казанский педагогический журнал. 2018. № 2. С. 74-79. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32768839.
- Ковардакова М. А. Интерактивные технологии обучения в высшей школе: смешанное обучение: в 2 ч. Ч. 2. Ульяновск, 2017. 50 с.
- Kochetkov M. V. Traditional and adaptive learning paradigms as integral components of the innovation-oriented education of the future. Perspectives of Science and Education. 2022. Vol. 58, No. 4. Рр. 24-41. https://doi.org/10.32744/pse.2022.4.2.
- Кочетков М. В. Инновации в образовании. Как отделить зерна от плевел? // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 11. С. 153-166. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-11-153-166.
- Кочетков М. В., Носков М. Ф. Критерии педагогической инновации на примере технологии «Перевернутый класс» в инженерном образовании // Science for Education Today. 2019. Т. 9, № 3. С. 185-199. https://doi.org/10.15293/2658-6762.1903.11.