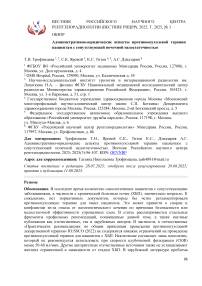Административно-юридические аспекты противоопухолевой терапии пациентам с сопутствующей почечной недостаточностью
Автор: Трофимцева Т.Н., Яровой С.К., Титов К.С., Дзидзария А.Г.
Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr
Рубрика: Обзор
Статья в выпуске: 3 т.25, 2025 года.
Бесплатный доступ
Обоснование. В последнее время количество онкологических пациентов с сопутствующими заболеваниями, в частности с хронической болезнью почек (ХБП), значительно возросло. К сожалению, нет нормативных документов, которые бы четко регламентировали противоопухолевую терапию для таких пациентов. Это может привести к спорам и конфликтам из-за отказа от патогенетического лечения по причинам безопасности или недостаточной эффективности упрощенных схем. В статье рассматриваются отдельные фрагменты профильных рекомендаций, посвященные данной теме, а также научные публикации как отечественных, так и зарубежных авторов. В частности, в отечественных «Практических рекомендациях по общим принципам проведения противоопухолевой лекарственной терапии» RUSSCO (2022) не содержится никаких ограничений на проведение противоопухолевой терапии для пациентов с ХБП. Исключение составляет лишь цисплатин, который не рекомендуется использовать при скорости клубочковой фильтрации (СКФ) менее 50-60 мл/мин. Другие авторитетные отечественные источники также не устанавливают жестких ограничений в зависимости от стадии ХБП. В зарубежной литературе проблема противоопухолевой терапии пациентов с консервативно-курабельной почечной недостаточностью освещена однобоко. В основном рассматриваются вопросы, связанные с техническим пересчётом дозировок препаратов, а не с эффективностью схем лечения. Существуют рекомендации по корректировке доз противоопухолевых средств в зависимости от режима гемодиализа. Также есть много публикаций о паранеопластических нефропатиях, при которых повреждение нефрона происходит с участием иммунной системы. Активизация противоопухолевой терапии может привести к ремиссии нефропатии. В настоящее время противопоказания к химиотерапии опухолей при ХБП проработаны крайне недостаточно. Юридически разрешено проводить такое лечение при любой функции почек, вплоть до терминальной стадии ХБП, что противоречит принципу «лечение не должно быть опаснее болезни». Заключение. Проблема химиотерапии опухолей у пациентов с ХБП намного сложнее, чем просто пересмотр дозировки. Если почечная недостаточность является необратимой, то возникает вопрос, сколько курсов химиотерапии (даже с уменьшенной дозой) сможет перенести пациент, прежде чем его состояние резко ухудшится и дальнейшая противоопухолевая терапия станет невозможной. Противоопухолевый эффект обычно наблюдается только после 3-4 курсов химиотерапии, за исключением некоторых высокочувствительных к лечению заболеваний. Однако риск декомпенсации существует даже после первого введения противоопухолевого препарата. Если есть вероятность, что пациент не сможет пройти все эти курсы, то проведение патогенетической противоопухолевой терапии становится бессмысленным.
Противоопухолевая химиотерапия, ХБП, паранеопластическая нефропатия, редуцированная схема химиотерапии, нефротоксичность
Короткий адрес: https://sciup.org/149149284
IDR: 149149284 | DOI: 10.24412/1999-7264-2025-3-96-107
Текст научной статьи Административно-юридические аспекты противоопухолевой терапии пациентам с сопутствующей почечной недостаточностью
В настоящее время всё более актуальным становится процесс упорядочения и стандартизации медицинской помощи. Одним из лидеров в этой области является противоопухолевая терапия. Это объясняется несколькими факторами: 1. Большое количество лекарственных препаратов, многие из которых имеют узконаправленное действие и могут вызывать побочные эффекты. 2. Высокая стоимость химиотерапевтических средств, что ложится серьёзным финансовым бременем на медицинские учреждения. 3. Постоянное развитие научных исследований и выход на рынок новых препаратов, что приводит к появлению всё большего числа возможностей для лечения.
Стандарт разработан для того, чтобы минимизировать ошибки в лекарственной терапии. С другой стороны, он может служить некоторой, хотя и ограниченной, юридической защитой врача. Среди администраторов и юристов распространено мнение, что терапия, не соответствующая или не полностью соответствующая действующим нормам, должна считаться неправильной (нежелательной, ошибочной или даже незаконной). Каждое из этих определений имеет свои юридические последствия. Однако эта позиция не является полностью обоснованной, так как нормативные акты обычно не определяют терапию в приказном порядке. В них чётко прописаны только регламенты и ограничения, но не указания, как следует проводить лечение.
Все рекомендации, касающиеся лекарственной терапии пациентов, носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению. Вероятно, это делается для того, чтобы минимизировать ответственность их авторов. Следование рекомендациям, например, «Практическим рекомендациям по общим принципам проведения противоопухолевой лекарственной терапии – RUSSCO» [1], не может гарантировать врачу юридическую защиту в случае возникновения претензий в результате неудачного лечения. Врач отвечает за результаты своих действий, а не за слепое следование букве закона, вне зависимости от последствий.
Некоторую уверенность практическому врачу придает осознание «обоснованности» терапии. Обосновывать ее можно несколькими путями. Про один из них только что сказано – следование Рекомендациям. Схожий путь – исполнение решения врачебной комиссии или консилиума, особенно если в его состав входят внешние консультанты из профильного НИИ или кафедры. С развитием телемедицины такие консилиумы давно прекратили быть экзотикой.
Совершенно другой подход к обоснованию терапии связан с анализом фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных средств. Тогда выбор препарата становится осмысленным, в противовес слепому исполнению написанного в нормативном документе. Именно для этого была создана специальность «клиническая фармакология». С позиции этой области медицины, «препарат выбора» следует понимать как конкурентоспособность какого-либо варианта терапии по соотношению
«эффективность/безопасность/стоимость».
Однако прежде чем углубиться в обсуждение фармакодинамики и фармакокинетики, стоит рассмотреть нормативную базу, касающуюся заявленной в заголовке темы — противоопухолевой терапии при сопутствующей почечной недостаточности. Отечественных документов, которые напрямую регламентировали бы это направление противоопухолевой терапии, нет. Поэтому придется рассматривать фрагменты документов, затрагивающие данную тематику, а также отдельные научные публикации, как отечественные, так и зарубежные [2,3].
В то же время существует множество административно-правовых вопросов. Рассмотри лишь основные из них:
-
1. Какие ограничения накладывает почечная недостаточность при проведении
-
2. Какой уровень креатинина или СКФ является официальным противопоказанием
-
3. Как должна осуществляться подготовка этих коморбидных пациентов к противоопухолевой терапии?
-
4. Какой специалист должен заниматься этой подготовкой и в каком ЛПУ?
-
5. Отдельный вопрос об онкологической помощи пациентам на гемодиализе.
противоопухолевой терапии?
к патогенетической (несимптоматической) противоопухолевой терапии в целом, а также к основным классам противоопухолевых средств:
классической химиотерапии алкилирующими средствами и антиметаболитами;
таргетным препаратам;
средствам биотерапии (лечебным антителам);
гормонам и антигормональным препаратам.
На некоторые из этих вопросов мы сделаем попытку ответить в настоящей статье.
Анализ отечественных и зарубежных клинических рекомендаций
Несомненно, наибольший юридический вес в среде отечественных онкологов имеют уже упоминавшиеся «Практические рекомендации по общим принципам проведения противоопухолевой лекарственной терапии», которые издает и регулярно обновляет Российское общество клинической онкологии RUSSCO [1]. В издании 2022 года указано только одно абсолютное противопоказание к противоопухолевой терапии – «крайне тяжелое общее состояние пациента». Далее уточняется, что имеется в виду «статус по шкале ECOG 4 балла».
Это существенная особенность, на которую стоит обратить внимание. В общей терапии тяжесть состояния определяется наличием и выраженностью функциональных нарушений жизненно важных органов и систем. Крайне тяжелое общее состояние пациента подразумевает кому и/или крайне декомпенсированную сердечную или дыхательную недостаточность. Шкала ECOG, принятая в современной онкологии, оценивает тяжесть состояния больше с социальных позиций – с точки зрения способности пациента выполнять повседневную работу, обслуживать себя и т.д. Легко можно представить ситуацию, когда «крайне тяжелый» по шкале ECOG пациент имеет ясное сознание, нормальную сатурацию, артериальное давление и синусный ритм адекватной частоты. По общетерапевтическим принципам общее состояние у него удовлетворительное, несмотря на неспособность к самообслуживанию.
Среди относительных противопоказаний фигурируют острые сердечно-сосудистые заболевания. Почечная недостаточность упомянута лишь относительно цисплатина (СКФ<50-60 мл/мин).
Таким образом, основополагающий регламентирующий документ вообще никак не ограничивает противоопухолевую терапию не только пациентам с сопутствующей почечной недостаточностью, но и коморбидным больным в целом, за вычетом отдельных острых состояний типа инфаркта миокарда.
Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под ред. Н.И. Переводчиковой и В.А. Горбуновой (2018) отдельно не останавливается на изучаемом вопросе, однако в качестве приложения проводится таблица «коррекция дозы препаратов (%) в зависимости от функции почек» [4]. Наибольшее внимание привлекли два крайних столбца, соответствующих СКФ 10-30 мл/мин и <10 мл/мин. Из этого следует, что авторский коллектив считает возможным проводить противоопухолевую терапию не только в условиях тяжелой ХПН (ХБП), но даже при декомпенсации терминальной стадии (!), чему соответствует несовместимая с жизнью СКФ<10 мл/мин. Кроме терминальной ХПН (ХБП Vст.), такая фильтрационная функция почек может наблюдаться при ОПН (ОПП), а также у пациентов, получающих заместительную почечную терапию ( de ure у них тоже терминальная ХПН, но компенсированная диализным аппаратом). Однако идея проведения химиотерапии в условиях ОПП выглядит еще более экзотической, а проведение гемодиализа нигде не уточняется. Кроме того, запрет большинства химиотерапевтических средств (кроме циклофосфамида, этопозида, гидроксимочевины и мелфалана) не соответствует реальной клинической практике оказания онкологической помощи пациентам, получающим заместительную почечную терапию.
Практические рекомендации по коррекции нефротоксичности противоопухолевых препаратов также дословно копируют вышеупомянутую таблицу, однако там имеется специальный раздел по противоопухолевой терапии у пациентов, получающих лечение программным гемодиализом. Он краток, но весьма информативен. Суть его состоит в ключевой установке, что терминальная ХПН не является абсолютным противопоказанием для назначения противоопухолевой терапии. Представлена таблица по коррекции дозировок относительно диализной программы. Противопоказан только один препарат – ифосфамид. Но каких-либо рекомендаций по выбору препарата в зависимости от диагноза не представлено.
В зарубежной литературе уже более десяти лет активно обсуждаются вопросы, связанные с корректировкой дозировок противоопухолевых препаратов в зависимости от режима гемодиализа [5]. Например, в статье 2010 года подробно рассматриваются не только препараты платины, но и таксаны, доксорубицин, этопозид, метотрексат и другие распространённые противоопухолевые средства с этой точки зрения [6].
Недавно, в 2018 году, группа японских учёных опубликовала масштабное эпидемиологическое исследование, посвящённое онкологической помощи пациентам, находящимся на гемодиализе [7]. Результаты исследования удивили: лишь 15% больных, то есть каждый седьмой, получили противоопухолевую терапию. Авторы предоставили подробную информацию о диагнозах пациентов, схемах химиотерапии и выживаемости, которая, по их мнению, была сопоставима с показателями для общей популяции. Однако у нас возник вопрос: если терминальная стадия хронической болезни почек (ХБП) не является противопоказанием к противоопухолевой терапии, то почему оставшиеся 85% пациентов остались без лечения? К сожалению, на этот вопрос нет ответа.
Проблема противоопухолевой терапии пациентам с сопутствующей консервативно-курабельной почечной недостаточностью в зарубежной литературе освещена весьма однобоко [8,9]. Как и в ситуации с диализом, в основном обсуждается не целесообразность той или иной схемы терапии, а технический пересчет дозировок препаратов. В подробных рекомендациях Международного общества гериатрической онкологии (SIOG) по корректировке дозирования лекарств при почечной недостаточности, опубликованных в 2007 году, показания и противопоказания для конкретных препаратов, связанные со сниженной функцией почек, рассматриваются весьма поверхностно [10]. Однако стоит отметить, что сама таблица пересчёта выполнена на высоком уровне. Снижение дозировок связано со стадиями хронической болезни почек, за исключением первой стадии, при которой фильтрационная функция почек в норме. Степень снижения дозировки указана не в процентах от нормы, а в абсолютных величинах, рассчитанных относительно площади поверхности тела. На наш взгляд, такой подход позволяет значительно снизить риск ошибок в расчётах. В столбце, посвящённом пятой стадии хронической болезни почек (терминальной ХПН), содержатся рекомендации для пациентов, получающих заместительную почечную терапию. Это свидетельствует о том, что авторы не поддерживают идею проведения химиотерапии при декомпенсированной ХПН.
В общемедицинской практике при наличии дефицита фильтрационной функции почек первое введение препарата, имеющего почечный путь выведения, практически всегда выполняют в средней (нагрузочной) дозировке, что необходимо для быстрого создания терапевтической концентрации лекарственного средства. Сниженная дозировка применяется, начиная со второго введения. Авторы не уточняют, насколько актуальна эта установка, применительно к противоопухолевым средствам.
В реальной онкологической практике при проведении противоопухолевой терапии правило повышенной первой дозы не применяется. На фоне дефицита фильтрационной функции почек с самого начала редуцируются дозировки не только средств, имеющих почечный путь выведения, но нередко вообще всех, в том числе и выводящихся печенью. Вероятно, причина этого не в особенностях фармакокинетики противоопухолевых препаратов, а в их токсичности. Если она проявится, то придётся отказаться от патогенетической терапии на неопределённый срок. Кажется, что лучше проводить лечение, даже если оно заведомо менее эффективно, чем не проводить его вовсе. Однако остаётся неясным, насколько сильно и приемлемо это снижение эффективности.
Другая актуальная тема исследований - предсказание нефротоксичности посредством оценки исходной функции почек. Дело в том, что, несмотря на строгую дозозависимость нефротоксичности, реализация этого риска наблюдается далеко не у всех пациентов, даже если на то были серьезные предпосылки в виде исходно сниженной функции почек или умеренной передозировки препарата. В онкологии в наибольшей мере это касается соединений платины. Авторы этих исследований пытаются найти связь между возникновением риска и методами оценки исходного состояния почек. Они предполагают, что какой-то метод может давать сильно завышенные результаты скорости клубочковой фильтрации (СКФ), что приводит к передозировкам цисплатина и других нефротоксичных препаратов [11,12]. Однако, к сожалению, не удалось выявить конкретную методику, которая вызывает такие серьёзные ошибки. Маловероятно, что это действительно так, поскольку в других областях клинической медицины, где встречаются пациенты с почечной недостаточностью, эта проблема не стоит так остро. Скорее всего, реализация риска зависит от множества факторов, некоторые из которых сложно предсказать и нельзя контролировать.
В научной литературе, особенно, зарубежной, вопрос оценки фильтрационной функции почек у пациентов онкологического профиля обсуждается более 20 лет. Многие исследователи указывают, что точность оценки фильтрационной функции почек имеет критически важное значение, так как многие противоопухолевые препараты имеют узкий терапевтический интервал. Если значение СКФ окажется завышенным, то это чревато передозировками лекарственных средств и токсичностью. Заниженное значение СКФ менее опасно для пациента, однако может пострадать эффективность лечения вследствие недостаточной дозировки. Rhee и его коллеги (2017) считают, что формулы Кокрофта-Голта и MDRD (Модификация диеты при заболеваниях почек, Modification of Diet in Renal Disease) могут занижать расчетную скорость клубочковой фильтрации (СКФ) [13]. Lees и его коллеги (2023) предполагают, что более предпочтительным является расчет СКФ на основе цистатина C, а не креатинина, особенно для пациентов, проходящих противоопухолевую терапию [14]. Главным преимуществом данного метода является слабая зависимость уровня цистатина C в сыворотке крови от пола, возраста, мышечной массы и других факторов. Это особенно актуально в педиатрии и в более редких клинических случаях, когда уровень креатинина может сильно изменяться, например, при мышечной дистрофии или после ампутации конечностей. На необходимости особо тщательной оценки фильтрационной функции почек у детей, получающих терапию метотрексатом и цисплатином, акцентируют внимание Mahmoud с соавт. (2022)[15].
Существует множество исследований, посвящённых паранеопластическим нефропатиям [16-19]. Это состояние, при котором почки поражаются, но не из-за самой опухоли или её давления на окружающие ткани, а из-за того, что опухолевые клетки вырабатывают опухолевые антигены, факторы роста и цитокины [20]. Паранеопластическая нефропатия с терминологической точки зрения представляет собой разнородную совокупность вторичных патологических процессов в почке, объединяемых лишь наличием у пациента злокачественной опухоли. Среди множества описанных в литературе вариантов самым частым и известным является мембранозная нефропатия. Это один из гистологических вариантов хронического гломерулонефрита, который проявляется значительной протеинурией при скудном мочевом осадке с быстрым формированием нефротического синдрома. Долгое время считалось, что в основе этого заболевания лежат нарушения клеточного иммунитета. Однако в настоящее время доказано, что этот вид гломерулонефрита имеет гуморальную (антительную) природу. По оценке Дворецкого и др. (2022) частым и характерным сочетанием является мембранозная нефропатия на фоне рака легкого [21].
Взаимосвязь злокачественных новообразований и мембранозной нефропатии не только прямая, но и обратная. То есть при впервые выявленном нефротическом синдроме или мембранозной нефропатии, которая достоверно подтверждается выявлением в крови пациента антител к рецептору фосфолипазы A2 и результатами морфологического исследования почечного биоптата, особенно в пожилом возрасте, целесообразно обследование, направленное на поиск новообразования (онкопоиск). Следует уточнить, что биопсия почки решает далеко не все диагностические задачи. В частности, патоморфологическое исследование почечного биоптата, включая иммуногистохимическое исследование и электронную микроскопию, могут установить гистологическую форму нефрита, но отличить первичный нефрит от вторичного далеко не всегда в состоянии. Еще сложнее по гистологической картине предположить причину вторичного нефрита. Таким образом, биопсия почки онкопоиск не заменит.
Ещё одним распространённым типом паранеопластической нефропатии является дисфункция проксимальных канальцев, известная как синдром Фанкони. Этот синдром чаще всего встречается при множественной миеломе и других опухолевых заболеваниях, которые характеризуются выработкой парапротеинов. Также известно множество более редких вариантов паранеопластической нефропатии, таких, как тромботическая микроангиопатия, фокально-сегментарный гломерулосклероз и другие [22].
Паранеопластическая нефропатия закономерно приводит к дефициту фильтрационной функции почек (ХБП) и существенно ухудшает прогноз. По мнению Колиной и Бобковой (2014) при развитии паранеопластической нефропатии целесообразно активизировать противоопухолевую терапию, что может привести к ремиссии и даже исчезновению проявлений нефропатии [19]. Между тем эффект от иммуносупрессивной терапии, которая является патогенетической при нефритах иммунной этиологии, при паранеопластической нефропатии весьма ограничен.
Отдельно рассматриваются ятрогенные нефропатии - лекарственное и лучевое повреждение почек. Лучевой нефрит в настоящее время представляет собой практически казуистическую редкость, что связано с совершенствованием методик радиотерапии. Прямого облучения почки в настоящее время почти всегда удается избежать. Между тем лекарственные нефропатии, возникшие на фоне применения противоопухолевых средств, представляют собой сложную задачу, далекую от окончательного решения. Существенный прорыв в безопасности химиотерапии злокачественных новообразований произошел с массовым внедрением в клиническую практику опухолеспецифичных средств - таргетных препаратов и лечебных антител. Они не исключают развитие лекарственной нефропатии, однако сопровождаются существенно меньшим ее риском относительно классических алкилирующих средств и антиметаболитов.
По оценке Chinnadurai и соавт. (2019), наличие онкологического заболевания является независимым фактором риска общей смертности, однако не оказывает влияния на прогрессирование хронической болезни почек [23]. На наш взгляд, это утверждение вызывает сомнения. Хроническая болезнь почек (ХБП), несмотря на наличие слова «болезнь» в названии, представляет собой не нозологию (заболевание) или синдром, а набор маркеров, которые наблюдаются у пациента на протяжении более 6 месяцев. Одним из таких маркеров является снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), которая рассчитывается по уровню креатинина. Причина повышения уровня креатинина в данном контексте не имеет большого значения. Если к основному заболеванию почек присоединится опухолевая интоксикация, то уровень креатинина увеличится, а расчетная СКФ снизится. Как это можно объяснить, если не как прогрессирование ХБП?
Заключение
Анализ отечественных и зарубежных клинических рекомендаций, посвященных противоопухолевой терапии у пациентов с сопутствующей почечной недостаточностью, вызывают разочарование. По сути, документы эти ничего не рекомендуют, ничего не запрещают, ни от чего не ограждают. Они также не могут защитить от возможных претензий. «Клинические рекомендации», сводящиеся к решению технических вопросов (например, как пересчитать дозу препарата на СКФ), могут быть признаны рекомендациями, но никак не клиническими.
Крайняя непроработанность противопоказаний к химиотерапии опухолей, создает почву для многочисленных конфликтных ситуаций. Юридическое разрешение проводить такое лечение при любой функции почек, вплоть до «недиализной» терминальной ХПН, противоречит принципу «лечение не должно быть опасней болезни». А ведь в следовании этой установке и проявляется суть именно клинических рекомендаций - при такой-то стадии функциональной недостаточности (почек, печени, сердца - любого органа) данная методика становится нецелесообразной, так как риск жизнеугрожающей декомпенсации становится неприемлемым или несоизмеримым с возможными выгодами. Таким образом формируется некое ограничение, которое затем юридически оформляется. И обсуждаться должна методика/схема/подход и т.д., но не конкретный препарат, в отношении которого всегда можно обратиться к официальной инструкции.
Можно предположить, что, если препаратов несколько, так можно взять несколько соответствующих инструкций. Но это логическая ошибка. Инструкции (и их содержание) нельзя складывать арифметически, хотя бы потому, что есть понятие лекарственных взаимодействий. Есть и другие, более сложные причины, по которым посторонний человек, выучивший наизусть, например, 50 инструкций к основным химиотерапевтическим средствам, не станет от того ни онкологом, ни фармакологом.
Проблема химиотерапии опухолей при наличии сопутствующей почечной недостаточности гораздо сложнее, чем просто пересмотр дозировки препаратов. Ключевой вопрос — это степень обратимости почечной недостаточности. Обратимость зависит от причины, которая привела к развитию почечной недостаточности, то есть от основного диагноза. Если предполагается обратимая острая почечная недостаточность (ОПП), например, постренального типа, вызванная сдавлением мочеточников опухолевым инфильтратом, то необходимо дренировать почки, а не снижать дозировку препаратов. После этого, возможно, не потребуется корректировать дозировки. Если обратимость не предполагается, то актуальным станет совершенно другой вопрос. Сколько курсов химиотерапии, пусть редуцированных по числу препаратов, пусть со сниженной дозировкой, сможет перенести пациент до развития тяжелой декомпенсации его состояния, делающей дальнейшую противоопухолевую терапию невозможной? Как известно, противоопухолевый эффект редко проявляется раньше 3-4 курсов, за исключением отдельных высокочувствительных к медикаментозной терапии нозологий, например, мелкоклеточного рака легкого или герминогенных опухолей. Между тем риск обострения почечной недостаточности вполне реален и после первого введения противоопухолевого препарата. Если предполагается, что пациент эти 3-4 курса не перенесет, то патогенетическую противоопухолевую терапию проводить бессмысленно. Пока решение это принимается эмпирически, исходя из опыта врача-онколога и смежных специалистов-консультантов.
Ответить на этот важный для современной онкологии вопрос поможет изучение реальной практики лечения онкологических больных. В результате исследования будут выявлены группы пациентов, для которых патогенетическая противоопухолевая терапия является целесообразной, а для кого — нет.
Вклад авторов. Трофимцева Т.Н. - сбор и обработка материала, написание текста; Яровой С.К. - концепция исследования, разработка дизайна исследования, написание текста; Титов К.С. - обзор публикаций, анализ данных; Дзидзария А.Г. - обзор публикаций, анализ данных, научное редактирование.
Финансирование. Данное исследование не получило поддержки из внешних источников финансирования.
Соблюдение прав пациентов и правил биоэтики. Данное обзорное исследование было основано на опубликованных работах и поэтому не требовало одобрения этического комитета.