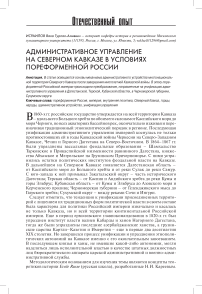Административное управление на Северном Кавказе в условиях пореформенной России
Автор: Исраилов В.Т.А.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье освещаются основы механизма административного устройства многонациональной территории Северного Кавказа после завершения многолетней Кавказской войны. В эпоху пореформенной Российской империи происходили преобразования, направленные на унификацию административного управления в Дагестанской, Терской, Кубанской областях, в Черноморской губернии, Сухумском округе.
Пореформенная Россия, империя, внутренняя политика, северный кавказ, горцы, народы, административное устройство, унификация управления
Короткий адрес: https://sciup.org/170202370
IDR: 170202370 | DOI: 10.31171/vlast.v32i1.9976
Текст научной статьи Административное управление на Северном Кавказе в условиях пореформенной России
В 1860-х гг. российское государство утверждается на всей территории Кавказа
– вдоль всего Большого хребта по обоим его склонам от Каспийского моря до моря Черного, во всех акваториях бассейнов рек, окончательно изживая и переиначивая традиционный этнополитический порядок в регионе. Последующая унификация административного управления империей коснулась не только противостоявших ей в годы Кавказской войны Черкесии на Северо-Западном Кавказе, Чечни и Горного Дагестана на Северо-Восточном. В 1864–1867 гг. были упразднены вассальные феодальные образования – Шамхальство Тарковское в Прикаспийской низменности равнинного Дагестана, княжества Абхазское и Мегрельское на Грузинском Причерноморье. С ними устранились остатки политических институтов феодальной власти на Кавказе. В дальнейшем на Северном Кавказе появляется Дагестанская область – от Каспийского моря до Большого хребта и от реки Сулак до реки Самур. С юго-запада к ней примыкал Закатальский округ – часть исторического Дагестана; Терская область – от Каспия и Андийского хребта до реки Кумы и горы Эльбрус; Кубанская область – от Кумы и Эльбруса до Азовского моря и Керченского пролива; Черноморская губерния – от Геленджикского мыса до Гагрского хребта; Сухумский округ – между реками Сочи и Ингури.
Следует отметить, что тенденция к унификации присоединенных территорий с лишением их традиционных форм политической власти в своем составе была характерна для политики Российской империи изначально и касалась не только Кавказа, но и всей территории континентальной Российской империи. Еще в период ермоловского главнокомандования в 1820-х гг. был упразднен институт власти валиев Кабарды и ханов Нагорного Дагестана, тогда же были упразднены последние азербайджанские ханства, а грузинские царства Картли–Кахетия и Имеретия – еще в первые два десятилетия XIX столетия. Но завершился процесс унификации и упразднения этнополитических автономий на Кавказе именно с его окончательным завоеванием. В последующем князья и ханы, не имевшие какой-либо автономии, могли наделяться лишь исполнительной властью в качестве штатных должностных лиц бюрократического аппарата царской административной и военно-административной службы.
Методологическим основанием для изучения темы являются концепты теоретиков истории Ecole Russe (русская школа), разработанные Н.И. Кареевым.
Важной закономерностью истории признавалось наличие одновременных явлений, связанных, с одной стороны, с унификацией в историческом процессе, с другой – с его особенностями, поскольку отдельные народы играли разную роль [Васильев 2012а: 48-49]. Особое значение это имело для территории многонационального Северного Кавказа, где проявлялось взаимодействие и одновременно влияние национальных факторов, обусловленных сохранением самобытности национальной культуры в едином историческом процессе. По мнению Кареева, история демонстрирует совокупность массы явлений духовной и общественной жизни, которые находятся в самом сложном взаимодействии [Васильев 2011: 122]. В условиях пореформенной России исторический процесс проявлялся в перекрещивающихся причинных связях, действующих на отдельные народы, основные направления развития которых обусловлены тремя факторами: особенностями внешней среды, прирожденными этническими свойствами, культурой народа [Васильев 2012б: 72].
Дагестанская, Терская и Кубанская области были образованы в начале 1860 г. на базе Кавказской кордонной линии и Черноморского войска, Дагестанской и Дербентской губерний, а также бывших дагестанских наибств. Черноморская губерния была образована только в 1896 г. Последние этапы переформатирования административных единиц связаны с отголосками покорения СевероЗападного Кавказа, заключавшимися в преодолении демографического кризиса после переселения черкесов [Дзидзария 1982: 213-294; Белозерова 2019; Верещагин 1885: 34-35].
Значительным административным фактором региона являлась сохранившаяся в горских населенных пунктах военная система управления, как и в годы Кавказской войны. Сохранение этой системы управления предписывало администрации полицейский контроль за населением при допустимости вооруженных методов принуждения в отношении отдельных аулов и общин. С утверждением северокавказских областей в них образовывались военные отделы, вверенные военному министерству. Центральная власть таких административных единиц сосредоточилась в руках областных начальников, подотчетных наместнику, который, в свою очередь, находился в подчинении военного министра. С 1883 по 1905 г. наместника переименовали в главноначальствующего Кавказской администрации [Евреинов 1908: 124], но специфика должности не изменилась.
С 1885 г. главноначальствующий (затем снова наместник) по совместительству являлся главнокомандующим войсками Кавказского округа, созданного в 1865 г., и атаманом новообразованных в 1860-х гг. казачьих войск Кубани и Терека. Подобное решение было принято в рамках консервативных реформ Александра III, сохранявших и приумножавших административные привилегии казачества как сословия, являвшегося исторически опорой и проводником императорской власти на Северном Кавказе.
В связи с повсеместным введением в горских районах военно-народного управления областные начальники переименовывались в военных губернаторов [История многовековых… 2009: 172]. Тем самым на Кавказе официально утверждалось военно-народное управление, при котором все управленцы от наместника или главноначальствующего до начальников отделов и округов в обязательном порядке набирались из действующих офицерских кадров, в подавляющем большинстве – русского происхождения. В их подчинении уже находились представители коренных народов, которых царские начальники сами назначали [Губаханова 1989: 144]. Такие правила существовали до преобразований Александра III, в ходе которых отменялась последняя для горцев форма самоуправления – выборы старшин аулов, что сводило на нет народные собрания горцев, сосредоточив всю власть сверху в руках генералов.
При данном порядке все низовые решения горского народного управления могли быть санкционированы только царской военной администрацией: «Будучи ставленниками ближайшего начальства и завися только от него, старшины нисколько не заботились об интересах жителей, а прилагали все старания к тому, чтобы угодить своим непосредственным начальникам» [Цаликов 1913: 75]. Соответственно, назначенные представители власти являлись посредниками между русским офицерством и народом. В результате гражданские институты в горской среде не внедрялись, а одновременно изживались и традиционные.
После городской реформы в 1870-х гг. на Кавказе утверждались городские думы и управы, однако в кавказских областях, как правило, градоначальники были офицерами, да и в городах туземное население не имело системного представительства. Сельское управление по типу земского внедрялось на Кавказе только в местах компактного проживания славянского населения, широко представленного на северо-западной его части и почти отсутствующего в Дагестане.
Дагестанская область состояла из 4 военных отделов и 2 гражданских управлений [Административно-территориальное… 2011: 6-8]. В Дагестане сохранялось больше всего на Северном Кавказе атавизмов прежнего этнополитического порядка времен ханского управления, но рычагов реальной власти дагестанские ханы и беки уже не имели, только номинальное представительство и содержание из царской казны. Однако русская администрация оставила модель шамилевского и дошамилевского наибства, подчинив его военному управлению окружных начальников. Позже царская администрация отошла от практики наибств, и в 1899 г. они были преобразованы в участки. Другое административное положение, менее симметричное и более разграниченное между внутренними частями самостоятельных единиц, представлялось в Терской и Кубанской областях.
Терская область подразделялась на 3 отдела: Военный отдел, Отдельное управление военного начальника округа Кавказских Минеральных Вод и Владикавказское городовое управление. Все горское население области находилось под управлением Военного отдела [Записки Кавказского отдела… 1866: 44]. Терское войско находилось под управлением военного начальника округа Кавказских Минеральных Вод, городское население области – под Владикавказским городовым управлением, резиденция которого располагалась в столице области Владикавказе1. К 1874 г. Терское войско компактно размещалось в одноименной области, которая, вместе с тем, прирастала городами. Ведомству терского атамана переподчинялось управление горским населением области, чьи округа были переименованы, и проведены новые границы. Так, к Владикавказскому округу добавляется Нальчикский округ – бывший Кабардинский, Грозненский – бывший Чеченский, Аргунский и Ичкерийский, или Веденский округа, Хасавюртовский округ – бывший Нагорный округ и отчасти – Кумыкский. Терское казачество же занимало территории Пятигорского, Кизлярского, Сунженского отделов.
Кубанская область претерпела больше всего административных изменений в связи с т ем, что образовалась она еще до завершения завоевания Северо-
Западного Кавказа. В 1865 г. сохранившееся коренное население располагалась в Псекупском, Лабинском, Урупском, Зеленчукском и Эльбрусском округах. В 1869 г. прежнее административное деление области ликвидировалось, и были введены 5 уездов – Баталпашинский, Ейский, Екатеринодарский, Майкопский и Темрюкский. В 1876 г. они дополнились еще 2 уездами – Закубанским и Кавказским. В 1888 г. все уезды были преобразованы в 7 отделов: Екатеринодарский (где находилась столица г. Екатеринодар), Темрюкский, Ейский, Лабинский, Майкопский и Баталпашинский, горские аулы присутствовали в первом и двух последних отделах, название же уезда закрепилось за меньшими единицами. Тогда же временно в состав области вошел Черноморский округ [Основные административно-территориальные… 1986: 20-35].
В Кубанской области осуществлялось разграниченное военное управление для казаков и солдат с офицерами, военно-гражданское для местного населения и гражданское для городов – по примеру Терской области. В обеих областях отмечалась тенденция к увеличению доли гражданского управления. Однако административные преобразования 1880-х гг. вернули Кавказский край в ведение военного министерства с привилегированным положением казачества в Кубанской и Терской областях, где начальствовали войсковые атаманы: «Положением 1888 г. об управлении Терской и Кубанской областями установлено узко-кастовое военно-казачье управление, без участия в нем не только представителей горских племен, но и не-казачьего русского элемента» [Цаликов 1913: 77]. Начальство наказного атамана в Черноморском округе уже было неполным, а соседний Сухумский совсем не подпадал под него.
Сухумский округ со столицей в г. Сухуми состоял из Гудаутского, Кодорского, Гумистинского и Самурзаканского участков. В 1904 г. от Сухумского округа Сочинскому округу Черноморской губернии передавалась территория по Гагрскому хребту (Джигетия), которая обезлюдела после исхода абхазов в Турцию. Как и в других административных единицах, где преобладали горцы и отсутствовало компактно расположенное казачество, во всем Сухумском округе за исключением городов действовало военно-народное управление. В Черноморской губернии осуществлялось гражданское управление, а элементы военно-народного применялись локализированно в Сочинском и Туапсинском округах, где царские власти позволили отстроить несколько аулов, куда поселились остатки причерноморских черкесов. Столицей Черноморской губернии являлся городок Новороссийск в одноименном округе. В силу климатических и миграционных затруднений при колонизации Черкесского Причерноморья структура администрации здесь перетерпела множество изменений.
Административная ситуация на Северном Кавказе в пореформенной России представляла мозаику из губерний, областей и прочих приравненных к ним унифицированных единиц единой континентальной империи, где горское народонаселение находилось под особым контролем военнонародного управления. К началу ХХ в. во всех северокавказских административных единицах туземное народонаселение не имело возможности организовывать власть снизу в какой бы то ни было форме. Из числа коренных народов причастными к административному управлению на Северном Кавказе могли быть только назначенцы, заслужившие место исключительной лояльностью царскому режиму. В целом горские народы не допускались к формировавшимся рычагам гражданского самоуправления в императорской России. Такая возможность присутствовала только в местах преоб- ладания некоренного северокавказского населения, где был задействован статский административный аппарат. Местные поселения находились под полным контролем военной администрации. Весь период после покорения Кавказа и до Первой русской революции подобная практика царской политики в отношении управления северокавказскими туземцами все больше консервировалась, отбрасывая и без того незначительные уступки в области самоуправления, что явилось причиной последующих протестных выступлений горцев.
Список литературы Административное управление на Северном Кавказе в условиях пореформенной России
- Административно-территориальное деление Дагестанской области (1860— 1921 гг.). 2011. Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников). 380 с.
- Белозерова М.В. 2019. Интеграционные процессы в Сочинском Причерноморье во второй половине XIX - первой трети XX в. - Вестник Томского государственногоуниверситета. № 447. С. 122-131.
- Верещагин A.B. 1885. Исторический обзор колонизации Черноморского прибрежья Кавказа и ее результат. СПб: Типография товарищества «Общественная польза». 38 с.
- Васильев Ю.А. 2011. Феномен «Ecole Russe»: критика Н.И. Кареева. - Знание. Понимание. Умение. № 3. С. 121-127.
- Васильев Ю.А. 2012а. Взгляд на эпометаморфоз сквозь призму всемирно-исторической точки зрения. - Век глобализации. № 1. С. 46-57.
- Васильев Ю. А. 20126. Феномен «Ecole Russe»: историология Н.И. Кареева. -Знание. Понимание. Умение. №1.С. 72-81.
- Губаханова P.A. 1989. Государственные учреждения в Дагестане в пореформенный период. Махачкала. 153 с.
- Дзидзария Г.А. 1982. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. 2-е изд., доп. Сухуми: Алашара. 530 с.
- Евреинов Г 1908. Национальные вопросы на инородческих окраинах России. СПб: Тип. А. Бенке. 130 с.
- Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. 1866. Тифлис. T. VII. 624 с.
- История многовековых взаимоотношений и единения народов Дагестана с Россией. 2009. Махачкала: Изд-во ИИАЭ ДНЦ РАН. 750 с.
- Основные административно-территориальные преобразования на Кубани (1793-1985 гг.). 1986. Краснодар: Краснодарское книжное издательство. 394 с.
- Цаликов А.Х. 1913. Кавказ и Поволжье. Очерки инородческой политики и культурно-хозяйственного быта. М.: Изд-во М. Мухтарова. 184 с.