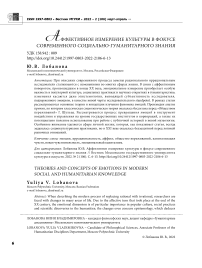Аффективное измерение культуры в фокусе современного социально-гуманитарного знания
Автор: Лобанова Юлия Владимировна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (106), 2022 года.
Бесплатный доступ
При описании современного процесса замены рационального иррациональным исследователи сталкиваются с изменениями во многих сферах жизни. В связи с аффективным поворотом, произошедшим в конце XX века, эмоциональное измерение приобретает особую важность в популярной культуре, социальных практиках и научных открытиях в гуманитаристике; изменения касаются даже эпистемологии, выводящей субъективность исследователя, подверженного эмоциям, в качестве новой черты исследовательского standpoint. В рамках статьи рассматриваются основные теории и концепции изучения феномена эмоций. Произведен анализ причин, по которым классическая социологическая теория оказалась бессильна перед «Обществом переживаний» Г. Шульце. Рассматривается процесс превращения эмоций в инструмент воздействия и управления на уровне государственных институтов и корпораций, а также их потенциально полезное использование при работе с публичной историей в новой музеологии. Особенное внимание уделяется сфере личной жизни, которая, как показывает статья, всегда задавалась социокультурными практиками, но в XXI веке оказалась беззащитной перед логикой рыночных отношений.
Эмоции, иррациональность, аффект, общество переживаний
Короткий адрес: https://sciup.org/144162564
IDR: 144162564 | УДК: 158.942 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-2106-6-13
Текст научной статьи Аффективное измерение культуры в фокусе современного социально-гуманитарного знания
Эмоциональный поворот, выражающийся в пристальном внимании к иррациональности, аффекту и чувствам – узловое изменение в гуманитарных науках в последние несколько десятилетий. Учёных, обращающихся к области эмоционального и аффективного в разных сферах жизни, множество: как пишет Брайан Отт, концепций исследования аффекта столько же, сколько самих исследователей аффекта [23, с. 1]. Подобное разнообразие способов изучения аффектов и эмоций связано с пристальным интересом к недискурсивному, невербализированному и нерепрезентацион-ному аспекту человеческой жизни.
Сам аффект, по Отту, рассматривался чаще всего в двух доминирующих традициях: его видели и как “элементарное состояние”, опираясь на Жиля Делёза [5, с. 15–16], Силвана Томкинса с его “базовыми аффектами” и Антонио Дамасио, и как “интенсивную силу”. Если аффект как базовое состояние рассматривалось прежде всего в психологии и нейробиологии, то второе понимание этого термина ближе к таким гуманитарным наукам, как философия и культурология. Аффект, таким образом, становится культурно обусловленным, что противоречит концепциям Томкинса и Да-масио. Последние рассматривают состояние аффекта как индивидуальное и субъективное. Исследователи, изучающие эмоции в качестве социокультурных практик, настаивают на их общественном значении. Например, Сара Ахмед придаёт эмоциям функцию разграничителя между индивидуальным и общим [17, с. 8]. Эмоция как практика задаёт норму и очерчивает область приемлемого и неприемлемого.
Даже если эмоциональная сфера жизни с трудом поддаётся лингвистической и дискурсивной фиксации, она играет важную роль в изменении взгляда на дискурс и общество: как пишут авторы книги “Политика аффекта: музей как пространство публичной истории” в предисловии, движение за аффектом может быть “плодотворным импульсом для пересборки устоявшихся дискурсивных моделей и дихотомий”, а аффективная оптика “приводит к трансформации языка самих исследователей, перенастраивая восприятие текста и активизируя различные чувства и способности” [6, с. 35].
Сосредоточившись на втором измерении эмоциональной жизни и её культурно обусловленной составляющей, мы должны про-блематизировать возможность сознательного управления эмоциями, ведь, как пишут Ло- раджейн Смит и Гари Кэмпбелл, если эмоции опосредованы культурой, значит, их возможно контролировать [27, с. 455]. Их можно и вызывать – конкретно, например, в музеологии это проявляется в использовании техник активизации зрительского опыта [6, с. 35–36].
Признание эмоций культурно обусловленными облегчает поиск моделей, “обучающих” людей чувствовать. Индивидуальное переживание и его связь с культурой определялись разными исследователями по-разному. Например, культуролог Люсьен Февр называет главным признаком эмоций их заразительность. Эмоции, считает он, зарождаются внутри личности, но затем вызывают сходный “эмоционально-моторный комплекс” у всего общества в результате “схожих и одновременных реакций на потрясения, вызванных схожими ситуациями и контактами” [14, с. 112].
Отдельным сюжетом в исследовании эмоций становится антагонистическое взаимодействие между эмоциями и интеллектом. Так, Ф. Ницше и Норберт Эллиас уделяли внимание подавлению эмоций активностью интеллекта. Однако у Ф. Ницше это было обусловлено развитием цивилизации, а у Н. Эллиаса – развитием социокультурных практик контроля [9, с. 113; 16].
Среди исследователей, придерживающихся теории культурной обусловленности эмоций, особое место занимает антрополог Клиффорд Гирц, считающий, что эмоции являются продуктами культуры [4]. Тогда реконструкцию внутреннего эмоционального мира человека той или иной культуры можно провести именно потому, что он является коллективным достоянием [7, с. 15].
То, что антропология эмоций как дисциплина сформировалась во второй половине XX века, не является случайностью. Одновременно с этим всплеск интереса к эмо- циональной жизни происходил во многих сферах, таких как психология [20, с. 1], социология, лингвистика [24], экономика [21; 26]. Параллельное вхождение эмоционального, аффективного элемента в разные научные дисциплины и было названо “аффективным поворотом”, рассмотренным выше. Более того, внесение эмоциональной оптики повлияло и на эпистемологию, подвергнув сомнению уверенность в возможности рациональной, объективной, беспристрастной науки. Феминистские исследования 1980-x, рассматривая эту позицию, указали на её скрытую маскулинность [18; 19]. Для феминистской философии также было важно сосредоточиться на тактильности, которая виделась альтернативной моделью источника знаний: к этой традиции принадлежит Джессика Бенджамин, а также последователи Люс Иригарей.
Для изучения социокультурных практик эмоций исследователи нередко обращались к художественной литературе. С одной стороны, литературные сюжеты отражают нормы и практики своей эпохи. Так, историк эмоций Уильям Редди, анализируя эмоциональный режим якобинской диктатуры, сравнивает эпизод из истории двора Людовика XIV с Дон Жуаном Мольера и “Принцессой Клевской” госпожи де Лафайет, который неслучайно оказался самым знаменитым романом эпохи [25, с. 141–142]. Для придворной жизни также была важна опера Ж.-Б. Люлли “Прозерпина”, которая и давала Людовику XIV образец контроля над аффектами.
Схожим образом А. С. Сувалко в работе “Эмоциональный капитализм: коммерциализация чувств” рассматривает эпоху Просвещения как время, которое “дарит человеку невиданные прежде образцы культурного потребления” – книги. Читатель сравнивается автором с прототипом современного потреби-
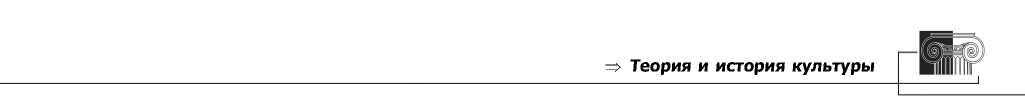
теля [13, с. 33]. Обращаясь к “Исповеди” Руссо и “Красному и чёрному” Стендаля, Сувалко прослеживает, как формировались образцы поведения, усвоенные Францией на десятилетия вперёд, вплоть до романа Флобера “Мадам Бовари”. Таким же образом Зорин соотносит жизнь поэта Андрея Тургенева с произведениями Шиллера, Лессинга и Гете. Наконец, Ева Иллуз в книге “Почему любовь ранит? Социологическое объяснение” утверждает, что романтические страдания устанавливаются “институциональными рамками” [8], в числе которых, конечно, оказывается литература: элегии Овидия, “Грозовой перевал” Эмили Бронте и даже “Бедные люди” Ф. М. Достоевского.
Характерным признаком современных исследований культуры эмоций становится использование экономической терминологии: Сувалко устанавливает связь между читателем Руссо и эмоционально-ориентированным потребителем XXI века; Иллуз вводит понятие «архитектура выбора»: это механизмы и процессы, когнитивные и эмоциональные, которыми руководствуется человек при оценке и выборе чего-либо. Е. Иллуз вводит в один ряд оценку потенциального романтического партнёра и зубной пасты: в обществе коммерциализации чувств и люди, и вещи коммодифицируются, обретают возможность быть заменёнными в любой момент. Экономист Джозеф Стиглер пишет, что капитализм лишает людей возможности конструировать собственное воображение и мыслить, а также формировать привязанность к объектам: сначала нужно “потреблять их, избавляясь и отдаляясь от них”, переходя к новым и новым объектам рыночных инноваций и достижений [28, с. 150–151].
Более того, если раньше интимная сфера, находясь под влиянием литературных образцов, перенимала книжные модели поведения, а люди учились чувствовать, подражая литературным героям, то сейчас во все сферы культуры распространяются законы рынка с его безостановочной конкуренцией. В индустриальном капитализме женщина была вынесена за границы рынка, пребывая в частной сфере, и тогда дом переосмысливался как единственное пространство, где можно отдохнуть от экономических ран. Теперь же и дом, и отношения тоже входят в сферу конкуренции, где дейтинговые приложения позволяют мгновенно найти замену в чём-то не устраивающему партнёру, а любая эмоция и жажда общения удовлетворяются с помощью платной подписки и подключения дополнительных услуг.
При любом выборе человек, опираясь на закреплённые в культуре компоненты, обдумывает собственное решение именно в категориях, заданных обществом, будь это роман Стендаля или рыночное производство.
Для анализа современного потребителя прорывной является концепция “Erlebnis-gesellschaft” (“Общество переживаний”, “Общество впечатлений”), которую ввел в оборот немецкий социолог Герхард Шульце. Этот термин обозначает резкий поворот в потребительских ценностях, произошедший, как и весь аффективный поворот, в 1980-х годах. Он характеризовался изменением компонентов, определяющих, по Е. Иллуз, архитектуру выбора: люди покупают товары не только по функциональным (удобство, долгосрочность в использовании) и нефункциональным (демонстрация социального статуса) причинам, но и потому что выбор конкретного товара удовлетворяет представление человека о самом себе (то есть совпадает с персональной идентичностью) и приносит ему эмоционально удовольствие. Речь идёт об изменении всего типа рациональности, при котором человек хочет жить не только успешно, ориентируясь на понятие престижа, но скорее ярко и полно, прибегая к понятию насыщенной жизни, которую обязательно сопровождает удовольствие [22].
Концепция рационального действия Макса Вебера, для которой важными являются такие черты, как антипсихологизм, а также понятия целерационального действия и объяснения, была дополнена открытиями второй половины XX века. Так, классическая социологическая теория, объясняющая потребительскую жизнь “отложенной рациональностью”, показывает свою несостоятельность в мире, где каждый человек хочет жить глубоко и интенсивно прямо сейчас (заметим, что интенсивность – одно из самых важных понятий при изучении аффекта). При этом с развитием общества потребления и его переходом к обществу переживаний возникают и новые проблемы: как понять, что ты хочешь на самом деле? Как различить неолиберальную идеологию, что использует наши запросы на самовыражение и свободу, и наши действительные запросы [12]? Учитывая нерепрезен-тативность эмоционального и аффективного измерения, о которой мы писали выше, поиск и утверждение истинного желания становится лишь труднее. В отличие от концепции М. Вебера, риск ошибиться в обществе переживания куда выше: при ориентации на внутренние ценности гарантия получения удовольствия пропадает [29]. Целерациональный выбор уступает более иррациональным установкам. Архитектуру выбора определяют компоненты, которые сложнее улавливать и изучать.
Итак, замещение рационального иррациональным наблюдается в разных сферах общественной жизни: аффективный поворот 1980-х годов, когда множество гуманитар- ных и естественнонаучных дисциплин начали обращать внимание на недискурсивную область человеческих отношений и желаний, привёл к усилению эмоционального элемента в современной культуре и различных практиках. Считаясь с иррациональным как равноправной категорией современной жизни, социальные институты отвечают на его присутствие по-разному. Так, корпорации расширяют выбор человека и с помощью новых инструментов рекламы стараются повлиять на внутренние установки потребителя. Культура изобретает новые способы говорить о своих чувствах и обучет овлдению ими: в романтических отношениях становится ожидаемой постоянная коммуникация, эмоциональная близость; причём для таких разговоров как бы создаётся новейший словарь эмоций [11]. Таким образом новая чувствительность обретает дискурсивное измерение.
Аффективное измерение современной жизни может инструментализироваться с образовательными целями. Новая музеология, по мнению Зинаиды Бонами, переносит вектор музейных приоритетов от предмета к зрителю [2, с. 52]. Она настаивает на том, что музей, работающий в обществе потребления, строит собственное функционирование по этой же логике, сосредотачиваясь на воздействии на духовную сферу. Если появление музея в эпоху Просвещения отвечало рациональному экстравертному фактору – “потребность времени в созидании “нового человека””, который может освоить мир разумом – сейчас музеи формируют отношение к прошлому как к интроверсии, то есть “индивидуальному чувству, будь то ностальгия или личное неприятие, происшедшие от синдрома травмы” [2, 57]. В новой музеологии инструментализация переживания признаётся важной и отвечающей потребностям времени, хотя и критикуется [1].
Исследования, обращающие внимание на замену рационального иррациональным, помогают зафиксировать нерепрезентативное измерение современного общества. Фиксируя переживание, исследователи вынуждены столкнуться с парадоксом: фиксация аффекта и его описание прикрепляет его к другому порядку. С другой стороны, именно этот парадокс трансформирует язык и позицию наблюдателя, вынужденного писать об актуальном измерении жизни, отклоняющемся от того, чтобы быть описанным.
Список литературы Аффективное измерение культуры в фокусе современного социально-гуманитарного знания
- Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. Москва: Новое литературное обозрение, 2014. 328 с.
- Бонами З. Музей в дискурсе аффекта // Политика аффекта: музей как пространство публичной истории / Под ред. А. Завадского, В. Склез, К. Сувериной. Москва: Новое литературное обозрение, 2019. С. 51 - 79.
- Вебер М. Основные социологические понятия // Западноевропейская социология XIX - начала ХХ века / под ред. В. И. Добренькова. Москва: Издание Международного университета бизнеса и управления, 1996. С. 455-490.
- Гирц К. Интерпретация культур. Москва: РОССПЭН, 2004. 560 с.
- Деяез Ж. Лекции (I-XI) о Спинозе 1978-1981. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 216 с.
- Завадский А., Склез В., Суверина К. Предисловие. Разум и чувства: публичная история в музее // Политика аффекта: музей как пространство публичной истории / Под ред. А. Завадского, В. Склез, К. Сувериной. Москва: Новое литературное обозрение, 2019. С. 7-50.
- Зорин А. Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII - начала XIX века. Москва: Новое литературное обозрение, 2016. 568 с.
- Иллуз Е. Почему любовь ранит? Социологическое объяснение / Перевод с нем. С. В. Сидоровой. Москва: Директ-Медиа, 2020. 400 с.
- Ницше Ф. Избранные произведения. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2003. 766 с.
- Саенко Н. Р. Судьба принципа удовольствия в эпоху постсовременности // Современное культурное пространство: Философия. Искусство. Технология. Информация / Научная редакция В. Х. Разакова. Волгоград: Волгоградское региональное отделение Молодежного союза юристов рф, 2004. С. 22-28.
- Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности / Полина Аронсон, Илья Будрайтис, Елизавета Великодворская и др.; под ред. П. Аронсон. Москва: Individuum, 2021. 288 с.
- Срничек Н., УильямсА. Изобретая будущее. Посткапитализм и мир без труда / Перевод с английского Николай Охотин. Москва: Strelka Press, 2019. 336 с.
- Сувалко А. С. Эмоциональный капитализм: коммерциализация чувств. Препринт C89 WP20/2013/05/ Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: Изд. дом. Высшей школы экономики, 2013. 48 с.
- Февр Л. Чувствительность и история // Февр Л. Бои за историю. Москва: Наука, 1991. С. 109 - 126.
- Щеглова Л. В. Значение этики в эпоху эстетизма // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2003. № 2(3). С. 3-9.
- Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 1: Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга, 2001. 330 с.
- Ahmed S. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014. 256 р.
- Bordo S. The Cartesian Masculinization of Thought // Signs. 1986. Vol. 11. №3. Pp. 439-456
- Fox Keller E. Feeling for the Organism. New York: Freeman, 1985. 235 р.
- Frijda N. The Laws of Emotion. Mahwah, NJ: Lawrence Erlebaum Associates, 2007. 352 р.
- Kahnemann D. Thinking, Fast and Slow. New York: Farras, Straus and Giroux, 2011. 512 р.
- Nussbaum M. Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions. Cambridge University Press, 2003. 766 р.
- Ott B. L. Affect // Oxford Research Encyclopedia of Communication. 2017. 17 July. URL: https://people.southwestern.edu/~bednarb/vmc/articles/ott-affect.pdf (дата обращения: 23.07.2022)
- Plamper J. Emotions in History. Oxford: Oxford University Press, 2015. 567 р.
- Reddy W. M. The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. New York: Cambridge University Press, 2001. 376 р.
- Schulze G. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. 2. Aufl . Frankfurt; New York: Campus Verlag. 2005. 765 р.
- Smith L., Campbell G. The Elephant in the Room: Heritage, Affect and Emotion. In book: Logan W., Nic Craith M., Kockel U. (eds) A Companion to Heritage Studies. Chichester: Willey-Balckwell, 2015. P. 443-460.
- Stiegler B. Pharmacology of Desire: Drive-Based Capitalism and Libidinal Dis-Economy // New Formations. V. 72, 2011. Fp. 150-161.
- Zelizer V. The Purchase of Intimacy. Princeton University Press, 2005. 356 р.