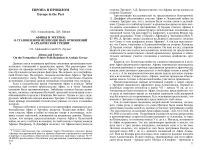Афины и Эретрия: о становлении межполисных отношений в архаической Греции
Автор: Александрова Ольга Игоревна, Зайцев Дмитрий Владимирович
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Европа в прошлом
Статья в выпуске: 62, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье на основании анализа нарративной традиции, археологических и эпиграфических материалов рассматривается проблема организации межполисных отношений в архаической Греции. В силу объемности исследовательской задачи, которая не может быть решена в рамках одной статьи, авторы останавливаются на примере отношений Афин и Эретрии, прослеживая их от ранней архаики до ранней классики. В результате исследования авторы приходят к следующим выводам. Во-первых, вопреки распространенному в историографии мнению, источники не дают оснований считать Афины одним из участников Лелантской войны. Во-вторых, отношения Афин и Эретрии на протяжении большей части архаического периода строятся вокруг межродовых связей аристократии. Брачные контакты одного из ведущих афинских родов - Алкмеонидов - с одним из эретрийских родов становится важным фактором сближения двух полисов. Последующая борьба Алкмеонидов и Писистратидов за власть в Афинах не раз затрагивает Эретрию. Эретрийские всадники поддерживают Писистрата, сам он организует совместную с эретрийцами колониальную экспедицию на север Эгеиды. В-третьих, после свержения ранней греческой тирании в обеих полисах меняется и организация внешней политики. Вместо частных аристократических инициатив архаической эпохи, мы встречаем полисные акции, которые проводятся решениями народного собрания. Такими, судя по всему, были решения афинян и эретрийцев поддержать ионийское восстание, обращение эретрийцев за помощью к афинянам во время похода Датиса и Артаферна, решение афинян эту помощь эретрийцам оказать.
Архаическая греция, полис, аристократия, тирания, афины, эретрия, писистрат, алкмеониды, лелантская война
Короткий адрес: https://sciup.org/149127382
IDR: 149127382 | DOI: 10.24411/2072-9286-2019-00029
Текст научной статьи Афины и Эретрия: о становлении межполисных отношений в архаической Греции
O.I. Aleksandrova and D.V. Zaytsev
Athens and Eretria:
On the Formation of Inter-Polis Relations in Archaic Greece
Данная статья посвящена проблеме эволюции организации межполисных отношений в архаическое время. Мы рассмотрим этот процесс на примере контактов Афин и Эретрии. Выбор этих полисов обусловлен целым рядом факторов. Во-первых, их географической близостью. Во-вторых, тесными контактами Афин и Эретрии в классическую эпоху. Наконец, в-третьих, достаточным объемом источников, в которых нашли отражение отношения этих полисов.
Если в классическое время отношения Афин и полисов Эвбеи строились при полном превосходстве Афин, то в эпоху Архаики ситуация была противоположна. Эвбейские полисы быстро развивались, являлись пионерами Великой греческой колонизации и возобновившейся торговли с Ближним Востоком1. Одним из двух лидирующих эвбейских городов являлась Эретрия. Следовательно, перед нами пример отношений относительно равных по силе и влиянию полисов.
Первым событием, с которым в историографии связывается взаимодействие Афин и Эретрии, является Лелантская война2. При этом участие Афин в войне не находит опору в источниках, оставаясь только гипотезой, основанной на косвенных данных. Показательно, что авторы, предполагающие участие Афин в Лелантской войне, не могут сойтись во мнении, на чьей именно стороне воевали Афины. Например, Л. Джеффри полагает, что Афины выступили на стороне Эретрии3. А Д. Брэдин считает, что Афины могли воевать на стороне Халкиды4.
Аргументация исследователей не представляется безупречной. Л. Джеффри обосновывает участие Афин в Лелантской войне на стороне Эретрии тем, что у полисов были тесные связи в дальнейшем. Однако это слабый аргумент: в архаическое время полисы могли менять союзников и противников. Д. Брэдин относит Афины к союзникам Халкиды, реконструируя межполисные отношения архаической эпохи. Он апеллирует к конфликту, в котором Фидон Аргосский поддержал Эгину в борьбе с Афинами и Эпидавром (Hdt. V. 82-89). Д. Брэдин также ссылается на Дуриса Самосского, полагая, что Самос в этом конфликте помог Афинам5. А так как нам известно, что Самос участвовал в Лелантской войне на стороне Халкиды, Д. Брэдин считает Афины их союзником. На наш взгляд, спорным является уже сам подход исследователя, поскольку он предполагает стабильность межполисных связей архаического времени и обязательное активное участие союзников в военных конфликтах друг Друга.
Кажется, что Лелантская война не слишком вписывается в историю Афин архаического времени. Афины минимально вовлекались в колонизационные и торговые предприятия архаики и, фактически, начали свою активную деятельность в этой сфере только в конце VII в. до н.э. А их внешнеполитические акции нашли неплохое отражение в источниках. Скорее всего, Афины, занятые процессом объединения земель Аттики, в Лелантской войне участия не принимали.
Немногочисленные данные источников говорят о неких связях с Эретрией знаменитого афинского рода Алкмеонидов. Первый из подобных сюжетов относится к концу VII - началу VI вв. до н.э. Алкмеониды были изгнаны из Афин, поскольку представители этого рода за некоторое время до изгнания запятнали себя расправой над Килоном и его сторонниками. Есть основания предполагать, что именно в Эретрию отправились представители этой семьи.
Так, по некоторым сведениям, второй женой Алкмеона, тогдашнего главы рода, и матерью его сына Мегакла была некая Кесира, представительница одной из знатных и богатых эретрийских семей. Это имя известно из комедий Аристофана (наир.: Ach. 614; Nub. 48, 64, 800) и схолий к ним. Упоминания схолиастов весьма разрознены и противоречивы: супругом Кесиры называют то Алкмеона, то тирана Писистрата, то политика начала V в. до н.э. Мегакла, изгнанного из Афин остракизмом. Это все закономерно приводит к мысли, что речь идет о трех разных женщинах, носивших одно и то же имя. Логично полагать, что первой из них была эретриянка Кесира, на которой около 600 г. до н.э. женился изгнанный из Афин Алкме-он6. Имя же Кесиры впоследствии стало одним из родовых женских имен Алкмеонидов. В свою очередь, традиционные для этого афинского рода имена - прежде всего Мегакл и Клисфен - проникли в эретрийскую ономастику и часто встречаются в эретрийских надписях IV—III вв. до н.э. (IG XII (9) 191с, сткк. 10, 13; 240, стк. 19; 245b, стк. 185; 246а, сткк. 66, 209; 249а, сткк. 130, 645; 249b, сткк. 251, 258, 267-268; 424). Как отмечает в связи с этим И.Е. Суриков, подобных имен в Эретрии встречается больше, чем в любом другом греческом полисе, включая сами Афины7. Это, как представляется, достаточно убедительно говорит о прочных и давних связях Алкме-онидов с Эретрией.
Подтверждают это и иные данные. Так, в 1991 г. был опубликован остракон, найденный на Керамике и относящийся к началу V в. до н.э., на котором рядом с именем Мегакла, сына Гиппократа, возможно, упоминается Эретрия8. Существует несколько версий того, каким образом следует трактовать это упоминание. Однако в данном случае важен сам факт того, что Эретрия опять связывалась с именем представителя рода Алкмеонидов.
Еще одним возможным подтверждением можно считать сообщение Диогена Лаэртского, который в жизнеописании философа Мене-дема Эретрийского упоминает, что тот был сыном Клисфена из рода Феопропидов, знатным, но в то же время бедным человеком (Diog. Laert. II, 17, 1: [MsvsSripot;] ovtoi;, KXstoOsvovt; той tgxv ©волролгбйу KaXoopsvov viot;, avSpdt; svysvovt; pev, apynsKTOvoi; Зе каг ra:vr|Tog). Соблазнительно предположить, что именно из этого рода происходила первая Кесира, жена Алкмеона и мать Мегакла. Учитывая, что использование «семейных» имен другим родом обычно указывало на определенные связи между этими семьями9, такое предположение кажется вероятным, однако говорить об этом с уверенностью, конечно же, нельзя.
Предположение об уходе Алкмеонидов в Эретрию и брачный союз представителя изгнанного рода с эретрийскими аристократами вызывает закономерный вопрос: зачем знатному роду из богатого эвбейского полиса понадобилась связь с Алкмеонидами?
О большом значении аристократии как таковой в Эретрии написано немало. Наиболее показательны здесь археологические источники. Например, некрополь возле западных ворот Эретрии, где находятся шесть захоронений с кремированными останками в бронзовых сосудах10. Инвентарь, включающий предметы вооружения, украшения, в том числе, ближневосточный импорт, свидетельствует о высоком статусе погребенных. Впоследствии погребения превратились в святилище, о чем свидетельствуют вотивные посвящения. Кроме археологических материалов, о силе эретрийской аристократии свидетельствует и нарративная традиция: эретрийские аристократы упоминаются в различных текстах. Например, Писаний из Эретрии, наряду с Мегаклом Алкмеонидом, сватался к дочери тирана Клисфена Сикионского (Hdt. VI. 126-127).
Вопрос, зачем представители знатной и древней эретрийской аристократии породнились с «оскверненными» Алкмеонидами, за- ставляет снова обратиться к проблеме сущности «Килоновой скверны» вообще. Кажется, впервые мы встречаем известие о роли этого фактора в политической борьбе в связи с судом, который организует Солон для ритуального очищения города. В результате суда, о котором нам сообщает прежде всего Плутарх, представители Алкмео-нидов были изгнаны из Афин (Pint. Sol. 12). Исходя из этого, можно предполагать, что Алкмеон, глава рода на рубеже VII-VI вв. до н.э., до суда мог находиться в родном городе, а его роль в жизни Афин была достаточно заметной. Вероятно, договоренность о взаимовыгодном союзе двух богатых аристократических родов из фактически соседних полисов была достигнута еще до изгнания Алкмеонидов из Афин. Следовательно, до принятия политических решений по поводу Алкмеонидов «Килонова скверна» не выступает как значимый фактор политической жизни.
Еще одно указание на «скверну», а заодно и на контакты афинских аристократических родов с Эретрией, связано со вторым приходом к власти Писистрата. В обмен на помощь, оказанную тирану Алкмеонидами, он должен был взять в жены дочь Мегакла - главы «оскверненного» рода и политического противника Писистрата (Hdt. I, 59-60). Предположительно, дочь Мегакла носила уже знакомое нам имя Кесира11. Писистрат действительно женился на этой девушке, однако, как сообщает Геродот, - кстати, он не называет ее имени - «не желал иметь детей от молодой жены и потому общался с ней неестественным способом» (Hdt. I, 61, пер. Г.А. Стратановско-го). Нежелание это может объясняться тем, что у Писистрата к тому моменту были двое достаточно взрослых сыновей, Гиппий и Гиппарх, и, вероятно, именно им он собирался впоследствии передать власть. К тому же, вполне возможно, что свою роль сыграла принадлежность девушки к «оскверненному» роду (Hdt. I, 61)12.
Результатом этой истории стал разрыв непрочного союза Писистрата и Мегакла, а также очередное изгнание тирана (Hdt. I, 61; Arist. Ath. pol. 15, 2). Он покинул территорию Аттики, причем отправился именно в Эретрию (Hdt. I, 61). Впоследствии Писистрат возвращается, захватывает власть в третий раз и изгоняет Алкмеонидов. Однако мы не встречаем в источниках упоминания «Килоновой скверны» как основания для изгнания. Более того, упоминание Клисфена среди афинских архонтов может служить весомым аргументом в пользу того, что Алкмеониды были возвращены в Афины сыновьями Писистрата, а затем еще раз изгнаны Гиппием13. «Скверну» в качестве причины изгнания спартанцами целых семисот афинских семей в 506 г. до н.э. указывает Геродот (Her. V, 77). Наконец, «Килонову скверну» используют в политической борьбе, которая предшествовала Пелопоннесской войне, спартанцы, требующие у афинян изгнать потомков тех, кто был замешан в святотатстве (Thue. I. 127. 1-2).
Однако случаев, когда Алкмеониды играют важную роль в поли- тической жизни, известно вполне достаточно. «Килонова скверна» не смущает ни Клисфена Сикионского, который выдает дочь замуж за Мегакла Алкмеонида, ни Солона, который делает Алкмеона военачальником в Первой Священной войне (Pint. Sol. 11), ни Дельфийский оракул, который принимает от Алкмеонидов средства для восстановления храма.
Ни в одной из политических акций вне Афин Алкмеониды не испытывают ограничений, связанных с «оскверненным» статусом. Вероятно, «Килонова скверна» выступает важным аргументом в политической жизни только в тех случаях, когда это необходимо противникам Алкмеонидов в конкретной ситуации.
Первое указание на «скверну» и изгнание Алкмеонидов связано с кризисом, предшествовавшим реформам Солона. В случае Писи-страта нельзя забывать, что связь с Алкмеонидами была не только преимуществом тирана, но и ограничивала его власть в полисе. И «скверна» здесь могла быть, скорее, удобным поводом. Наконец, требования спартиатов явно являются не более чем одним из предлогов для вмешательства в афинские дела. Следовательно, как нам представляется, не стоит преувеличивать значение «Килоновой скверны» в жизни рода Алкмеонидов. Она была удобным инструментом для их политических противников, однако никак не препятствовала поддерживать нормальные контакты с дружественными или нейтральными политическими силами.
После того как Писистрат удалился из Афин после конфликта с Мегаклом, он отправился в Эретрию. Почему Писистрат выбрал местом своего пребывания, пусть даже краткосрочного14, именно этот город, у которого имелись связи с Алкмеонидами? Существует предположение, что влияние Алкмеонидов в Эретрии в этот период снизилось, и именно поэтому Писистрат мог туда отправиться15. Однако, как кажется, связь между этими фактами может быть и обратной: род Алкмеонидов потерял свои прежние позиции в Эретрии именно вследствие активной деятельности Писистрата. Логично предполагать, что изгнанный тиран намеревался через некоторое время вернуться в Афины и вновь захватить власть. Для этого ему необходимо было заручиться серьезной финансовой и военной поддержкой, и, по возможности, ослабить своих политических противников, которые могли бы рассчитывать на помощь из Эретрии.
Вероятно, выгодно Писистрату было и то, что Эретрия находится близко к Аттике и является удобным плацдармом для вторжения на ее территорию. На 11-м году своего изгнания, около 546 г. до н.э., Писистрат и его сторонники, в числе которых были и эретрийцы, высадились неподалеку от Марафона, и вскоре тиран вернул себе власть в Афинах (Hdt. I, 62; Arist. Ath. pol. 15, 2-3). При этом Аристотель особо оговаривает, что на стороне Писистрата были не просто рядовые эретрийцы, по каким либо причинам расположенные к афинскому изгнаннику, а «всадники, в руках которых была тогда государственная власть в Эретрии» (ёп Зё tcbv тллёоу tcbv 8%6vtcov ev 'Еретрш тру лоХиегау, пер. С.И. Радцига).
Каким же образом Писистрат мог привлечь на свою сторону жителей этого эвбейского города?
Во-первых, не исключено, что у Писистрата, точно так же, как и у Алкмеонидов, имелись давние связи с Эретрией или, как минимум, с Эвбеей в целом. Здесь можно обратиться к происхождению афинского тирана. Писистрат происходил из древнего и знатного аристократического рода, близкого к Кодридам - афинским царям, которых возводили к мифическому Писистрату, сыну Нестора (Hdt. V, 65)16. Аналогичное имя носил архонт-эпоним 669/668 г. до н.э. (Paus. II. 24, 7). Вполне возможно, что кто-то из предков или родственников тирана мог породниться с представителями какого-либо эвбейского рода. Сведений о таких браках у нас нет, но существует несколько косвенных свидетельств. Распространение «конных» (то есть с корнем -игл) имен среди Писистратидов - нетипичных для архаических тиранов17 - не просто указывают на аристократическое происхождение, но говорят о некой связи с Эвбеей, где подобные имена были очень распространены18. Также стоит упомянуть, что в Бравроне, месте, где располагались родовые владения Писистрата, особенно почитали Артемиду Ифигению, культ которой был тесно связан с культом Артемиды Амарисии, распространенным на Эвбее19.
Во-вторых, Геродот упоминает, что Писистрат и его сыновья, находясь в изгнании, собирали некие «добровольные пожертвования» от городов, которые были им обязаны (Hdt. I, 61: evOavia pyetpov Scotivok; ёк tgxv лоХтоу avnvcg ocpt лрошдёоуто кои it). Можно предположить, что Писистратиды могли оказывать финансовую помощь представителям других греческих полисов, в том числе и эретрий-цам. Тем более что до вражды Мегакла и Писистрата мы не встречаем сведений о столкновении интересов Алкмеонидов и Писистратидов.
В-третьих, Аристотель приводит в своем рассказе об установлении в Афинах тирании следующий факт: Писистрат, находясь в изгнании, участвовал в основании поселения Рекел в районе Фер-мейского залива (Arist. Ath. pol. 15, 2: оиуфкюе лер! tov ©sppatov коХлоу yoptov о каХегтаг ’Ра!кг|Ход). Логично предполагать, что, поскольку традиция связывает этот период жизни Писистрата с Эретрией, именно вместе с эретрийцами он совершил эту экспедицию в первые годы своего изгнания20.
Как представляется, употребленный Аристотелем глагол «оиуфкюе» в данном случае подчеркивает, что Писистрат был именно одним из участников этого предприятия, главную же роль в нем играли эретрийцы. Отдельные исследователи даже полагают, что основанное при участии Писистрата поселение можно отождествить с Дикеей во Фракии, которая упоминается у Геродота (Hdt. VII, 123)
как колония Эретрии21. Вполне возможно, что вместе с ним в Рекел отправилась и группа афинян, его сторонников, однако вряд ли она была многочисленной. В любом случае, говорить, что именно Писистрат или же афиняне в целом были основателями поселения, невозможно.
Можно отметить и то, что Рекел находился в месте, очень удобном для Писистрата: на пути к пангейским рудникам на реке Стри-мон, которые были источником необходимых для него денежных средств. Именно владение этими рудниками позволило будущему тирану затем завербовать достаточное количество наемных войск (Arist. Ath. pol. 15, 2).
Можно даже предположить, что он, прибыв в начале своего изгнания в Эретрию, каким-либо образом натолкнул жителей этого города на мысль об экспедиции к Фермейскому заливу и, возможно, даже пообещал какую-то часть от этих доходов тем самым «всадникам», которые стояли во главе полиса. К тому же им было бы выгодно иметь в Афинах «своего» правителя, так как можно было надеяться на помощь в гипотетических конфликтах с соседней Хал-кидой, а также рассчитывать на укрепление своего положения среди греческих полисов22.Такая версия объяснила бы и последующую их помощь Писистрату, и снижение в Эретрии влияния рода Алкмео-нидов, на тот момент бывших его явными противниками.
Однако через некоторое время к власти в Эретрии, свергнув прежнее господство «всадников», дружественных Писистрату, приходит тиран Диагор (Arist. Polit. 1306а35: каг rpv sv 'Еретрга 5 ’ oXryapyiav тру Ttov innsov Arayopat; KareXuoev). Источники не сохранили сведений о том, когда конкретно это случилось. С последней третью VI в. до н.э. тиранию Диагора связывают из-за обстоятельств его смерти. Тиран умирает по пути в Спарту, находясь в Коринфе (Нега-clid. Lemb. Exc. polit. 40). Вероятно, этот маршрут можно вписать в контекст событий конца VI в. до н.э., когда Спарта выступает против Писистратидов. Таким образом, тирания Диагора вписывается в период между приходом к власти Писистрата, которому помогали всадники, и свержением Гиппия.
Вместе со сменой власти меняются и взаимоотношения Афин и Эретрии. Возможно, это было связано с усилением афинских позиций в Эгеиде: во время правления Писистрата была завершена давняя афино-мегарская война за остров Саламин23, в руки афинян перешла мегарская гавань Нисея (Hdt. I, 59), окончательно был покорен Сигей, во главе которого Писистрат поставил своего незаконнорожденного сына Гегесистрата (Hdt. V, 94). Археологические данные говорят о том, что с середины VI в. до н.э. в Средиземноморье вновь получает распространение афинская керамика, которая вытесняет коринфскую в Сицилии, Сирии, Египте, Карии, Ликии и Северном Причерноморье24. Свидетельствами усиления афинской экономики во время правления Писистрата можно считать унифи- кацию денежной системы, устройство единого монетного двора и начало чеканки афинских драхм25.
По всей видимости, подобное усиление Афин в этот период совершенно не устраивало Эретрию. Особенно отношения обострились после смерти Писистрата в 527 г. до н.э. Подобный вывод можно сделать из нескольких косвенных свидетельств.
В Эретрии был найден надгробный камень некоего Хайриона (Xatptov), афинского эвпатрида, датированный 525 г. до н.э. (IG XII 9, 296). В историографии предпринимались небезосновательные попытки связать этого Хайриона с семейством Алкмеонидов26. Интересно, что само понятие «эвпатрид» к последним годам тирании Писистратидов употреблялось по отношению к их политическим оппонентам (Arist. Ath. pol. 19, 3). Можно предполагать, что Хайри-он был изгнан из Афин Писистратом или его наследниками и нашел убежище в Эретрии, как и другие афинские изгнанники (Arist. Ath. pol. 19, 3; Hdt. 5, 62). Подобная ситуация вряд ли была бы возможна, если бы между полисами сохранялись дружественные отношения27. Нельзя полностью отбрасывать вариант, что захоронение Хайриона свидетельствует лишь о старых ксенических связях между аристократическими родами28. Однако сам факт захоронения афинского аристократа вне Аттики делает более вероятным, как нам кажется, влияние политического фактора. Иначе сложно представить причины, по которым захоронение было произведено вне родного полиса.
Далее, в 514 г. до н.э. Гиппарх, младший из наследников Писистрата, гибнет в результате нападения Гармодия и Аристогитона (Hdt. V, 55-56; Arist. Ath. pol. 18). Геродот, рассказывая об этих событиях, сообщает, что род Гефиреев, к которым они принадлежали, некогда пришел в Афины из Эретрии. Во всяком случае, так утверждали они сами (Hdt. V, 57: ot Зе Eecpupatot, tcbv f|oav ot (poveet; ot Irardpyov, dx; pev avrot Xeyovot, eyeyoveoav e^ ’EperptTp; tt]v dpyf|v). Заманчиво предполагать, что эретрийский тиран Диагор в этот период каким-то образом подпитывал враждебность различных афинских родов, тем или иным образом связанных с Эретрией, к Писи-стратидам, желая ослабления Афин.
Впрочем, в этом же месте Геродот оговаривается, что по его собственным изысканиям тираноубийцы происходили из Беотии (Hdt. V, 57: dx; Зе eyd) dvaKvvOavopevog еирюксо, f|oav Фогугке<; тон/ guv КаЗщр durtKopevcov OotvtKov eg yfjv rf]v vvv Воготщу KaXeopevrjv). Плутарх, однако, возражает Геродоту и склоняется в пользу эре-трийского происхождения Аристогитона (Pint. De Herod. 860, e-f). Возможно, версия об эретрийском происхождении появилась уже в классическую эпоху, так как связь с традиционно недружественными Афинам Фивами могла невыгодно сказаться на героическом образе тираноубийц29. Иных сведений, кроме этих сообщений, о происхождении Гефиреев у нас нет.
Однако есть еще одна гипотеза, которая способна примирить две противоречащие друг другу традиции. В историографии давно рассматривается проблема существования в архаическое время эвбейско-кикладской общности, «эвбейского койнэ». Это объединение полисов, на которые распространялось влияние эвбейских городов30. Далеко не все исследователи согласны с существованием такой общности31, однако нам представляются плодотворными рассуждения греческого археолога А. Мазаракиса Айниана32. Он отмечает близость ряда поселений архаического времени: Оропа, который находится в Беотии, и эвбейских поселений - Лефканди и Эретрии. Близость эта проявляется в застройке - здания ориентированы по линии север-юг с входом на южной стороне - и социальной организации. Кроме того, и Орой, и Эретрия в VIII в. до н.э. переживают экономический расцвет. Учитывая, что Беотия находится географически очень близко к Эвбее, а сведения о поездках беотийцев на соседний остров доносит еще Гесиод (Hes. Erg. 651-657), наличие брачных контактов между эретрийскими и беотийскими аристократами совершенно не выглядит невозможным. Также вероятным представляется и переезд какой-либо аристократической семьи с Эвбеи в Беотию или наоборот. Следовательно, не стоит противопоставлять традиции, о которых пишет Геродот. Обе они могли содержать часть верных сведений.
В конце VI в. до н.э. мы можем говорить о сближении Афин и Эретрии. Об этом можно говорить на основании следующих событий.
В 506 г. до н.э. Спарта, ее пелопоннесские союзники, Беотия и Халкида вторглись с разных сторон на территорию Аттики (Hdt. V, 74-76). Афиняне в этом столкновении одержали победу. А после организовали поход на Эвбею против халкидян. Последние, несмотря на помощь беотийцев, потерпели поражение (Hdt. V, 77). Афиняне изгнали часть местных крупных землевладельцев - гиппоботов -из города, а землю их разделили между собой (Hdt. V, 77; VI, 100, Diod. X, 24, 3). Есть косвенные основания предполагать, что Афины в этом конфликте действовали совместно с Эретрией33. Однако в любом случае показательно, что ни один из наших источников не указывает на враждебность Афин и Эретрии в это время.
Если же Эретрия участвовала в событиях 506 г, это можно объяснить возвращением в Афины рода Алкмеонидов, тем более что во главе полиса фактически находился знаменитый законодатель Клисфен. Возможно, поход против халкидян и последующее появление на Эвбее афинской клерухии также выполняли и задачу восстановления влияния Алкмеонидов в этом регионе. И.Е. Суриков даже полагает, что Эретрия в первое десятилетие V до н.э. была практически афинским вассалом, на что указывают действия города в данный период34. Определение Эретрии как афинского вассала является, пожалуй, слишком смелым, однако факт тесных отношений между этими полисами кажется очевидным. Так, на рубеже веков 84
в Эретрии происходят государственные преобразования, очень похожие на клисфеновские реформы в Афинах, и вряд ли это совпадение является случайным35. Затем во время Ионийского восстания лишь Афины и Эретрия оказали помощь мятежникам (Hdt. V, 99). В Афинах это решение принималось на народном собрании. Об аналогичной процедуре в Эретрии источники сведений до нас не доносят. Геродот говорит лишь о том, что эретрийцы примкнули к восстанию не в угоду афинянам. Однако сам факт того, что историк акцентирует внимание на мотивах эретрийцев, показывает существование в классических Афинах и противоположной точки зрения.
Наконец, в 490 г. до н.э., эретрийцы, получившие известие о приближении персов, обратились за помощью к Афинам (Hdt. VI, 100— 101). Афиняне направили к ним те четыре тысячи клерухов, которые жили на землях гиппоботов (то1Д тетраккт/шои^ тотД кХт|рои%8ОУта(; itov innoPoTsov XaXKtSsov ipv %d)pr|v, tovtovi; crept StSovot npcopovt;). Однако после того как афиняне узнали о том, что многие жители города готовы сдаться персам, они переправились в Орой. Для Эретрии события закончились плачевно: город был полностью разграблен персами, а часть жителей обращена в рабство (Hdt. VI, 119).
* * *
Таким образом, в результате рассмотрения ряда сюжетов, касающихся взаимоотношений Афин и Эретрии в архаическую эпоху, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, говоря об отношениях между этими полисами, следует подразумевать в первую очередь личные и семейные связи. Это хорошо видно на примере династического брака Алкмеонидов, который формирует связь между афинским и эретрийским аристократическими родами.
Во-вторых, борьба за власть и правление Писистрата, как кажется, меняют содержание этих отношений. С одной стороны, формально мы можем говорить о дружбе рода Писистратидов с эре-трийскими всадниками. Возможно, эта дружба также была подкреплена династическими связями. Однако теперь - при тирании, когда государственную политику определяет один человек - отношения аристократических родов трансформируются в межгосударственные. Подтверждение этому мы видим в том, что после свержения тирании Писистрата и смерти Диагора мы встречаем полисные акции вместо связей аристократии. Города совместно поддерживают ионийское восстание, а при приближении войск Датиса и Артафер-на Афины направляют эретрийцам помощь.
Все это - уже полисные акции, и ни один источник не указывает нам на роль межродовых контактов. Это, конечно, не значит, что фактор аристократических связей совсем уходит из межполисных отношений. Но можно уверенно говорить, что он становится второ- степенным.
В итоге, как нам кажется, можно говорить об этапном значении раннегреческой тирании в эволюции отношений Афин и Эретрии. Тирания становится переходным периодом, когда эти отношения формально строятся на основе межличностных контактов аристократии, но сущностно уже выходят за эти рамки. После свержения тиранов не происходит возврата к старой, аристократической модели, а внешняя политика оказывается уже под контролем полисных институтов.
Список литературы Афины и Эретрия: о становлении межполисных отношений в архаической Греции
- Суриков И.Е. Греческая архаика как историческая эпоха: Современный взгляд: Первая половина (IX - VIII вв. до н.э.) // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. 2014. Вып. 14. С. 32, 33, 35, 36, 40-43.
- Parker V. Untersuchungen zum Lelantischen Krieg und verwandten Problemen der frühgriechische Geschichte. Stuttgart, 1997; TausendK. Der Lelan-tische Krieg - ein Mythos? // Klio. 1987. Vol. 69. P. 499-514; Зайцев Д.В. К вопросу о характере Лелантской войны // Вестник древней истории. 2016. Т. 76. № 1. С. 5-21.
- Jeffery L.H. Archaic Greece: The City-States c. 700-500 B.C. London; New York, 1976. P. 67.
- Bradeen D.W. The Lelantine War and Pheidon of Argos // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1947. Vol. 78. P. 223-241.
- Bradeen D.W. The Lelantine War and Pheidon of Argos // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1947. Vol. 78. P. 237.
- Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической и раннеклассическои эпох: Род Алкмеонидов в политической жизни Афин VII - V вв. до н.э. Москва, 2000. С. 63; Shear T.L. Koisyra: Three Women of Athens // Phoenix. 1963. Vol. 17. No. 2. P. 105.
- Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической и раннеклассическои эпох: Род Алкмеонидов в политической жизни Афин VII - V вв. до н.э. Москва, 2000. С. 63; Карпюк С.Г. Клисфеновские реформы и их роль в социально-политической борьбе в позднеархаических Афинах // Вестник древней истории. 1986. № 1 (176). С. 30.
- Willemsen F. Ostraka einer Meisterschale // Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung. 1991. Vol. 106. P. 144; Lewis D.M. Megakles and Eretria // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 1993. Vol. 96. P. 51-52; Вгете S. Ostraka and the Process of Ostrakophoria // ТЪе Archaeology of Athens and Attica under the Democracy. Oxford: Oxbow Books, 1994. Р. 23; Stanton G.R. А Graffito оп а Megakles Ostrakon // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 1996. Vol. 111. P. 69-73; Суриков И.Е. Остракон Мегакла, Алкмеониды и Эретрия (Эпиграфическое свидетельство о внешних связях афинской аристократии) // Вестник древней истории. 2003. № 2(245). С. 16-25.
- Herman G. Patterns of Name Diffusion within the Greek World and Beyond // Classical Quarterly. 1990. Vol. 40. No. 2. P. 349-363.
- Bérard C.L. L'Heroon à la Porte de l'Ouest // Eretria, Fouilles et Recherches. Bern, 1970. Vol. III. P. 68-70; Crielaard J.P. Cult and Death in Early 7-th Century Euboea: The Aristocracy and the Polis // Nécropoles and Pouvoir. Idéologies, Pratiques et Interprétations. Lyon, 1998. P. 43-58.
- Shear T.L. Koisyra: Three Women of Athens // Phoenix. 1963. Vol. 17. No. 2. P. 107; Суриков И.Е. Античная Греция: Политики в контексте эпохи: Архаика и ранняя классика. Москва, 2005. С. 188, 189.
- Тумане Х. Рождение Афины: Афинский путь к демократии: От Гомера до Перикла (VIII - V вв. до н.э.). Санкт-Петербург, 2002. С. 314; Суриков И.Е. Античная Греция: Политики в контексте эпохи: Архаика и ранняя классика. Москва, 2005. С.190, 191.
- Суриков И.Е. Античная Греция: Политики в контексте эпохи: Архаика и ранняя классика. Москва, 2005. С. 208.
- Viviers D. Pisistratus' Settlement on the Thermaic Gulf: A Connection with the Eretrian Colonization // The Journal of Hellenic Studies. 1987. Vol. 107. P. 194.
- Суриков И.Е. Остракон Мегакла, Алкмеониды и Эретрия (Эпиграфическое свидетельство о внешних связях афинской аристократии) // Вестник древней истории. 2003. № 2 (245). С. 23, 24.
- Суриков И.Е. Античная Греция: Политики в контексте эпохи: Архаика и ранняя классика. Москва, 2005. С. 176.
- Молчанов А.А., Суриков И.Е. Писистратиды - потомки отказавших в гостеприимстве (актуализация династического мифа) // Закон и обычай гостеприимства в античном мире. Москва, 1999. С. 122-130.
- Walker K. Archaic Eretria: A Political and Social History from the Earliest Times to 490 B.C. London; New York, 2004. P. 180.
- Davies J.K. Athenian Propertied Families. Oxford, 1971. P. 454.
- Cole J.W. Peisistratus on the Strymon // Greece & Rome. 1975. Vol. 22. No. 1. P. 43-44; Viviers D. Pisistratus' Settlement on the Thermaic Gulf: A Connection with the Eretrian Colonization // The Journal of Hellenic Studies. 1987. Vol. 107. P. 194, 195.
- Viviers D. Pisistratus' Settlement on the Thermaic Gulf: A Connection with the Eretrian Colonization // The Journal of Hellenic Studies. 1987. Vol. 107. P. 195.
- Walker K. Archaic Eretria. A Political and Social History from the Earliest Times to 490 B.C. London; New York, 2004. P. 182.
- Meyer Ed. Geschichte des Altertums. Vol. III. Stuttgart, 1937. P. 645; Пальцева Л.А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. Санкт-Петербург, 1999. С. 255, 256; Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения афинян (VI в. до н.э.) // Страны Средиземноморья в античную и средневековую эпохи. Горький, 1985. С. 7.
- French A. Solon and the Megarian Question // The Journal of Hellenic
- Studies. 1957. Vol. 77. P. 239; Boardman J. The Greeks Overseas. London, 1999. P. 29-33, 140-142, 152, 156, 212; Брашинский И.Б. Афины и Северное Причерноморье в VI - II вв. до н.э. Москва, 1963. С. 24; Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. Москва, 1990. С. 81, 140, 149, 200-202.
- Брашинский И.Б. Афины и Северное Причерноморье в VI - II вв. до н.э. Москва, 1963. С. 13; Шувалов В.В. Борьба Афин за черноморские проливы в архаический период // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. 2008. Вып. 7. С. 110-111; French A. Solon and the Megarian Question // The Journal of Hellenic Studies. 1957. Vol. 77. P. 238, 243; Starr Ch.G. The Economic and Social Growth of Early Greece 800 - 500
- B.C. Oxford, 1977. P. 111; Heichelheim F.M. An Ancient Economic History from the Palaeolithic Age to the Migrations of the Germanic, Slavic and Arabic Nations. Vol. I. Leiden, 1958. P. 217.
- Raubitschek A., Jeffery L.H. Dedications from the Athenian Akropolis; a Catalogue of the Inscriptions of the Sixth and fifth Centuries BC. Cambridge (Mass.), 1949. P. 364, 365; Walker K. Archaic Eretria: A Political and Social History from the Earliest Times to 490 B.C. London; New York, 2004. P. 212, 213.
- Walker K. Archaic Eretria: A Political and Social History from the Earliest Times to 490 B.C. London; New York, 2004. P. 218, 219.
- Jeffery L.H. Archaic Greece. The City-States c. 700 - 500 B.C. London, New York, 1976. P. 68.
- Pericola C.M. L'origine del nome Gefirei e il movente dell'assassinio di Ipparco // Aevum. 2008. Vol. 82. № 1. P. 12.
- Lemos I.S. Euboea and its Aegean koine // Euboica. L'Eubea e la pre-senza euboica in Calcidica e in Occidente. Napoli: Centre Jean Berard, 1998. P. 45-58; Lemos I.S. The Protogeometric Aegean: The Archaeology of the Late Eleventh and Tenth Centuries B.C. Oxford, 2002. P. 212-217.
- Papadopoulos J. "Phantom Euboeans" - A Decade On // Euboea and Athens. Athens, 2011. P. 128.
- Mazarakis Ainian A. The Form and Structure of Euboean Society in the Early Iron Age Based on Some Recent Research // Alle origini della Magna Grecia: Mobilita, migrazioni, fondazioni. Taranto, 2012. P. 73-99.
- Walker K. Archaic Eretria: A Political and Social History from the Earliest Times to 490 B.C. London; New York, 2004. P. 248; Александрова О. И. Афины и Эретрия на рубеже VI - V вв. до н.э.: К вопросу о возможном союзе // Метаморфозы истории. 2018. № 12. С. 148-162.
- Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической и раннеклассическои эпох: Род Алкмеонидов в политической жизни Афин VII - V вв. до н.э. Москва, 2000. С. 64; Суриков И.Е. Остракон Мегакла, Алкмеониды и Эретрия (Эпиграфическое свидетельство о внешних связях афинской аристократии) // Вестник древней истории. 2003. № 2 (245). C. 24.
- Walker K. Archaic Eretria: A Political and Social History from the Earliest Times to 490 B.C. London; New York, 2004. P. 232-242.