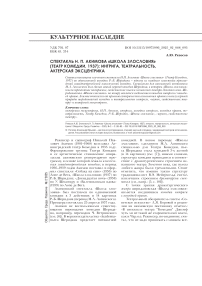Акимова «Школа злословия» (Театр Комедии, 1937): интрига, театральность, актерская эксцентрика
Автор: Ряпосов А.Ю. Спектакль Н.П.
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Культурное наследие
Статья в выпуске: 2 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению спектакля Н.П. Акимова «Школа злословия» (Театр Комедии, 1937) по одноименной комедии Р.-Б. Шеридана – одному из наиболее известных произведений западноевропейской классической комедии. Специально для акимовской постановки М.Л. Лозинским был сделан новый перевод комедии Шеридана, в котором «Школа злословия» имела трехактное построение, свойственное пьесам испанского театра Золотого века. Шеридановская «Школа злословия» по жанру является соединением комедии интриги с комедией нравов. Акимов отказался от приемов сатирического осмеивания нравов в пользу игровой природы шеридановской комедии и театральности интриги, «шуток, свойственных театру» и актерской эксцентрики.
Актерская эксцентрика, Н.П. Акимов, интрига, комедия интриги, комедия нравов, театральность, Театр Комедии, Р.-Б. Шеридан, «Школа злословия», «шутки, свойственные театру»
Короткий адрес: https://sciup.org/140310693
IDR: 140310693 | УДК: 792. 07 | DOI: 10.53115/19975996_2025_02_088_093
Текст научной статьи Акимова «Школа злословия» (Театр Комедии, 1937): интрига, театральность, актерская эксцентрика
Общество. Среда. Развитие № 2’2025
Режиссер и сценограф Николай Павлович Акимов (1901–1968) возглавил Ленинградский театр Комедии в 1935 году. Формирование труппы Театра Комедии и ее артистическое становление опира-ласьна акимовскую репертуарную программу, в основе которой лежала классическая западноевропейская комедия ; в период 1936–1939 годов Акимов поставил и оформил спектакли «Собака на сене» (1936) по Лопе де Вега, «Школа злословия» (1937) по Р.-Б. Шеридану, «Двенадцатая ночь» (1938) по У. Шекспиру и «Валенсианская вдова» (1939) по Лопе де Вега.
Акимовский спектакль «Школа злословия» был поставлен по одноименной комедии в 3 действиях и 14 картинах Р.-Б. Шеридана (перевод М.Л. Лозинского). Премьера состоялась 25 апреля 1937 года.
Акимов не воспользовался существующими переводами комедии Шеридана, например, переводом Ч. Ветринского (см.: [6]). В версии издательства «Academia» пьеса Шеридана предстает пятиактной комедией. В новом переводе «Школы злословия», сделанном М.Л. Лозинским специально для Театра Комедии, пьеса Шеридана стала комедией 3-х актной (в 14 картинах) (см.: [7]), иными словами, структура комедии приводится в соответствие с драматургическим строением испанского театра Золотого века, где пьесы любого жанра были трехактными. Стоит отметить, что именно такую структуру традиционалист В.Э. Мейерхольд считал наилучшим строением драматургии спектакля (см., напр.: [5, с. 101]).
С точки зрения драматургического жанра шеридановская «Школа злословия» является соединением комедии интриги с комедией нравов .
Театральный обозреватель газеты «Советское искусство» Л.Я. Боровой в рецензии на акимовскую постановку отмечал: «В спектакле театра “Комедия” Джозеф чуть ли не такой же очаровательный повеса, как и Чарльз. Режиссер, по-видимому, считал, что не надо принимать слишком все- рьез ни пьяное прямодушие Чарльза, ни очень неловкое, совершенно “любительское” лицемерие Джозефа. Это плохо вяжется со всей логикой комедии. В свое время Джозефа играли как Тартюфа, вполне законченного ханжу. К полному удовольствию автора и публики он запутывается в своих собственных сетях и остается без наследства. Бессердечие наказано; торжествует непутевый, но сердечный Чарльз. Однако, если Джозеф, как в акимовском спектакле, тоже хороший малый, только неудачно “сыгравший” в одном случае, вердикт комедии несправедлив. И нет того “морального удовлетворения”, которое уже 160 лет дает зрителю эта гениальная пьеса: злословы и лицемеры в конечном счете непременно остаются в дураках (курсив мой – А. Р.)» [1].
Совершенно очевидно, что у Акимова несколько иная логика комедии , отличная от той, что виделась театральному обозревателю газеты «Советское искусство». Можно предположить, что режиссеру постановки не было интересно сатирическое осмеяние нравов «школы злословия» леди Снируэл, как и не было близко морализаторство на тему «зло наказано», а «добро вознаграждено» и непременно «торжествует». Режиссера и одновременно художника-постановщика в сценической версии «Школы злословия» в наибольшей степени привлекала игровая природа шерида-новской комедии. В результате сложного столкновения интриги Джозефа Сэрфеса, леди Снируэл и всей подручной ей команды «уничтожителей репутаций», с одной стороны, и противодействующей интриги дядюшки Оливера Сэрфеса, с другой стороны, – Джозеф был попросту переигран , а вместе с ним и вся компания «школы злословия» была посрамлена и оказалась в числе проигравших.
Похожую трактовку режиссерского решения комедии Шеридана находим у М.О. Янковского: «В “Школе злословия” он (Акимов; курсив далее мой – А. Р. ) увидел по преимуществу веселую комедию нравов . Значительно меньший упор делался на сатирические элементы , в ней заключенные. Скорее его увлекла задача прихотливо разыграть интригу , резко акцентировать внимание на типажах, исходя из предположения, что их слова, поступки и положения, в какие они себя ставят, заключают в себя все, что нужно для того, чтобы они сами себя высмеяли» [9, с. 26]. Акимова влекла театральность интриги, «шуток, свойственных театру» (В.Э. Мейерхольд), актерской эксцентрики и т.д.
Критика большое внимание уделила декорационному оформлению «Школы злословия». Так, например, И.И. Шнейдерман отмечал следующее: «Уже занавес, расшитый карикатурными фигурами сплетников, переносит нас в атмосферу хоггартовской Англии. По диагонали, как бы планируя на развевающихся фалдах своих фраков, несутся разносчики вестей, а внизу, на том же ярко-желтом фоне – причудливо разодетые персонажи театра Шеридана, выставка масок , выражающих разнообразные человеческие пороки. <…> Являясь как бы афишей спектакля, занавес прекрасно выполняет свою роль – связывает отдельные эпизоды, удерживает зрителя в одном настроении во время частой смены картин (курсив мой – А. Р. )» [8, с. 45].
И.И. Шнейдерман подчеркивал, что спектакли Акимова всегда отличались тем, что их режиссерский замысел был органически слит с декоративным оформлением, и такое имело место и в случае постановки «Школы злословия», в подтверждение чего критик приводил следующий пример: «Декорация первой картины не только изображает место действия: в прямых линиях расчерченных дорожек, в забавно подстриженных кустах, в строгой симметрии всего “версальского” пейзажа, украшающего стены салона леди Сниру-эл, выражено тонкое понимание художественного стиля эпохи, смешавшего остатки вычурного рококо с абстрактностью раннего, еще интимного, классицизма. Художник остроумно выразил национальное своеобразие этого стиля, характерное сочетание ограниченного здравого смысла с чисто-английским юмором и даже эксцентризмом. Декорация Акимова выражает не только стиль эпохи, но и самый дух пьесы Шеридана (курсив мой – А. Р. )» [8, с. 45–46].
Костюмы персонажей «Школы злословия» являлись неотъемлемой частью оформления акимовского спектакля. И.И. Шнейдерман по этому поводу выразился так: «<…> пронзительно желтая гамма дневных туалетов, черные с пепельно-серым вечерние костюмы гостей, необыкновенно комичный стеганый халат сэра Питера, заплатанный плащ переодетого богача из сказки – дядюшки Оливера, стильный красный халат Чарльза, легко развевающийся на ходу, – короче, почти все костюмы выразительны по рисунку и цвету, отвечают стилю эпохи и характерам персонажей» [8, с. 47].
При обсуждении театральными обозревателями акимовских спектаклей од-
Общество
ной из часто поднимаемых в рецензиях тем была проблема взаимоотношений в рамках одной постановки Акимова-режиссера и Акимова-художника. Отдал дань обсуждению этой проблемы и Шнейдерман: «В декоративном оформлении ясно ощущается борьба Акимова-художника с Акимовым-режиссером: сокращая пьесу, – что совершенно необходимо по условиям театра, – он выбрасывает ряд ак-
Общество. Среда. Развитие № 2’2025
терских сцен, но зато развертывает одну реплику дяди Оливера в самостоятельный эпизод, где главную роль играет… живописный холст. Акимов нарисовал такой изумительный пейзаж: снег, одинокое дерево с нагими ветвями, ворота старинного дома, – так хорошо передал атмосферу сказочного Лондона, холодный воздух зимнего вечера, так связал содержание пейзажа с чувствами старого Оливера, который из запустения портретной галереи вырвался на морозный воздух, но вырвался уже оздоровленный, избавленный от своих сомнений <…>». И «<…> зритель охотно (по мнению Шнейдермана; курсив мой – А. Р. ) прощает Акимову “ведущую роль живописи”…» [8, с. 47]
Размышляя о специфике режиссуры акимовского спектакля, Шнейдерман утверждал: «Последовательная борьба за реалистический образ, которую теперь ведет Акимов, означает для него борьбу против натурализма . А в последнее время становится особенно необходимой борьба с засильем мертвого быта, со сценической скукой, с безынициативностью режиссера, которого иные опять хотят превратить в “разводящего” (имеется ввиду профессиональное сленговое выражение, обозначающее одну из функций режиссера – разводить актеров по мизансценам; курсив мой – А. Р. ). <…> В “Школе злословия” Акимов пытался совместить живой человеческий образ с маской, серьезность с иронией, переживание с почти цирковой клоунадой » [8, с. 46]. Критик журнала «Рабочий и театр» заметил, что в основе арсенала режиссерских приемов Акимова «<…> лежат традиционные элементы комедийности: “шутки, свойственные театру”, в игре которыми почти всегда видны изобретательность и чувство меры. Актеры театра “Комедия” <…> играют свои роли и одновременно играют своими ролями . Акимов любит театральную метафору – игровое овеществление словесного образа : Чарльз припирает Джозефа к стенке не только словами, но буквально запирает его в кресле, как в клетке. <…> Смысл фразы о том, что его жена – женщина со вкусом, сэр Питер
“снимает” детской дудочкой, издающей фальшивый звук . Любит Акимов и игру с вещью <…>. По канве ситуаций он вышивает сценические узоры столь же традиционные, сколь смешные, – вроде обхода Питером ширмы, за которой спрятана его жена: в ремарке этого нет, но эта выдумка заостряет и разнообразит действие. <…> Акимов заставляет актеров делать форменные фокусы: так, Чарльз из широкого рукава своего халата ловко вынимает портрет (портрет дядюшки Оливера; курсив мой – А. Р. ) – совсем как фокусник достает голубей из цилиндра. Все это очень театрально и очень весело» [8, с. 46]. Традиционализ м Акимова, безусловно, существенно отличается от мейерхольдовского традиционализма , общее у них – решительный отказ от театра бытового , театра жизнеподобного и театра натуралистического .
Еще одну особенность акимовской режиссуры сформулировала В.М. Миронова: «Акимов признавался, что видит будущий идеальный спектакль кусками , ни разу ему не удавалось увидеть спектакль целиком. <…> Видел же Акимов, с его насмешливым умом, склонностью к эксцентризму и игре парадоксами, прежде всего куски острокомедийные , где можно придумать что-то неожиданное, удивить новым трюком, использовать “шутки, свойственные театру”. На так называемых мостиках внимание режиссера особенно не задерживалось, он намечал их пунктиром, “пробегал” стремительно, чтобы, не торопясь, “с чувством, с толком, с расстановкой” разработать аппетитные для него куски – они-то и составляли те вершины, которые своей энергией питали весь спектакль и поддерживали его структуру (курсив мой – А. Р. )» [4, с. 83].
Критика обратила пристальное внимание на актерские работы акимовского спектакля.
Рецензент «Красной газеты» Б.Л. Бро-дянский утверждал: «И леди Тизл (арт. Е. Юнгер), и беспутный Чарльз Сэрфэс (арт. И. Ханзель) – в сущности добрый малый, и сэр Оливер (арт. А. Бонди), решившийся произвести своеобразную проверку моральных достоинств братьев Сэрфэс, <…> получили полноценное сценическое воплощение» [2].
Тот же обозреватель в своем критическом отзыве на акимовскую постановку написал о воплощении А. Д. Бениаминовым образа Питера Тизла следующее: «Достоинства и недостатки творчества А. Бениаминова – талантливого комического актера – не раз отмечались нашей критикой.
Он почти всегда создает гротесковый образ: гротеск – излюбленный прием актера. Это законно, хуже другое: найдя какую-нибудь удачную комическую интонацию, трюк, жест, актер бесконечно варьирует их от спектакля к спектаклю, из роли в роль. Тем радостнее отметить, что в своей последней работе (то есть в “Школе злословия”; курсив мой – А. Р. ) А. Бениаминов в значительной степени преодолевает этот порок. Образ у него получил сочную индивидуальную окраску » [2].
Шнейдерман подметил такую особенность игры актера: «Бениаминов откровеннейшим образом выключается из роли , запросто разговаривает со зрительным залом ; глаза у него то подвижные, озорные, то вдруг тупо застывшие на одной точке. Подчеркивая дряхлость старика, у которого иногда трясутся колени, он наряду с этим, контрастируя, все время говорит очень молодым голосом, неожиданно запуская петуха. Он все время комикует , паясничает , проделывает чисто-цирковые клоунские штучки – и при всем том создает живой, симпатичнейший образ влюбленного в свою молодую жену старика, который ревнует ее к молодежи и может приковать ее внимание к себе только нелепыми придирками, за которые он хватается, как за якорь спасения. Но и он сделан более симпатичным, чем у Шеридана: Бениаминов, например, совершенно лишил сэра Тизла черт скупости , о которой ясно говорится в авторском тексте (курсив мой – А. Р. )» [8, с. 47]. Иными словами, Бениаминов постоянно прибегал к шуткам , свойственным театру , а также использовал элементы вахтанговского игрового театра , то есть – Бениаминов сохранял «зазор» между собой и Питером, актер одновременно и играл Питера Тизла, и играл свое отношение к Питеру Тизлу.
М.О. Янковский об исполнении Бениаминовым роли Питера Тизла написал следующее: «Талантливый артист показал себя изобретательным мастером безудержной эксцентриады . При этом он пронес через роль сквозную тему любящего мужа, который тревожно оберегает свою честь и боится оказаться рогоносцем при молодой, доверчивой и податливой на ухаживания супруге. В актере сочеталось немощное , хилое тело с необычайно молодым голосом и ошеломляющей динамичностью . Игра Бениаминова создавала впечатление, что Питер Тизл моложе тех, с кем борется (курсив мой – А. Р. )» [9, с. 27].
Более сложные и неоднозначные оценки было у критики по отношению к игре исполнительницы роли Леди Тизл. Шнейдерман написал так: «Артистка Юнгер (леди Тизл) очень тонка, очень мила своей наивной, слегка жеманной грацией, но она не передает до конца характера роли: не верится, что эта молодая светская дама еще недавно “инспектировала коровник” и играла в дурачки с сельским священником» [8, с. 46]. Точка зрения Я.Б. Гринвальд была следующей: «Некоторая холодноватость этой исполнительницы искупается изяществом, с которым она вычерчивает общий рисунок своих ролей, комедийной легкостью и простотой» [3]. Наконец, М.О. Янковский констатировал: «С подкупающим изяществом и тонким чувством стиля Е. Юнгер вела роль леди Тизл, у которой жажда светской жизни и приобретенная в салонах манерность все же не вытравили умения разобраться в подлинной сущности злословящих пошляков, окружающих ее» [9, с. 27].
Шнейдерман достаточно негативно вы-скаШнейдерман достаточно негативно высказался об игре исполнителя роли Джозефа Сэрфэса, который, по мысли критика, должен был предстать своего рода британским Тартюфом: «Роль Джозефа, ловкого проныры, лицемера и интригана, который запутывается в своих собственных сетях, исполняет артист Зилоти, но в его игре, по воле режиссера, ярче всего сказывается ограниченность “иронической” подачи образа. Джозеф – Зилоти играет лицемера остроумно и тонко, но несколько внешне» [8, с. 46]. Однако, как справедливо заметила В.М. Миронова в связи с игрой другого исполнителя роли Джозефа: «Акимов не требовал от Ж.Н. Лецкого представить Джозефа “английским Тартюфом” <…>» [4, с. 82–83]. Очевидно, что Акимов не требовал того же и от А. В. Зилоти.
Шнейдерман не принял и трактовки сценического образа Чарльза Сэрфэса, критик высказался об этом так: «Артист Ханзель сделал Чарльза простым, жизнерадостным, очень искренним и обаятельным парнем, но ему не хватает силы. Сэр Оливер вряд ли оставил бы свое наследство такому мягкому, лиричному, даже впадающему в сентиментальность юноше» [8, с. 46].
Достаточно критически был настроен Шнейдерман к А.А. Добкевич, исполнительнице роли Марии (в своей рецензии критик предпочитает называть ее Ме-райа – А. Р. ), опекуном которой является Питер Тизл: «Мэрайе (арт. Добкевич) придана нарочитая грубость манер, резкость тона, доходящая до крикливости. Боясь,
Общество
очевидно, впасть в штамп, вывести на сцену “идеальную” девушку с английской цветной гравюры, режиссер перегнул палку в другую сторону и лишил образ Мэрайи всякого обаяния» [8, с. 46].
О «разрушителях репутаций» из окружения леди Снируэл Шнейдерман написал следующее: «Слабее всего получился в спектакле кружок леди Снируэл: это не маски, но и не живые лица; все они слишком много шумят (особенно арт. Сухаревская), слишком забалтывают и заглатывают слова. Персонажи и эпизоды, в которых можно было бы заострить сатирический момент постановки , сделаны вообще очень поверхностно (курсив мой – А. Р. )» [8, с. 46– 47]. Это высказывание критика – еще один аргумент в пользу предположения, что сатира нравов не входила в намерения Акимова.
Общество. Среда. Развитие № 2’2025
Более снисходителен был Шнейдерман к А.М. Бонди, исполнителю роли сэра Оливера Сэрфэса, вернувшегося из Индии дядюшки Джозефа и Чарльза Сэ-рфэсов: «Арт. Бонди хорошо сыграл сэра Оливера – маленького крепыша, горячего, прямолинейного, энергичного человека, в котором “честный предприниматель” соединяется с чертами сказочного “американского дядюшки”, здравый смысл – с фантазией, душевное благородство – со смешными причудами закоренелого холостяка» [8, с. 46]. Сходную оценку дал артисту М. О. Янковский: «Прекрасный мастер комедийного жанра А. Бонди с чувством художественной меры воплотил колоритную фигуру сэра Оливера, чудаковатого холостяка» [9, с. 27].
Приведем еще несколько отзывов театральных критиков об игре артистов в акимовской «Школе злословия». Обозреватель газеты «Вечерняя Москва» Я.Б. Гринвальд после гастрольного показа спектакля Ленинградского театра Комедии на сцене Театра имени Моссовета написал: «Хочется отметить <…> Сухаревскую, остро сыгравшую роль сплетницы миссис Кэндер в “Школе злословия”, и Барабанову, в маленькой, почти бессловесной роли слуги Уильяма (в том же спектакле), обнаружившей незаурядные мимические способности (курсив мой – А. Р.)» [3]. И еще высказывание из той же рецензии: «В мужском составе труппы <…> есть несколько ярких актеров. Это прежде всего молодой артист Ханзель, отличающийся хорошей сценической внешностью, приятным по тембру голосом, большой пластичностью. Это Савостьянов и Киселев – два опытных мастера сцены. Это Беньями- нов, актер хотя и с чрезмерным уклоном в сторону гротеска, а подчас и грубой эксцентриады, но несомненно интересный и оригинальный» [3]. Акимовский театр в целом Я.Б. Гринвальд охарактеризовал так: «Молодая труппа Ленинградского театра комедии хорошо дисциплинирована, крепко спаяна, и в этом большая заслуга Н.П. Акимова, показавшего себя отличным организатором. Три классических спектакля (“Собака на сене”, “Школа злословия” и “Двенадцатая ночь” – А. Р.) на сцене Ленинградского театра комедии при всех своих стилевых различиях отличаются общими достоинствами: слитностью замысла режиссера и художника, которых в своем лице счастливо сочетает Акимов, общей живостью исполнения, красочностью декораций и костюмов» [3].
Театральные обозреватели, в целом высоко оценившие постановку «Школы злословия» Театром Комедии, высказали в адрес акимовского спектакля и ряд критических претензий. Шнейдерман основной недостаток постановки по Шеридану видел в том, что «<…> Акимов – еще очень и очень “мирискусник”, что он слишком любуется прошлым, воспринимая его главным образом сквозь призму былого искусства. Было бы нелепо, конечно, “разоблачать” колониальное хищничество Оливера или стяжательства сэра Питера, – этого нет в пьесе, но… чересчур уж мягкий, приятный получается у Акимова спектакль, чересчур симпатичными сделал он английских Правдиных, Милонов и Стародумов, чересчур добродушно подсмеивается он над английскими Скотинины-ми и Простаковыми. Акимов – художник здоровый, но еще “камерный”, эстетски интимный, несмотря на кажущуюся пла-катность его манеры. Театр Акимова пока еще – для немногих. Ему не хватает злости, без которой не может быть настоящей высокой комедии (курсив мой – А. Р.)» [8, с. 47]. Я.Б. Гринвальд утверждал, что недостатки спектакля «Школа злословия», как и других постановок Ленинградского театра Комедии, «<…> идут от <…> художественного руководителя театра. Акимов уже не тот, каким знала его Москва в годы, когда в театре Вахтангова он ставил и оформлял “Гамлета” <…>. Урок “Гамлета” <…> не прошел даром для Акимова. Он много передумал, перечувствовал. Его последние режиссерские работы – доказательство того, что он творчески перестроился, искренно стал на путь реалистического театра» [3]. Вместе с тем, на новых режиссерских работах Акимова, по мнению московского критика, лежит налет эстетства, а именно: «Это эстетство проявляется в “красивости” оформления, в подчеркнутой условности костюмов, в известной нарочитости построения мизансцен, в манерности актерских жестов и поз. Почти всякую удачно найденную мизансцену Акимов поворачивает со всех сторон, показывает ее в самых различных ракурсах, любуясь ею сам и заставляя любоваться зрителя. Игра актеров <…> часто строится на внешнем приеме, на обыгрывании режиссером внешних данных того или иного исполнителя. Так, например, очень старательно “обыгрывается” импозантная наружность артиста Ханзеля. Подчеркнутый гротеск, которым широко пользуется Акимов, приводит, например, в “Школе