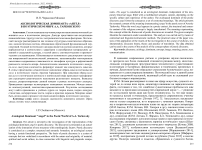Аксиологическая доминанта «ангел» в поэтическом мире А.А. Тарковского
Автор: Черкасова Инна Петровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению репрезентации аксиологической доминанты ангел в поэтическом дискурсе. Дискурс представлен как актуализация взаимодействия структур текста с экстралингвистическими факторами. Поэтический дискурс рассматривается как сложное структурно-семантическое образование, аксиологическая система, обладающая определенной функциональной перспективой. Основой поэтического дискурса является система концептов, которые вербализуются в соответствии с характером и своеобразием материальной, духовной и социальной культуры, в тесной связи с лингвистическими и прагматическими составляющими. Обосновывается возможность рассмотрения «ангела» как вневременной аксиологической доминанты, наполняющейся многогранным смысловым содержанием в зависимости от специфики культуры и рефлективной реальности личности автора. Аксиологическая доминанта поэтического дискурса ангел, выступая в контекстах, формирует концепт как совокупность смыслов. В статье представлено семантическое наполнение образа-смысла (метасмысла) ангел в поэтических текстах Арсения Тарковского. При появлении образа (слова) ангел в поэтическом контексте в значительной мере происходит трансформация структурно-семантического наполнения религиозного концепта. Выявлены смыслы, репрезентирующие данный концепт в рамках поэтического дискурса. Приведенные примеры иллюстрируют освещаемые положения. Методы анализа: контекстуальный, лингвистико-герменевтический. Результаты исследования могут найти применение в учебных курсах по теории языка, теории дискурса, стилистике, интерпретации текста, теории и практике перевода. Материал может быть использован в процессе изучения концептосферы поэтического дискурса.
Ангел, дискурс, аксиология, доминанта, концепт, образ, смысл, поэзия, текст, коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/149141350
IDR: 149141350 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-214
Текст научной статьи Аксиологическая доминанта «ангел» в поэтическом мире А.А. Тарковского
В динамике современных ритмов и ускорении научно-технического прогресса все более очевидной становится разница между многочисленными сопряженными пространствами человеческого существования: иллюзорным и бытийным, фикциональным и творческим, временным и вечным. Дихотомия бытия определяет стремления человеческого духа, направляя его к самосовершенствованию. Поэтический текст в данной связи остается загадочной вселенной, являющей собой одно из оснований стабильности мира и мировидения.
Ю.М. Лотман рассматривал поэзию как сферу искусства, сущность которой не до конца ясна науке, акцентируя внимание на парадоксальном факте, состоящем в том, что «наиболее существенные проблемы все еще находятся за пределами возможностей современной науки <...> решение их за последнее время даже как будто отодвинулось: то, что еще недавно казалось ясным и очевидным, представляется современному ученому непонятным и загадочным» [Лотман 1972, 3]. Актуальность высказывания не только сохраняется, но и возрастает с течением времени. Опираясь в теоретико-методологическом плане на труды по теории литературы (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров и др.), лингвопоэтике и истории поэтического языка (В.Б. Шкловский, Ю.М. Тынянов, P.O. Якобсон, В.М. Жирмунский, ГО. Винокур, В.В. Виноградов, Н.А. Кожевникова и др.), семиотике (Ю.М. Лотман, Е. Фарыно, Б.А. Успенский и др.), новые исследования открывают дополнительные грани и пространства поэтического бытия, связанные с феноменом лиризма поэтического текста [Шевчук 2015], духовными аспектами поэтического творчества [Котова 2008; Комарова 2017], особенностями поэтического стиля [Балашов-Ескин 2021], культурными традициями и универсалиями [Марцинкевич 2014], неповторимостью системы индивидуально-авторских образов [Шафаренко 2019], восприятием русской поэзии за рубежом [Хило 2015] и многие другие. Палитра значений и смыслов, обращенных к сущности бытия,

имея конкретную репрезентацию в тексте, открывается исследователям в богатстве и многообразии.
Антропоцентрическая парадигма знания, выстраивающаяся с опорой на междисциплинарность, обращается к вопросам вербализации и концептуализации ценностных категорий, их актуализации в системе различных типов дискурса, а также к специфическим характеристикам дискурса как явления (Н.Д. Арутюнова, СТ. Воркачев, В.З. Демьянков, М.Р. Желтухина, В.И. Карасик, В.В. Колесов, Н.А. Красавский, Е.С. Кубрякова, М.Л. Макаров, ГН. Манаенко, В.А. Маслова, М.Ю. Олешков, А.В. Олянич, М.В. Пименова, З.Д. Попова, В.М. Савицкий, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, В.И. Тюпа, В.Е. Чернявская, A. Bell, Т.А. van Dijk, G. Cook, N. Fairclough, B. Paltridge, M. Stubbs, R. Wodak и др.), определяемым зависимостью от национальной специфики, исторического этапа, что, безусловно, справедливо. Однако, как пишет В.П. Литвинов, плюралистическим понятиям мира противопоставлено принципиально моническое понятие «логос» как общее начало за всеми языками, мышлениями и формами жизни, который проявляется как множественный, оставаясь одновременно единым [Литвинов 1997, 8].
Учитывая безусловную связь с конкретной культурой и научной парадигмой, как представляется, именно система и тонкости верований определяют аксиологические доминанты общества в целом, которые, несмотря на социальные требования, индивидуальное осмысление и интерпретацию, сохраняют сущностное смысловое ядро, определяющее и оправдывающее духовные метания и преобразования личности. Вневременной аксиологической доминантой в данной связи, безусловно, можно назвать образ ангела, наполняющийся многогранным смысловым содержанием в зависимости от культуры и рефлективной реальности личности.
Более двухсот раз появляется образ ангела в Библии. Подробную характеристику дает, прежде всего, Закон Божий: «Ангелы - духи безтЬлесные (потому невидимые) и бессмертные, какъ и наши души; но ихъ Богъ одарил болке высокими силами и способностями, чкмъ человкка. Умъ ихъ совершеннке нашего. Они всегда исполняютъ волю Божпо, они безгркшны, и теперь благодатно Божчей такъ утверждались въ дклаши добра, что и гркшить не могутъ. <...> И слово “ангелъ” означает “вкстникъ”» [Закон Божий... 1994, 596]. Согласно мнению K.R Хагенбаха, ангелы, существуя между телесным и бестелесным мирами, отличаются от человеческих душ тем, что: 1) им не нужно физическое тело; 2) они получают опыт без логических заключений; 3) процесс мышления сопряжен с процессом созерцания; 4) статичны с точки зрения аксиологии; 5) общение происходит на интеллектуальном языке; 6) не вездесущи, а бесконечно передвигаются от места к месту [Hagenbach 1867].
Ангел выступает как часть божественного интеллекта. В трактате «Сумма теологии» Фома Аквинский определяет ангелов как всецело духовные создания, обладающие субстанцией, интеллектом, волей, способные формировать тела сгущением воздуха для общения с людьми, а также

передвигаться мгновенно как содержащие место. Поскольку ангелы знают универсальный аспект добра посредством своего интеллекта, несомненно, что они обладают волей, которая не является ни их природой, ни их интеллектом. Интеллект и воля неизбежно являются различными силами, поскольку обе они являются частью природы Бога. У ангелов есть свобода выбора, но поскольку Бог есть всеобщее благо, ангелы, естественно, любят Бога больше, чем самих себя. Благодать Божия и слава ангелов принимаются согласно уровню их природных талантов. Ангел не может грешить, потому что его любовь и воля направлены к Богу [Thomas Aquinas 1952]. Дионисий Ареопагит представил схему ангельской иерархии. Он называет ангелов «небесными чинами» и особо уточняет, что они «выше всякой материи», поэтому любое сравнение с людьми, будь то внешнее или внутреннее, бессмысленно. По его словам, «иерархия есть священный чин, знание и деятельность, уподобляющиеся, по возможности, божественной красоте и при переданном свыше озарении приближающиеся к возможному подражанию Богу. Это значит, что целью иерархии является возможное уподобление Богу и соединение с ним» [Дионисий Ареопагит 1995, 15]. Ангел достаточно часто выступает вестником божественной воли, посредником между Богом и людьми. Игумен Филарет подчеркивает, что вся земная жизнь человека есть время подготовки к вечности, в течение которой он должен совершать добродетельные дела и противостоять злу. Главное начало нравственного закона есть любовь, она приближает человека к Богу, который Сам есть Любовь. Любовь есть сила, уничтожающая эгоизм и злобу [Филарет 1991, 11, 58-59].
Ангел - один из ключевых концептов художественного (поэтического) пространства, выступающего как особая форма мышления, выводящая текст на междискурсивный уровень. Опыт и анализ показывают, как правило, вертикальное осмысление миропорядка как в бытовом, так и бытийном типах дискурса (И.А. Ткаченко, М.А. Ткачев, Л.А. Глыбина и др.) между тьмой и светом, суетой и творчеством, страхом и верой, тленностью и восхождением (вечностью). Историческое развитие поэтического мышления в данной связи оказывается наиболее верным идеалам, позволяющим охватить различные времена и традиции. Размышляя о сущности человека как «мыслящего мышления», М. Хайдеггер говорит именно о поэзии: «Мы, сегодняшние, вероятно, не имеем ни малейшего понятия относительно того, как греки, думая, переживали свою высокую поэзию <...> нет, не переживали, но позволяли себе пребывать в присутствии <...> явленного сияния» [Хайдеггер 2007, 44]. Философ отмечает редкие случаи сближения поэтического пространства и текста, основанного на логических заключениях мышления: «Это может произойти, когда поэзия высока, а мышление - глубоко» [Хайдеггер 2007, 44]. И.В. Фоменко называет художественное (поэтическое) произведение одним из самых парадоксальных явлений и проявлений мышления: «с одной стороны, оно рукотворно, его создает сам человек, с другой - оно оказывается столь сложным и загадочным, что его не может объяснить ни одна научная дисциплина»

[Фоменко 2003, 9]. Одновременно поэтическое слово требует рефлексии и распредмечивания, опирающихся на опыт филологической герменевтики, опыт, который, согласно мнению Г.И. Богина, одновременно индивидуален и коллективен, так как понимание одного человека получает развитие в деятельности другого, в этой связи цитируемый автор говорит об интерсубъективности понимания и понимаемых смыслов [Богин 2001].
Творчество Арсения Тарковского, охватившее и отразившее сложные этапы общественного развития, синтезирующее разнообразные культурные контексты, формирующие единое мифопоэтическое пространство [Резниченко 2014, 7], представляется наиболее интересным для изучения, исследователи единодушны в том, что творческое наследие поэта является недостаточно изученным (И.В. Баженова, Е.Н. Верещагина, С.В. Кекова, И.Г. Павловская, Т.Л. Чаплыгина, Ц. Цзинши), что «не находит соответствия масштабу личности самобытного поэта», особенно необходимы исследования поэтического текста, его внутренней формы, «позволяющей выйти к постижению поэтического содержания» [Лысенко 2008]. Знаковым является обращение автора к традиционным христианским ценностям и библейским образам (апостола Петра, апостола Фомы, праведника Лазаря и др.) (Евангелие от Иоанна, 11, Евангелие от Луки, 10, 30-37 и др.). Образ ангела в творчестве Арсения Александровича Тарковского занимает особое место, охватывая кардинальные позиции индивидуальноавторского поэтического мира.
В первой книге стихов «Гостья-звезда» ангел как символ духовного совершенства появляется при описании женщины, воплощающей, наряду с внутренними противоречиями, многогранность земной любви, проявляющейся в заботе и внимании, слабости и силе, детской искренности, непосредственности и безграничной власти:
Отнятая у меня, ночами
Плакавшая обо мне, в нестрогом
Черном платье, с детскими плечами, Лучший дар, не возвращенный богом... Не следи за мной зрачком косящим, Ангел, олененок, соколенок [Тарковский 1991,1, 43].
Лиризм как тип художественного содержания, базирующийся на переживании действительности, воспроизводимом автором [Шевчук 2015], определяет взаимодействие миров (внутреннего и внешнего, реального и духовного, земного и небесного). Образ ангела возникает и в следующих произведениях поэта, демонстрируя посредством дихотомии взаимосвязь божественного творения как совершенства и земной абсолютной чистоты, предполагающую единство вечной женственности и вечного возрождения, начала всех начал, но при этом также неудержимость и неподвласт-ность стихий всех измерений:

Ты ангел и дитя, ты первая страница,
Ты катишь колесо прибоя пред собой -
Волну вослед волне, и гонишь, как прибой,
За часом новый час - часы, как часовщица [Тарковский 1991,1, 213].
И неслучаен в данной связи интертекстуальный контекст, создаваемый эпиграфом, апеллирующим к «Метаморфозам» Овидия, литературным классическим образам прошлого. Н. Резниченко отмечает, что А. Тарковский использует особый тип поэтического слова - Слово-Логос, благодаря которому формируется мир как культурный космос [Резниченко 2014, 7], в основании которого лежит глубокое чувство мировой культурной традиции, воспринимаемой как «непрерывный круговорот культурных эпох» [Резниченко 2019, 5].
Интересен поэтический образ ревности, приобретающий в контексте метафорическое переосмысление посредством использования лексической единицы ангел, а также непривычную смысловую нагрузку, особую окраску и оправдание, воспринимаемый как отголосок абсолютной любви:
Ходит ангел ревности по дому,
Ищет утешения в словах,
Чтобы я терзался по-иному,
А тебя не мучил древний страх [Тарковский 1991,1, 374].
В качестве следующей составляющей следует назвать гениальность. В книге стихов «Перед снегом» ангел как поэтический смысл символизирует духовный гений творческой личности, объединяющий посредством метафорических переосмыслений разные виды искусства, питаемые вдох новением, открывающие восхождение к вечности:
А эта грубость ангела, с какою
Он свой мазок роднит с моей строкою,
Ведет и вас через его зрачок
Туда, где дышит звездами Ван Гог [Тарковский 1991,1, 87].
М. Кукин и О. Лекманов детально прослеживают герменевтический круг понимания от неожиданно резкого сочетания «грубость ангела», характеризующего новаторскую, почти безумную смелость художника и поэта, позволяющую, по мнению исследователей, назвать художественные миры «нездешними», «божественными», «ангельскими», до небесного или даже наднебесного, запредельного пространства, объединяющего «ангелов» и «звезды», соединенные семантической связью в поэтическом мире [Кукин, Лекманов 2017].
Ангел - это необъяснимый дар величайших поэтов, позволяющий рассматривать его как божественный. Это дар людям, духовно достойным его, размышления о которых позволяют поэту обращаться к библейским
образам и с помощью метафор и сравнений объединить земной и небесный миры:
Я слышу, я не сплю, зовешь меня, Марина,
Поешь, Марина, мне, крылом грозишь, Марина,
Как трубы ангелов над городом поют,
И только горечью своей неисцелимой
Наш хлеб отравленный возьмешь на Страшный суд [Тарковский 1991,1, 202].
В цикле «Чистопольская тетрадь» ангел выступает как точка рефлексии, позволяющая поэту выразить безмерное и бесконечное ощущение слабости и беспомощности. Диалогическое пространство «поэт - ангел», оставляющее надежду на помощь благодаря присутствию и имплицитному смыслу «ангел - хранитель», формирует мифопоэтическую модель, которая, согласно мнению И.Г. Павловской, определяется системой оппозиций, основанной на сочетании античного мифа и библейской традиции [Павловская 2007, 3]:
Ангел видит нас, бездольных,
До утра сошедших в ад,
И в убежищах подпольных
Очи ангела горят [Тарковский 1991,1, 101].
В данной связи образ ангела допускает трактовку в смысле тоски по трансцендентному Н. Бердяева, которую философ рассматривал как направленную к высшему миру и сопровождающуюся «чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира. Тоска обращена к трансцендентному, вместе с тем она означает неслиянность с трансцендентным, бездну между мной и трансцендентным. Тоска по трансцендентному, по иному, чем этот мир, по переходящему за границы этого мира. Но она говорит об одиночестве перед лицом трансцендентного. Это есть до последней остроты доведенный конфликт между моей жизнью в этом мире и трансцендентным» [Бердяев 2001, 294].
Ощущение неопределенности человеческого бытия разрастается до растерянности и потерянности в мировом пространстве, но сохраняющем надежду на близость и в чем-то схожесть с ангелом; при этом теряется уверенность в силе человеческого разума, возникает идея о тщетности его усилий в определении устойчивых основ мироздания:
Во вселенной наш разум счастливый
Ненадежное строит жилье,
Люди, звезды и ангелы живы
Шаровым натяженьем ее [Тарковский 1991,1, 308].
Важное место в данной связи занимает категория телесности, деталь- но рассмотренная в работе Э.В. Кельметр [Кельметр 2015], лежащая в основе дихотомии «человек - ангел», определяющей базовую структуру авторского пространства и мировидения.
Ангел - символ внешней оценки, репрезентации аксиологических основ человеческого бытия, дающих основание и право быть услышанными, требование и потребность развития и духовной трансформации-.
Не дойдут мольбы до Бога, Сердце ангела - алмаз. Продолжается тревога, И Господь не слышит нас. Рассекает воздух душный, Не находит горних роз И не хочет равнодушный Божий ангел наших слез [Тарковский 1991,1, 102].
Строки А. Тарковского перекликаются с поэзией Р.М. Рильке, считавшего Россию духовной родиной [Рильке 1994, 169-170] и определявшего ее границы поэтическим образом:
«Woran konnte RuBland an diesen beiden Seiten grenzen? <...> “Vielleicht an Gott?” “Ja”, bestatigte ich, “an Gott”» [Rilke],
«А с чем граничит вверху и внизу Россия? <... >
-Наверное, с Богом?
- Конечно, - подтвердил я, - с Богом» [Рильке].
В «Дуинских элегиях» ангел Р.М. Рильке представляет собой один из наиболее сложных и противоречивых концептов. Он в значительной мере определен многочисленными вопросами и связанными с ним парадоксами и является понятием философским. Ангел - точка рефлексии, в его свете Р.М. Рильке пытается понять возможности человека как духовного существа. Данный концепт динамичен в пространстве текста, и его наполнение меняется от первой элегии к последней согласно пониманию его лирическим героем. В первых элегиях он предстает как Erzengel (архангел), fast todlich (почти смертоностный), schrecklich (ужасный), ему приписывается starkeres Dasein (более прочное бытие). Но, одновременно, он прекрасен и совершенен. Рильке характеризует ангелов в сложных метафорах, с помощью которых старается передать неземное абсолютное совершенство, не поддающееся земным образам и сравнениям. Ангелы, обладая частью божественного интеллекта, совершеннее, чем человек:
Friihe Gegluckte, ihr Verwohnten der Schopfung,
Hohenziige, morgenrotliche Grate aller Erschaffung, - Pollen der bluhenden Gottheit,
Gelenke des Lichtes, Gange, Treppen, Throne,
Raume aus Wesen, Schilde aus Wonne, Tumulte
sturmisch entziickten Gefuhls und plotzlich, einzeln, Spiegel: die die entstromte eigene Schonheit wiederschopfen zuriick in das eigene Antlitz [Rilke 1981, 255].
Рано удавшиеся, вы, баловни созидания,
Горные цепи, рассветные гребни творенья,
Пыльца расцветающего божества,
Суставы света, проходы, ступени, престолы,
Вместилища сути, ограды блаженства, стихийные взрывы
Восхищенного чувства и порознь, внезапно,
Зеркала: красота убывает, и собственным ликом
Нужно вбирать ее, чтобы восполнить утечку [Рильке 1994, 270-271].
Ангел X. Тарковского - символ веры и надежды, включающий поэтическую многозначность звездного мира; его же отсутствие, соответственно, позволяет ощутить иную сторону мира и зависимость от человеческого выбора:
Нет больше ни приюта, ни покоя,
Ни ангела над пропастью беззвездной [Тарковский 1991,1, 43].
Ангел - это проводник людей в иной мир, символ избавления от боли и страданий:
По такому белому снегу
Белый ангел альфу-омегу
Мог бы крыльями написать
И лебяжью смертную негу
Ниспослать мне как благодать [Тарковский 1991,1, 350].
Ангел - символ невидимого присутствия духовного и божественного начала в повседневной жизни, обретающей в зависимости от духовного выбора человека тленность или право на возрождение и перерождение, восходящее к дихотомии «земная память - вечность»:
Все, что мило, зримо, живо,
Повторяет свой полет,
Если ангел объектива
Под крыло твой мир берет [Тарковский 1991,1, 167].
Ангел - символ абсолютной справедливости и помощи взывающим о праве на возмездие и борьбу с неправедностью, болью и страданиями, выступающий как пространство осмысления, основа функционирования культурных универсалий. Н.Э. Марцинкевич выделяет культурные универсалии объектного, субъектного, субъект-объектного ряда в творчестве

А. Блока [Марцинкевич 2014]. Представляется, что посредством образа ангела названные универсалии со всей очевидностью формируются в произведениях А. Тарковского. Зов к ангелу выступает как символ веры поэтической личности:
Где божество мое, где ангел гнева
И праведности? Справа кровь и слева
Кровь [Тарковский 1991,1, 203].
Ангел - это сила, объединяющая бога и людей через символику ночи и церковных куполов, сила, напоминающая о необходимости восполнить духовную пустоту, что позволит превратить черную ночь в белый день:
Могучая архитектура ночи!
Рабочий ангел купол повернул,
Вращающийся на древесных кронах,
И обозначились между стволами
Проемы черные, как в старой церкви,
Забытой богом и людьми [Тарковский 1991,1, 233].
Именно творческий дар позволяет постичь «Божественную перемычку счастья», символом которого в мире А. Тарковского становится возможность приближения к многозначному образу прикосновения к звездам ночного неба, объединяющим надежду, веру, мечту и вечность. С.В. Кеко-ва выделяет принцип преображения в качестве центрального принципа художественного метода А. Тарковского, обусловливающего способ трансформации мира; сквозь вещи и явления мира, как справедливо отмечает автор, просвечивает священное измерение бытия [Кекова 2009, 7].
Ангел - комплексный образ-смысл, объединяющий концептуальные основы мира: восхождение к вечности через полет ангела, церковь как символ веры вопреки проблемам и ненастьям, красоты (духовной и физической) через образ цветка, любви через обращение к любимой женщине, воплощающей абсолютную женственность и вечное возрождение.
Если ангелы летают
В куполах ночных церквей,
Если розы расцветают
В тесной горнице твоей [Тарковский 1991, II, 43].
Обращение к ангелу определяет использование автором лексических единиц, связанных в поэтическом пространстве А. Тарковского с областью духовного мира и непосредственно с образом-смыслом ангел.
Душа получает осмысление как основа и опора человеческого бытия на земле через визуальные, акустические и тактильные составляющие, на роли которых в поэзии Ю. Левитанского детально останавлива-
ется Н.Д. Шафаренко [Шафаренко 2019]. Психофизиологическое пространство, противопоставленное духовному, обнаруживает в творчестве А.А. Тарковского их тесную взаимосвязь и способствует актуализации понимания смыслового континуума:
Когда под соснами, как подневольный раб,
Моя душа несла истерзанное тело,
Еще навстречу мне земля стремглав летела
И птицы прядали, заслышав конский храп [Тарковский 1991,1, 319].
Е.Н. Верещагина утверждает, что отправной точкой размышлений поэта является мотив противоречия, стремления души покинуть тело, которое сознательно преодолевается, формируя единство и нераздельную связь в земной жизни [Верещагина 2005, 14-15].
Крыло рассматривается как возможность восхождения в системе вертикального мировидения, образ, объединяющий человека, птицу и ангела; одно из важнейших значений которого - воплощение человеческой души, а также осуществление связи между земным и небесным мирами [Цзинши 2021]:
Вечерний, сизокрылый,
Благословенный свет! [Тарковский 1991,1, 146].
Свет появляется как инвариант эмоциональных переживаний лирического субъекта [Павловская 2007, 10], как абсолютная сила, преображающая мир в поэтическом восхождении; «свечение слова» выступает залогом бессмертия и орудием преображения мира [Резниченко 2014, 261]:
Бессмертны все. Бессмертно все...
Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете [Тарковский 1991,1, 242].
И.Г. Павловская справедливо отмечает, что мир А. Тарковского, движущийся от временной точки - мига - становится свободным от временной заданности и необратимости событий [Павловская 2007, 5-6]. Божественность мира получает в поэтическом пространстве Арсения Тарковского неповторимое освещение:
Да не коснутся тьма и тлен
Июньской розы на окне,
Да будет улица светла,
Да будет мир благословен [Тарковский 1991,1, 395].
Поэтическое благословение является миру через авторское слово, реализующее в индивидуально-авторском мире, согласно мнению Н. Рез-224

ниченко, экзистенциальное призвание поэта - «быть универсальным медиатором и лексикографом культурных пространств и времен, слов и смыслов» [Резниченко 2014, И]. Т.Л. Чаплыгина считает, что слово в творчестве А.А. Тарковского сакрально и одновременно имеет особую магическую власть [Чаплыгина 2007, 8]:
Когда вступают в спор природа и словарь
И слово силится отвлечься от явлений,
Как слепок от лица, как цвет от светотени,
Я нищий или царь? Коса или косарь? [Тарковский 1991,1, 286].
Нельзя не согласиться с И.Г. Павловской в том, что в аксиологической системе А. Тарковского одной из ведущих выступает идея преемственности времен, связанная с мыслью о вечности культуры и слова как непреходящих носителей вечности [Павловская 2007, 14].
Размышляя о сущности поэзии, Арсений Тарковский писал:
«Поэзия идет волнами. Есть какие-то ритмы времени — бывает время для поэзии и время для прозы.
Начало XIX века и начало XX - время поэзии. То спад, то подъем, то подъем, то спад... Чем это определяется - кто знает... Если верить в переселение душ, то в меня переселился кто-нибудь из небольших поэтов - Дельвиг, быть может... Я бы предпочел, чтобы это был Данте, но он не переселился» [Тарковский 1991, II, 245].
Метафора переселения душ говорит о поэтических предпочтениях автора и, пожалуй, в первую очередь, о важности духовных исканий, веры и духовного преображения человека. В этом смысле безусловной является интертекстуальность поэтического мира, к которой он обращается, например, в свои воспоминаниях, объединяя времена, истории и народы: «У Льва Толстого есть рассказ “Чем люди живы”. Студеной зимой один из персонажей рассказа повстречал замерзающего ангела и поселил у себя в избе. Для Симона Чиковани истинным ангелом была его жена» [Тарковский 1991, II, 191]. Ангел становится точкой рефлексии, формирующей интертекстуальное пространство, область взаимодействия миров - реального, художественного/поэтического, философского; ангел выступает аксиологической доминантой, символизирующей веру в широком смысле слова вне зависимости от исторических условий, временных приоритетов и установок.
Список литературы Аксиологическая доминанта «ангел» в поэтическом мире А.А. Тарковского
- Балашов-Ескин К.М. Поэтический стиль В.А. Сосноры: художественно-речевая образность: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. М., 2021. 16 с.
- Бердяев Н. Самопознание. М.: Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио, 2001. 624 с.
- Богин Г.И. Обретение способности понимать: Введение в герменевтику. Тверь: Тверской государственный университет, 2001. 731 с.
- Верещагина Е.Н. Поэзия Арсения Тарковского в контексте традиций Серебряного века: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Вологда, 2005. 23 с.
- Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. М.: Московская правда, 1995. 59 с.
- Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями / сост. протоиерей Серафим Слободской. Свято-Троицкая Сергеева Лавра, 1994. 723 с.
- Кекова С.В. Метаморфозы христианского кода в поэзии Н. Заболоцкого и А. Тарковского: автореф. дис. ... д. филол. н.: 10.01.01. Саратов, 2009. 40 с.
- Кельметр Э.В. Поэтика телесности в лирике Иннокентия Анненского: авто- реф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Екатеринбург, 2015. 25 с.
- Комарова И.В. Духовная поэзия А. Солодовникова: художественное время и пространство: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Воронеж, 2017. 19 с.
- Котова Н.А. Современная духовная поэзия: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. М., 2008. 202 с.
- Кукин М., Лекманов О. «Где дышит звездами Ван-Гог…». Кто идет по «выжженной дороге» в стихотворении Арсения Тарковского? // Новый Мир. 2017. № 2. URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2017/2/gde-dyshit-zvezdami-vangog.html (дата обращения: 18.04.2022).
- Литвинов В.П. Полилогос: проблемное поле. Опыт первый. Опыт второй. Тольятти: МАБИБД, 1997. 180 с.
- Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: структура стиха. Ленинград: Просвещение, 1972. 271 с.
- Лысенко Е.В. Звук и звучание в лирике А.А. Тарковского: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Саратов, 2008. 20 с.
- Марцинкевич Н.Э. Культурные универсалии в творчестве А.А. Блока: семантика, функции, способы реализации: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. М., 2014. 31 с.
- Павловская И.Г. Образы пространства и времени в поэзии Арсения Тарковского: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Волгоград, 2007. 23 с.
- Резниченко Н. «Моя броня и кровная родня». Арсений Тарковский: предшественники, современники, «потомки». Очерки. Нежин; Киев: Н.М. Лысенко, 2019. 336 c.
- Резниченко Н. «От земли до высокой звезды»: Мифопоэтика Арсения Тарковского. Нежин; Киев: Н.М. Лысенко, 2014. 272 с.
- Рильке Р.М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М.: Искусство, 1994. 368 с.
- Рильке Р.М. Рассказы о Господе Боге. URL: http://lib.ru/POEZIQ/RILKE/skazki.txt (дата обращения: 20.04.2022).
- Тарковский А. Собрание сочинений: в 3 т. М.: Художественная литература, 1991–1993.
- Филарет. Конспект по нравственному богословию. Краснодар: Краснодарское епархиальное управление, 1991. 112 с.
- Фоменко И.В. Введение в практическую поэтику. Тверь: Тверской государственный университет, 2003. 176 с.
- Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Академический Проект, 2007. 351 с.
- Хило Е.С. Восприятие поэзии С.А. Есенина в Германии (1920–2010-е гг.): переводы, издания, критика, литературоведение. Томск: Томский государственный университет, 2015. 229 с.
- Цзинши Ц. Орнитологические образы в поэзии Арсения Тарковского: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Волгоград, 2021. 24 с.
- Чаплыгина Т.Л. Лирика Арсения Тарковского в контексте поэзии Серебряного века: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Иваново, 2007. 17 с.
- Шафаренко Н.Д. Поэзия Юрия Левитанского: особенности образной выразительности: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Екатеринбург, 2019. 19 с.
- Шевчук Ю.В. Поэзия И. Анненского и А. Ахматовой: формы лиризма: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. М., 2015. 52 с.
- Hagenbach K.R. Lehrbuch der Dogmengeschichte. Aufl. 5. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1867. 768 s.
- Thomas Aquinas. The Summa Theologica. Vol. 1. Chicago, London, Toronto, Sydney, Geneva, Tokyo: Encyclopedia Britannica Inc., 1952. 826 p.
- Rilke R.M. Gedichte. Moskau: Progress, 1981. 518 S.
- Rilke R.M. Geschichten vom lieben Gott. 1999. URL: https://rilke.de/erzaehlungen/geschichten_vom_lieben_gott.htm (дата обращения: 20.04.2022).