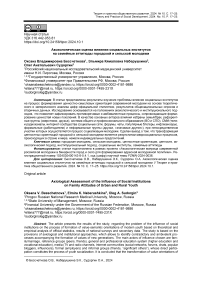Аксиологическая оценка влияния социальных институтов на семейные аттитюды городской и сельской молодежи
Автор: Бессчетнова О.В., Наберушкина Э.К., Судоргин О.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 10, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты изучения проблемы влияния социальных институтов на процесс формирования ценностно-смысловых ориентаций современной молодежи на основе теоретического и эмпирического анализа цифр официальной статистики, результатов общенациональных опросов и вторичных данных. Исследование основывается на положениях аксиологического и институционального подходов, что позволяет зафиксировать противоречивые и амбивалентные процессы, сопровождающие формирование ценностей новых поколений. В качестве основных акторов влияния избраны семья/брак, референтные группы (сверстники, друзья), система общего и профессионального образования (ВО и СПО), СМИ (теле- и радиоканалы, интернет-сообщества (социальные сети, форумы, чаты, популярные блогеры, инфлюенсеры), формальные (работодатели) и неформальные группы (друзья, «значимые другие»), при непосредственном участии которых осуществляется процесс социализации молодежи. Сделан вывод о том, что трансформация ценностных ориентаций городской и сельской молодежи является результатом макросоциальных процессов, происходящих в стране и мире, нежели индивидуальных предпочтений.
Городская молодежь, сельская молодежь, ценностные ориентации, ценности, аксиологический подход, институциональный подход, социальные институты, семейные аттитюды
Короткий адрес: https://sciup.org/149146954
IDR: 149146954 | УДК: 316.442-053.81 | DOI: 10.24158/tipor.2024.10.1
Текст научной статьи Аксиологическая оценка влияния социальных институтов на семейные аттитюды городской и сельской молодежи
2Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия , ,
2Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia , ,
Введение . Формирование системы ценностей новых поколений – важный аспект государственной социальной политики во все времена. В эпоху бурных общественных изменений, санкционного давления со стороны недружественных стран, социально-экономического кризиса, информационных войн, столкновения систем традиционных и либеральных ценностей данная задача представляется особенно актуальной. Молодежь как будущее страны, его социальный и человеческий капитал оказывается в сложном положении при формировании собственного мнения относительно того или иного вопроса под влиянием многочисленных формальных и неформальных факторов, информации, исходящей из официальных и неофициальных источников, транслирующих часто разрозненную и противоречивую информацию. В этой связи представляется важным установить основные факторы и степень их влияния на формирование системы ценностей современных поколений молодежи для выстраивания эффективных мер социальной политики с учетом новых реалий цифрового общества.
Методология исследования . Исследование проведено на основе комплекса общенаучных методов, включая обобщение и систематизацию теоретических данных на основе результатов научных изысканий отечественных и зарубежных авторов, сравнение, институционального и аксиологического подходов, анализа данных официальной статистики. Основной теоретико-методологической рамкой исследования мы избрали аксиологический подход. В рамках социологических парадигм фамилистики и данных общероссийских опросов нами была разработан исследовательский подход, который включает обзор ряда основных факторов, оказывающих непосредственное влияние на формирование системы ценностей новых поколений.
В качестве элементов теоретической модели для их анализа мы избрали систему социальных институтов, под влиянием и при непосредственном участии которых осуществляется социа-лизационный процесс: семья (как, правило, родительская), референтные группы (сверстники, друзья), система общего и профессионального образования (ВО и СПО), СМИ (теле- и радиоканалы, интернет-сообщества (социальные сети, форумы, чаты, популярные блогеры, инфлюен-серы), формальные (работодатели) и неформальные группы (друзья, «значимые другие»).
Использование аксиологического и институционального подходов позволяет найти точки соприкосновения для ответов на важные вопросы, касающиеся часто противоречивых и амбивалентных процессов, сопровождающих формирование ценностных ориентаций современной молодежи: почему, например, при высокой ценности семьи молодые люди откладывают вступление в официальный брак, предпочитают сожительство, легче расстаются и не планируют иметь детей в ближайшей перспективе?
Результаты и обсуждение . Аксиологическую оценку воздействия социальных институтов на аттитюды молодежи следует начать с анализа влияния брачно-семейных факторов, обращаясь к сравнению ценностных ориентаций молодежи в традиционной патриархальной и современной семье.
В отличие от предыдущих эпох, где одним из главных достоинств новобрачной в большинстве этнических и сословных традиций была девственность, в настоящее время данная ценность, скорее, рассматривается как атавизм. Сексуальный дебют россиянок сегодня происходит в среднем на три года раньше, у юношей – на два года и приходится на возраст 17–18 и 16–17 лет соответственно, и только в 7,1 % случаев первый опыт в этой сфере приобретается в браке; в то время как время вступления в официальные отношения отодвинулось до 24–26 и 26–28 лет соответственно1.
Увеличение экономического бремени, нестабильность, высокий уровень безработицы, цен на продукты питания и аренду жилья, особенно в больших городах и мегаполисах, падение уровня жизни и потребления (85 % россиян уверены, что вместе жить легче), совместные интересы, страх одиночества, удовлетворение витальных и эмоциональных потребностей приводят к снижению уровня стигматизации партнеров, сожительствующих без заключения официального брака, находя наибольший отклик среди молодежи 18–24 лет (59 %). В 2020 г. 16 % респондентов в возрасте до
34 лет состояли в «гражданском» браке1. Вместе с тем данные отношения не считают браком 56 % молодежи, равно как и представители старшего поколения; однако при появлении детей 71 % опрошенных россиян высказывает мнение о необходимости их законной регистрации2.
По сравнению с предыдущими поколениями, прочность и длительность брака в России, как и в других странах, снижается: в среднем по стране на 1 000 свадеб приходится 900 разводов, количество последних постепенно возрастает (табл. 1). За первые шесть месяцев 2023 г. зарегистрировано рекордное количество разводов – 333 970.
Таблица 1 – Количество разводов в Российской Федерации в 2018–2022 гг.3
Table 1 – Number of Divorces in the Russian Federation in 2018–2022
|
Годы |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Единиц (тыс.) |
583 942 |
620 730 |
564 704 |
644 209 |
682 850 |
|
На 1 000 чел. населения |
4,0 |
4,2 |
3,9 |
4,4 |
4,7 |
Отношение населения к возможности расторжения брака за последние 30 лет существенно не изменилось – 89 % сограждан считают его допустимым. Среди причин называют: бедность, безработицу, отсутствие финансовых средств (46 %), измену и ревность одного из супругов (22 %), эгоизм и непонимание между интимными партнерами (21 %). Мнение россиян по вопросу местожительства несовершеннолетних детей в случае развода стало менее категоричным: 58 % высказались за индивидуальный учет конкретной ситуации в семье и реже – за исключительное делегирование матери права на их воспитание (на 18 % меньше по сравнению с 2015 г.)4. Молодые люди чаще решаются на развод по причинам личностного кризиса, несоответствия парт-нера/супруга(и) ожиданиям, страха ответственности за других, болезненного опыта родителей, возрастающих требований общества потребления к родительству, мифов о семейной жизни, растиражированных в средствах массовой информации (СМИ), социальных сетях, на форумах и ин-тернет-страницах известных блогеров, что приводит к отсроченному вступлению в брак и рождению детей, выбору комфорта и одиночества как стратегии саморазвития.
Матримониальное и репродуктивное поведение современной российской молодежи отличают следующие особенности: вступление молодых людей в официальный брак в более позднем возрасте, ближе к 30 годам; треть пар проходит через фазу сожительства перед его заключением; усиление тенденций территориальной и пространственной автономии молодой семьи от родительской (аренда жилья при отсутствии собственного), расширение спектра семейных и гендерных ролей обоих супругов; большая включенность мужчин в домашние дела, уход и воспитание детей, помимо традиционных; снижение социального контроля со стороны ближайшего окружения, членов расширенной семьи, религиозных организаций, особенно в городах и мегаполисах; отделение сексуального поведения от репродуктивного, контроль количества и времени появления детей в семье при помощи современных средств контрацепции; откладывание родительства на более поздние сроки; наличие детей реже рассматривается в качестве аргумента в пользу сохранения брака при условии абьюзивных или токсичных супружеских отношений; превалирование доли эгалитарного типа семьи над традиционной (патриархальной), где женщина не работает вне дома, выполняет роли жены и матери, а мужчина является главой семьи, кормильцем и защитником, что обусловлено экономическими и социальным факторами, сменой системы ценностей под влиянием эмансипации, индивидуализации, равного доступа к образованию, возрастающих возможностей трудовой занятости женщин, смены фокуса на самореализацию в профессиональной, творческой, досуговой и других видах деятельности вне и помимо семьи.
Изменения, переживаемые современной ячейкой общества, объясняются несколькими теоретическими концепциями: экономическими (процессы модернизации усилили факторы индивидуализма, эгалитаризма и рационализма; привели к сокращению размера семьи за счет снижения количества детей; усилению требований к родителям в вопросах обеспечения, обучения, воспитания и социализации несовершеннолетних) и социокультурными (изменения семейной структуры, функций, глубокая трансформация мужских и женских ролей; выдвижение на первый план ценностей индивидуализма, самореализации и самоактуализации под влиянием существующей системы морально-нравственных, религиозных, социокультурных ценностей и норм, определяющий желаемый размер семьи, количество детей, доход; баланса работы и карьеры (Devedžić, 2006).
Вместе с тем, несмотря на трансформации, семья по-прежнему остается одной из важнейших ценностей российской молодежи, независимо от пола, уровня образования, места жительства, материального положения, являясь естественной группой, позволяющей развиваться в биологической, психологической и социальной сферах, духовно объединять своих членов на основе взаимной помощи, поддержки, заботы друг о друге, в рамках системы родства, супружества, свойства, опираясь на религиозные и этнокультурные нормы и традиции, систему межпоколенческих связей.
По данным опроса ВЦИОМ 2024 г., ценность семьи отметили 70–77 % представителей молодежи в возрасте 18–34 лет наряду с перспективами карьерного роста – 81 %, повышения социального статуса – 72 %, творческой самореализации – 71 %, участия в общественной и политической жизни – 52 %, в волонтерской деятельности – 49 %; 19 % респондентов выразили готовность в любой ситуации следовать традициям своей семьи, а 20 % – соблюдать религиозные нормы1. По мнению большинства сограждан, функции по воспитанию и социализации детей в большей степени лежат на семье (78 %), чем на других социальных институтах – государстве, системе образования, ближайшего окружения (14 %); сохранение традиционных семейных ценностей, связанных с материнством, отцовством и детством, находит отклик у 76 % молодых рос-сиян2. Возрождение многодетности поддерживает 68 % респондентов, однако среди поколения зумеров (молодежи 18–23 лет) данный показатель составляет лишь 39 %, кроме того, высвечивается заметная дифференциация по территориальному признаку: жители обеих столиц констатируют привлекательность многодетности реже (61 %), в отличие от представителей малых городов (до 100 тыс. чел.) и сельских поселений (70 и 72 % соответственно)3.
Результаты исследований отечественных ученых за последние несколько лет (Романович, 2023; Карпова, Евдокимов, 2019 и др.) позволяют сделать следующий вывод о репродуктивных установках современной молодежи: во-первых, несмотря на высокую ценность семьи и детей, это не приводит к повышению рождаемости; во-вторых, доход семьи, жилищные трудности напрямую влияют на принятие мужем и женой решения о продолжении рода (откладывание этого события, отказ от рождения вторых, третьих и последующих детей), так как связаны с опасением снижения уровня жизни супругов; в-третьих, страх не соответствовать требованиям и нормам «ответственного родительства» вынуждает отказываться от него; в-четвертых, конфликт интересов, необходимость выбора между образованием, карьерой, профессиональной самореализацией и выполнением семейных ролей; психологическая неготовность к рождению и воспитанию ребенка также приводят к откладыванию этого события на неопределенный срок.
Обратимся к институту образования. Общий его уровень, безусловно, способствует формированию ценностей, выполняя функцию выравнивания, коррекции, позволяя дополнить или, в определенных случаях, видоизменить картину мира детей и молодежи, формируемую в семье. Вместе с тем создание собственной ячейки общества в среднем и старшем подростковом возрасте не входит в число жизненных приоритетов, отодвигаясь на более поздние этапы взросления, в связи с чем вопросы формирования семейных ценностей в большей мере складываются и сознательно осмысляются в том числе в ходе профессионального образования, особенно в гуманитарной сфере, при получении не только собственного житейского, социального опыта, но и теоретических знаний по дисциплинам психолого-педагогического цикла.
Вопросы получения профессионального образования молодежью являются глобальной проблемой XXI в. во всем мире. Для 58 % россиян нового поколения вузовская подготовка по-прежнему остается значимым фактором личностного развития; важными аспектами обучения в высшей школе называются формирование самостоятельности (30 %), общение со сверстниками (27 %), поиск и взаимодействие с потенциальными работодателями (26 %), реже – проявление активности и участие в студенческих мероприятиях (18 %), разнообразный досуг (4 %)4. Влияние высшего образования на будущую карьеру в 2023 г. возросло на 16 пунктов; почти каждый второй россиянин (47 %)1 считает, что оно выступает гарантом высокооплачиваемой работы после окончания вуза. Абитуриенты из сельской местности мигрируют в города для получения образования в 2,5 раза чаще, чем их городские ровесники, что объясняется отсутствием образовательных учреждений на селе. Студенты чаще других отдают предпочтение очной (в СПО – 90 %, в ВО – 75 %) и очно-заочной (13 %) формам обучения, так как последняя позволяет как овладеть необходимым минимумом компетенций, так и сочетать работу с учебой (64 %)2, однако не дает возможности получать академическую стипендию, дополнительные выплаты и материальные поощрения. Подавляющая часть студентов российских вузов высоко оценивает работу отечественной высшей школы: 80 % опрошенных в 2024 г. указали на удовлетворенность процессом обучения, в частности, компетенциями преподавателей (87 %), инфраструктурой (77 %), работой деканатов (74 %), уровнем технической оснащенности (72 %), реже – точками питания (67 %)3. Вместе с тем современное профессиональное образование (СПО, ВО) испытывает ряд системных проблем, требующих решения в ближайшей перспективе: несоответствие квалификации сотрудников и сформированных компетенций выпускников современным условиям производства и требованиям рынка труда; слабая практико-ориентированность профессионального образования, устаревшая методологическая, методическая, материально-техническая база при подготовке специалистов; формализм при прохождении учебной и производственной практик; изменение структуры занятости населения под влиянием процессов глобализации, экономических санкций, безработицы, роста конкуренции; возрастание требований к деловым и личностным качествам работников, уровню их компетентности со стороны работодателя.
По данным Росстата, количество выпускников 2020–2022 гг., имеющих высшее и среднее профессиональное образование, характеризуется тенденцией к снижению как в городе, так и в селе, что связано, в частности, с уменьшением численности контингента в связи с депопуляци-онными процессами в структуре населения (табл. 2).
Таблица 2 – Численность городских и сельских выпускников 2020–2022 гг., имеющих высшее и среднее профессиональное образование 4
Table 2 – Number of Urban and Rural Graduates in 2020–2022
with Higher and Secondary Vocational Education
|
Годы |
2020 1 |
2021 1 |
2022 |
|
Высшее образование |
|||
|
Мужчины |
303,9 |
238,4 |
243,5 |
|
Женщины |
337,4 |
281,6 |
255,3 |
|
Город |
527,9 |
435,5 |
407,8 |
|
Село |
113,3 |
84,5 |
94,1 |
|
Среднее профессиональное образование |
|||
|
Мужчины |
183,9 |
178,3 |
155,6 |
|
Женщины |
176,0 |
175,7 |
146,5 |
|
Город |
256,3 |
259,5 |
217,0 |
|
Село |
103,5 |
94,5 |
85,0 |
Анализ представленных данных позволяет увидеть значительный разрыв в сфере получения высшего образования между сельской и городской молодежью, что не в последнюю очередь может быть обусловлено структурными (отсутствием финансовых средств у родительской семьи на оплату обучения, материальную поддержку, удаленностью места получения образования от места жительства, неадекватным транспортным сообщением, отсутствием общеобразовательных организаций, дающих возможность окончания средней школы в месте проживания; дефицитом рабочих мест в сельской местности), качеством общего образования (слабой материальнотехнической базой периферийных школ; дефицитом квалифицированных педагогических кадров), не позволяющих сельской молодежи конкурировать с городскими ровесниками по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) за бюджетное место в вузах и ссузах, а также индивидуально-личностными факторами (слабой академической подготовкой и мотивацией обучающихся к продолжению образования). После выпуска на работу по специальности устраиваются в среднем 50–60 % специалистов, а между тем именно приоритет построения карьеры у современной молодежи тормозит реализацию желания создать семью и рожать детей.
Проведем анализ формальных групп (работодателей). Мнения молодых специалистов о поиске работы заметно различаются: 40 % из них считают поиск подходящей работы после получения диплома проблематичным, 10 % – невозможным и лишь 9 % – легким1, указывая, что риски трудоустройства снижаются при совмещении учебы и работы во время получения образования. Несмотря на трудности трудоустройства и снижение интереса к профессии (в 2021 г. – 45 %; в 2022 г. – 24 %) у молодых людей в возрасте 14–35 лет сформирован четкий запрос на профессиональную самореализацию (92 %), финансовое благополучие (57 %) и высокий уровень денежного вознаграждения (70 %)2. Пик заработков у молодых людей с высшим образованием приходится на возраст 30–39 лет; у лиц, занимающих руководящие должности, – на 35–39 лет. У специалистов со средним уровнем квалификации и неквалифицированных рабочих, в зависимости от сферы деятельности, зарплаты достигают максимума к возрасту 25–29 лет (сельское, лесное, рыбное хозяйство); у работников, занятых в сфере обслуживания, торговли, охраны граждан и собственности, – в 20–24 года (Разумова, Золотина, 2019). Сельская молодежь чаще городской отмечает отсутствие интересующих ее вакансий (53 и 50 % соответственно), низкий уровень заработной платы (17 и 14 % соответственно), факт, что изначально не собирались работать по полученной профессии (12 и 11 % соответственно), в то время как критерий несоответствия полученных знаний и навыков требованиям работодателя чаще фиксирует городская молодежь (6 против 4 %)3. Среди сельского населения, в том числе в трудоспособных возрастах, наблюдается, с одной стороны, рост доли занятых как с высшим, так и со средним профессиональным образованием, вместе с тем фиксируется недоиспользованный образовательный потенциал у 65 % респондентов, имеющих высшее образование, у 74 % – имеющих среднее профессиональное образование и у 77 % квалифицированных рабочих, осуществляющих трудовую деятельность не по специальности (Капелюк, Лищук, 2020).
В настоящее время современная концепция work-life balance (баланс личного и рабочего времени, под которым подразумевают действия, направленные на разумное распределение времени между профессиональными обязанностями и общением с членами семьи, друзьями, участием в жизни сообщества, духовным и личном ростом) сопряжена с расширением спектра форм занятости (гибридных, с возможностью удаленной работы, гибким графиком), которые оказывают позитивное влияние на удовлетворенность трудовой деятельностью (Тонких, Баранова, 2020). С одной стороны, инициатива работодателей, направленная на социальную поддержку сотрудников, не всегда находит позитивный отклик у молодежи до 25 лет: 64 % из них не приветствуют проявление интереса к их личной жизни; с другой стороны, 75 % сотрудников до 35 лет сталкиваются с неготовностью руководства идти им навстречу при возникновении требующих внимания семейных обстоятельств4. В целом, молодежь с высшим образованием является одной из наиболее высокооплачиваемых групп работников, находясь в более выгодном положении с точки зрения текущих и потенциальных доходов по сравнению с работниками более старших возрастов. Кроме того, получение следующей ступени высшего образования улучшает качество занятости, вероятность трудоустройства и удовлетворенность работой.
Обратимся к рассмотрению интересующей нас проблематики в рамках института СМИ. В условиях информационного общества важную роль играет социальный институт средств массовой информации (пресса, радио, телевидение, Интернет), основной функционал которых заключается в сборе, обработке, анализе и распространении информации среди населения; формировании и/или трансформации коллективных представлений граждан о процессах и событиях, происходящих в стране и мире, являясь своеобразным инструментом социального регулирования и контроля. «Четвертая власть» способна оказывать как положительное, так и деструктивное влияние на формирование и трансформацию ценностных ориентаций молодежи (Рерке, 2013; Данилова, 2017; Карпова, Евдокимов, 2019; Романович, 2023). Современное информационное пространство имеет следующие характерные особенности: с одной стороны, огромные объемы данных, борьба теле- и радиоканалов за аудиторию, блогеров – за подписчиков, сопряженная с использованием методов агрессивной пропаганды, рекламы, низкопробного контента, популяризирующих антисоциальное поведение и размывающих границы традиционных морально-нравственных устоев и норм, с другой стороны – гибридные войны с недружественными государствами, политические вбросы «горячей» информации, моральные паники, лоббирование интересов определенных социальных групп. В этой связи, не являясь экспертом в той или иной области, сложно отделить «зерна от плевел», правду от фейка, критически осмыслить происходящее.
Кроме того, если представители старших поколений предпочитают получать информацию из телепередач, новостных программ и радио, то молодежь почти не смотрит телевизор, обращая свое внимание на информацию в сети Интернет, которая не всегда согласуется с официальной повесткой, а анонимность личности в цифровом пространстве позволяет молодым людям объединяться в неформальные онлайн группы, принимать участие в обсуждении актуальных вопросов, касающихся государственных решений в сфере политики, экономики, социальной сферы, молодежной проблематики и пр., не опасаясь критики или наказания.
В последние годы наряду со СМИ в молодежной среде набирает популярность блогерство как вариант новых медиа. К числу представителей этого направления деятельности следует сказать о трендсеттерах (англ. trendsetter; от trend – «тенденция», to set – «устанавливать, начинать») и инфлюэнсерах (англ. Influencer – от to influence – «влиять»)), в роли которых чаще всего выступают медийные личности, популярные актеры, писатели, телеведущие, политики, звезды шоу-бизнеса, селебрити, способные оказывать влияние на мнение многомиллионной аудитории за счет своего авторитета, известности, реальной или мнимой компетентности. Блогинг как новый вид профессиональной деятельности, сопряженный с вложением в него средств и времени, требует отдачи, в связи с чем для поддержания интереса подписчиков блогеры, с одной стороны, поднимают в своих выступлениях актуальные, дискуссионные или провокационные темы, слабо освещаемые в официальных медиа; с другой – «ловят хайп» на продвижении навязчивой и агрессивной рекламы, нацеленной на быстрое формирование потребительских предпочтений аудитории для реализации товаров и услуг, общественного мнения в политической сфере; публикации намеренно скандальной, иногда недостоверной информации вокруг определенной темы, объекта или персоны, для введения аудитории в заблуждение и сознательного манипулирования ею.
Увеличение числа сторонников и приверженцев блогеров обусловлено нестандартным преподнесением информации последними, креативностью, персонализированностью их выступлений, личной харизмой, отсутствием формальных ограничений, контроля со стороны государственных органов. В отличие от старшего поколения, молодежь более склонна доверять мнению блогеров (57 %), чем традиционным СМИ, с большей готовностью следовать их советам и рекомендациям, признавать их лидерами мнений (87 %) (Ягудина, 2023). В ближайшем будущем, скорее всего, блогинг продолжит свое развитие и будет оказывать выраженное влияние на молодежную аудиторию, в связи с чем его необходимо рассматривать как ресурс для осуществления социальной политики, просвещения, организации воспитательной и общественной работы с молодежью с целью формирования у ее представителей системы традиционных ценностей.
Помимо стандартных социальных институтов, влияние на систему ценностных ориентаций молодых людей оказывают неформальные факторы: ближайшее социальное окружение, родственники, друзья, «значимые другие». На первое место среди последних молодые люди ставят родителей (или отдельно мать, отца), на второе – близких друзей, с которыми имели общие детские воспоминания, опыт взросления, тесные межличностные отношения в период обучения в системе общего и профессионального образования, в которых чаще всего ценятся такие качества, как открытость, честность, взаимность и преданность (Майстренко, Майстренко, 2021).
В исследовании ценностных ориентаций студенческой молодежи с использованием качественной методологии (написание эссе «Ценности в моей жизни» в свободной форме) и интерпретативного анализа полученных результатов третье место наряду с ценностью семьи и саморазвитием, респонденты отдали общению с друзьями как одному из основных ресурсов социальной поддержки и саморазвития, как важному фактору социализации и благополучия, дающему импульс к постановке целей и формировании мотивации к их достижению (Бессчетнова, 2023). В условиях массового общества у молодежи более старших возрастов происходит ослабление личных привязанностей в связи с высокой степенью социальной мобильности, сопряженной со сменой места жительства, работы, дефицитом времени из-за сочетания учебы с профессиональной занятостью, высокой интенсивностью труда, поиском интимного партнера. Однако недостаток реальной коммуникации компенсируется виртуальным общением в Интернете, социальных сетях, мессенджерах, чатах, на форумах с использованием различных электронных гаджетов. Наличие нескольких аккаунтов в социальных сетях, многочисленных «виртуальных друзей» по переписке позволяет молодым людям реализовывать свою потребность в общении, поддерживать отношения, следить за последними новостями, модными трендами, оставаться «на связи», восполняя нехватку реального межличностного взаимодействия.
Заключение. Наш обзор теоретических и эмпирических данных об аттитюдах современной молодежи относительно семьи и родительства показал, что новое поколение действительно настроено откладывать заключение официального брака и рождение первого ребенка на более поздние сроки. Однако причины этого состоят отнюдь не в снижении ценности семьи и родительства и не в инфантилизме, консьюмеризме и безответственности современной молодежи. Огромное конструирующее влияние на семейные и репродуктивные установки молодежи оказывают социальные институты, а точнее, их дисфункции. Современное общество рискогенно, а новые турбулентности побуждают молодых людей трезво оценивать реалии, что выражается именно в категориях ответственности за свое социально-экономическое благополучие и благополучие своей будущей семьи, отдавая предпочтение приоритету построения карьеры, повышению возраста вступления в брак и отложенному деторождению.
Известно, что в течение предшествующих лет сами представители государства признавали, что именно семьи с детьми в первую очередь находятся в зоне риска бедности, а в условиях доминирования ценностей общества потребления экономическое неблагополучие становится тригерной точкой, запускающей формирование негативных аттитюдов относительно раннего вступления в брак или многодетности. В условиях ничего не гарантирующего рынка, все более уходящего от бессрочных трудовых договоров работодателя, роботизации, цифровизации и исчезновения устоявшегося спектра профессий, молодые люди испытывают повышенную тревогу и не готовы брать ответственность за других людей, создавая семью. Дисфункции социальных институтов, рассмотренных в статье, требуют дальнейшего эмпирического анализа, однако однозначно можно сказать, что избыточное социальное неравенство, свойственное российскому обществу, негативно влияет на демографическую динамику, в том числе способствуя снижению значимости семейных ценностей.
Список литературы Аксиологическая оценка влияния социальных институтов на семейные аттитюды городской и сельской молодежи
- Бессчетнова О.В. Ценностные ориентации современной студенческой молодежи // Общество: социология, психология, педагогика. 2023. № 2 (106). С. 17-22. https://doi.org/10.24158/spp.2023.2.1.
- Данилова Е.А. Влияние СМИ на социализацию молодежи // Наука. Общество. Государство. 2017. Т. 5, № 2 (18). С. 126-130.
- Капелюк С.Д., Лищук Е.Н. Масштабы несоответствия образовательного уровня работников сельскому рынку труда // Journal of Applied Economic Research. 2020. Т. 19, № 3. С. 370-397. https://doi.org/10.15826/vestnik.2020.19.3.018.
- Карпова М.К., Евдокимов В.И. Роль СМИ в трансформации социокультурных ценностей современной молодежи // Наука. Общество. Государство. 2019. Т. 7, № 2 (26). С. 173-179.
- Майстренко Е.В., Майстренко В.И. Ценностные компоненты взаимоотношений студенческой молодежи г. Сургута со «значимыми другими» // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2021. № 5 (74). С. 94-101. https://doi.org/10.26105/SSPU.2021.64.15.011.
- Разумова Т.О., Золотина О.А. Особенности занятости выпускников вузов на российском рынке труда // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2019. № 2. С. 138-157.
- Рерке В.И. Влияние социальной рекламы на ценностные ориентации современной молодежи // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. № 9 (80). С. 321-327.
- Романович Н.А. Представления молодежи о браке и семье // Социологические исследования. 2023. № 3. С. 135-140. https://doi. org/10.31857/S013216250021750-8.
- Тонких Н.В., Баранова Н.В. Work-life balance в системе ценностей молодежи: методология исследования // Дискуссия. 2020. № 5 (102). С. 50-62. https://doi.org/10.24411/2077-7639-2019-10076.
- Ягудина А.Р. Блогеры как регуляторы общественного мнения // Мир науки и мысли. 2023. № 2. С. 105-112. Devedzic M. O prirodnom kretanju stanovnistva. Beograd, 2006. 228 р. (на хорват. яз.)