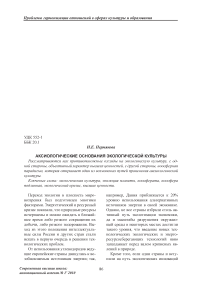Аксиологические основания экологической культуры
Автор: Пермякова Надежда Евгеньевна
Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu
Рубрика: Проблемы гармонизации отношений в сферах культуры и образования
Статья в выпуске: 1 (7), 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются как противоположные взгляды на экологическую культуру, с одной стороны, объективный характер высших ценностей, с другой стороны, ноосферная парадигма, которая открывает один из возможных путей прояснения аксиологической культуры.
Экологическая культура, эволюция планеты, ноосферата, ноосфера подлинная, экологический кризис, высшие ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/14239488
IDR: 14239488 | УДК: 552-1
Текст научной статьи Аксиологические основания экологической культуры
Переход экологии в плоскость мировоззрения был подготовлен многими факторами. Энергетический и ресурсный кризис показали, что природные ресурсы исчерпаемы и можно ожидать в ближайшее время либо резкого сокращения их добычи, либо резкого подорожания. Выход из этого положения интеллектуальные силы России и других стран стали искать в первую очередь в решении технологических проблем.
От использования углеводородов ведущие европейские страны двинулись к возобновляемым источникам энергии; так, например, Дания приближается к 20% уровню использования альтернативных источников энергии в своей экономике. Однако, не все страны избрали столь активный путь экологизации экономики, да и масштабы разрушения окружающей среды в некоторых местах достигли такого уровня, что введение новых технологических экологических и энергоресурсосберегающих технологий явно запаздывает перед валом кризисных явлений в природе.
Кроме того, если одни страны и вступили на путь экологических инноваций в экономике и приступили к принятию строгих ограничительных мер и законов, то так называемые страны третьего мира, проходя первые этапы промышленной революции, используют, как правило, старые технологии и методы по извлечению природных ресурсов, что негативно сказывается на общепланетарном экологическом балансе. Устойчивое развитие Нидерландов фактически перечеркивается масштабами экологических загрязнений, которые вносят США, Китай, страны Африки и т.д.
Общепланетарное стремление выйти из этого кризиса обнаруживается в принятии Киотского протокола о парниковых газах, в международной конвенции ЮНЕСКО по защите особо ценных территорий – Всемирного природного Наследия и других международных проектах и инициативах.
Но параллельно с этим в работах Римского клуба, на форумах по устойчивому развитию и крупных международных конференциях, в трудах отдельных ученых и научных коллективов все сильнее стала звучать мысль о том, что, в первую очередь, необходимо формировать экологическое сознание, что наш мир, если и может иметь будущее, то не столько благодаря технологическому прогрессу или формированию «информационного общества» (которое в процессе глобализации все более склоняется к «золотому миллиарду»), а на путях ко-эволюцион-ного развития человека и природы. А последнее предполагает формирование экологической культуры.
Это, в свою очередь, требует многих условий. Во-первых, прояснения самого понятия экологической культуры. В этом направлении уже достигнут значительный результат благодаря работам М.С. Когана, Э.С. Маркаряна, Ю.Г. Маркова, В.А. Ясвина и многих других философов и экологов. В результате вскрылся ряд важных проблем. Например, в настоящее время, вряд ли возможно применять весь потенциал экологической культуры, который накопило человечество ранее в условиях традиционного природопользования, подкрепленного религиозным мировоззрением. Однако и отбрасывать этот уникальный опыт нельзя, и, стало быть, возникает теоретическая и научно-практическая задача перенести опыт прошлого в современные условия, разработать механизмы адаптации к современным условиям положительных примеров природопользования прошлых эпох. Кроме этого, необходимо определить мировоззренческий базис современной экологической культуры. Вторая проблема заключается в следующем: на уровне обыденного сознания более или менее понятно, что подразумевается под культурным и антикультурным экологическим поведением человека. Но этого явно недостаточно для разработки образовательных программ, законодательных проектов и т.д. Прояснить данное понятие – задача не такая уж простая, если учесть множество определений самой культуры.
В московской международной декларации об экологической культуре, принятой седьмого мая 1998 года, дано следующее определение: «Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором общество системой духовных ценностей, этических принципов, экономических механизмов, правовых норм и социальных институтов формирует потребности и способы их реализации, которые не создают угрозы жизни на Земле» [8, с. 6].
В этом определении проводится мысль о единстве человека и природы, утверждается значение ценностных ориентаций и фактически ставится проблема разработки механизмов коэволюционного развития. Но в его основании лежит, на наш взгляд, некая «вынужденность»: мы формируем экологическую культуру только потому, что иначе не выживем. Эта вынужденность не может стать мировоззренческим базисом нового экологического сознания, а отсутствие такого базиса порождает прагматизм, который всегда будет подталкивать к выдвижению на первый план «человеческих» интересов, вопреки интересам природы.
В то же время на протяжении всего 20 века разрабатывалось учение, которое с полным правом может претендовать на роль такого базиса – учение о ноосфере, главным образом в том изначальном варианте, как оно разрабатывалось его основоположниками Э. Леруа, П. Тейяром де Шарденом и В.И. Вернадским. Мы подчеркиваем этот момент потому, что после работ первых ноосферологов, нооосфера – сфера разума стала трактоваться слишком широко. У современных исследователей порой ноосфера – это все, что создано человеком. При этом гуманистический пафос, идеалы духовного совершенствования и высочайшей ответственности человека за свою эволюцию и эволюцию планеты отходят на дальний план. В новых условиях потребовалось уточнить, что разумная деятельность человека может представать как минимум в трех своих ипостасях – ноосферата – «ужасная ноосфера», включающая оружие, войны, насилие и прочее; все, что уничтожает жизнь как таковую; ноосфера с маленькой буквы как то, что обеспечивает человека как природно-телесное существо, и, наконец, Ноосфера подлинная, с большой буквы, в которой силы природы и человека создают благодатный синтез. Исходя из этого понимания ноосферы, по-новому видится и понятие культуры.
К истинной культуре должно быть отнесено все в ноосфере, что устремляет человека к высшему, пронизано и управляется подлинными ценностями. Эти высшие ценности задают идеал ноосферного существования, образуя, пусть пока еще в идеальном плане, то, что выше было названо Ноосферой с большой буквы.
Сегодня, как известно, целый ряд исследователей констатирует общесистемный глобальный кризис техногенно-потребительской модели мирового развития. Эта модель господствовала на протяжении последних веков и наиболее ярко воплощена сейчас в развитых странах Запада.
В целом суть этого типа организации общества выражается в забвении духовной «вертикали» бытия и абсолютизация «горизонтального», «телесного» измерения мира. Не высшие идеалы и ценности человека определяют и упорядочивают низшие формы его жизнедеятельности, а, наоборот, низшие страсти и материальные интересы подчиняют себе высшие. В социуме духовная культура (религия, философия, искусство) становится падчерицей техники и экономики; а технико-экономическое «чрево» цивилизации, напротив, занимает место его разума и сердца. «Низ» и «верх» культуры меняются местами.
Суть же Ноосферы – культуры, состоит в том, что научно-технический прогресс, производство материальных товаров и услуг, политические и финансово-экономические интересы должны быть не целью, а средством гармонизации отношений между обществом и природой, утверждения высших идеалов человеческого существования: бесконечного познания, всестороннего творческого развития и нравственного совершенствования. Как наше земное тело должно служить духу, так экономика и техника должны обслуживать духовную культуру. Только она обеспечивает воспроизводство человека именно как Человека, как духовнонравственного существа.
Соответственно, при определении, относится ли тот или иной предмет, явление к сфере культуры, здесь надо использовать главный критерий: встраивается ли он в гармоничную, иерархическую систему целей и потребностей.
Все это, в свою очередь, позволяет хотя бы контурно, постановочно, определить особенности формирования ценностных оснований экологической культуры. Поскольку экологическая культура является частью общечеловеческой культуры, то, исследуя ценностное ядро культуры в целом, мы приближаемся к решению поставленной в данной статье проблемы.
Кратко стоит напомнить, что вопрос о высших ценностях, Истины – Красоты-Добра – ключевой для философии. После разделения в Новое Время в Европе единого ствола культуры – религии, философии, науки и художественного творчества на самостоятельные и даже часто противопоставляющиеся друг другу ветви, после секуляризации культуры, вопрос об объективном или субъективном характере высших ценностей встал заново. По обе стороны от него сложились две противоположные философско-мировоззренческие линии. Одна полагала, что источником ценностей является сам человек, а, значит, он и определяет их порядок.
Можно в этом случае поставить на первый план ценность комфортности своего телесного существования – это и формирует культ потребления, человека-хищника, эгоиста, для которого природа, например, в лучшем случае «базаровская мастерская», а еще чаще – объект насилия и разграбления. Экологический кризис во многом – результат этого доминирующего мировоззрения. Группа мыслителей: в России это В. Соловьев, П. Флоренский, Н. Лосский, В.Вернадский, а на западе М. Шелер, Н. Гартман, А. Швейцер, Ж. Маритен, Э. Фромм и теолог и антрополог П. Тейяр да Шарден – так или иначе утверждали объективный характер высших ценностей и, главное, их определенный иерархический порядок, ordo amoris. Этот порядок не случаен, и его сознательное принятие упорядочивает и бытие человека в мире. И в рамках этого порядка природа – Жизнь – является ценностью сама по себе.
Можно здесь сделать предварительный вывод относительно формирования экологической культуры на новом историческом этапе. Очевидно, что дальнейшее разделение духовных устремлений, философии, науки и искусства будет являться провоцирующим антидуховное и анти- экологическое мировоззрение, поэтому необходимо на новом уровне осуществить шаги к синтетическому мировоззрению. Очевидно также, что это мировоззрение должно формироваться с опорой на современные мировоззренческие парадигмы – синергетику, глобальный эволюционизм, ноосферную теорию, что позволит раскрыть в новом ключе вопрос об объективном характере Высших ценностей.
Таким образом, в разработке философских оснований экологической культуры можно детализировать главный критерий оценки того или иного явления (программы действий, методик, технологии и пр.): утверждение или отрицание фундаментальных человеческих ценностей – знания, красоты, добра. Отрицание этих ценностей ведет прямо или косвенно и к отрицанию ценности жизни.
Говоря о ценности знания и его преломлении в экологической культуре, надо подчеркнуть, что сейчас часто под знанием понимается просто информация, причем несистематизированная. То, что такое «знание» разъединяет общество и не имеет отношения к знанию как высшей ценности, достаточно очевидно. В западной европейской традиции под знанием чаще всего понималось рациональное научное знание. Как известно, сциентизм полностью отделил ценность такого знания, ценность научной истины от остальных ценностей. Двадцатый век наглядно продемонстрировал, что рациональное знание, оторванное от духовных ценностей, становится выхолощенным и даже опасным, именно оно и ведет человечество к катастрофам, то есть также начинает противоречить не только ценностям добра и красоты, но и самой жизни.
Ценность красоты с каждой эпохой получает все большее философское и даже естественнонаучное обоснование. Еще Н.О. Лосский утверждал, что «любование красотою ... есть сосредоточенность зрителя на объективно ценном, а не наслаждение своим органическим ощущением или своими способностями» [2].
Онтологическую сущность красоты ныне доказывают многие ученые, более того, обосновывают объективные законы, лежащие в ее основе.
Так, В.И. Самохвалова полагает, что поскольку сама природа стремится к повышению уровня гармонической упорядоченности, то красота в искусстве обретает новый смысл – здесь возникает новый антиэнтропийный уровень; красота в ее концепции противостоит энтропии. «В своем творчестве человек как бы продолжает свойственными ему средствами дело организации мира, начатое природой, не только воссоздавая красоту мира, но и творя ее новое бытие... И если до человека гармония и красота возникала лишь как результат стихийно протекающих процессов самоорганизации в природе, то с приходом человека творчество гармонии и красоты становится сознательной и целенаправленной деятельностью его по организации окружающего мира, по утверждению человеческого содержания порядка» [4, с. 7-8].
Таким образом, объективность принципов красоты и гармонии, основанность их на природных законах, неразрывно сближает сами принципы и ценности красоты и знания. О связи же красоты и добра (не доброты, а Добра как высшего духовного принципа) у П.А. Флоренского обнаруживаем весьма красноречивую и глубокую мысль: «Доброта» тут берется в древнем, общем значении, означающем скорее красоту, нежели моральное совершенство, и филокалия значит красото-любие… Аскетика создает не «доброго» человека, апрекрасного, и отличительная особенность святых подвижников – вовсе не их «доброта», которая бывает и у плотских людей, даже весьма грешных, а красота духовная, ослепительная красота лучезарной, светоносной личности, дебелому и плотскому человеку никак недоступная» [6].
Кратко можно показать, как категория добра может обнаружить свою специфи- ку в рамках экологической культуры. В этом плане сделано уже немало. Замечательные работы О. Леопольда, Т. Ригана, Д. Формана стали классическими для разработки экологической этики.
А. Швейцер сформулировал ряд основополагающих аксиом в этой области. Его определение человека разделяющего тезис о благоговении перед жизнью, замечательно дополняет вышеприведенную мысль П.А. Флоренского. А. Швейцер писал о человеке, которого можно было бы считать подлинно экологически культурным: «Все, что случается с этой жизнью, он будет воспринимать, как будто это случилось с ним; он окажет ей самую большую помощь, какую только может; и если ему удастся что-то сделать для сохранения и поддержания жизни, это будет для него величайшим счастьем, которое может выпасть на его долю» [7]. Кроме этого, можно вспомнить замечательное наследие восточной мысли, например, буддийскую и другие традиции сострадания ко всему сущему. В русской православной культуре мощно проявляет себя категория соборности, когда весь мир представляется как единый собор, все части которого сине-ргийно совокупно тянутся к Богу, а его безусловными атрибутами признаются Истина, Красота и Любовь.
Заслуживают особого внимания мысли П.А. Кропоткина о том, что периоды подлинного расцвета в искусстве и науке по преимуществу совпадают с периодами, когда идеи кооперации и сотрудничества внутри человеческого сообщества и человека и окружающей среды выдвигаются на передний план [1].
Другой ракурс преломления ценности Добра касается сферы хозяйственной деятельности человека, который в настоящее время самой этой деятельностью объявил войну Природе. Здесь отечественными мыслителями проделана колоссальная работа. С.Н. Булгаков полагал, что мир должен прообразовываться че- ловеком в художество, П.П. Флоренский, утерждает, что хозяйство есть «...совокупность символов нашего духа» [5].
Приведем мысли эконом-географа П.Н. Савицкого, лидера «евразийцев» научно-философского течения мысли, возникшего в среде русской эмиграции в 30-х годах прошлого века. Он рассматривал подлинно гуманное и подлинно благоговейное перед жизнью хозяйственное мировозздействие человека как продолжение вековых генетических связей «…между растительными, животными и минеральными царствами, с одной стороны, человеком, его бытом и даже духовным миром с другой стороны» [3]. В результате такого отношения к земле – Природе «…к концу производственного цикла хозяин стремится оставить ее в состоянии, не худшей, а по возможности – лучшей, чем то, в котором она вступала в производственный цикл» [3, с. 222].
Обобщая, можно снова утверждать, во-первых, что пока еще разрозненные исследования в самых разных областях постепенно подводят к выводам об объективном характере высших ценностей, а ноосферная парадигма открывает один из возможных путей прояснения онтолого-аксиологического фундамента экологической культуры.
На этой основе могут быть определены антиэкологическая культура – уничтоже- ние природных комплексов, превращение природных ландшафтов в урбанизированные конгломерации; экологическая культура жизнедеятельности (с маленькой буквы), которая включает в себя обычные правила поведения человека: рациональное ведение хозяйства, новые природосберегающие технологии и пр., и, наконец, экологическая Культура как духовно-интеллектуальный, ноосферный базис экологического мировоззрения.
Список литературы Аксиологические основания экологической культуры
- Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса. СПб: Знание, 1997.
- Лосский Н.О.Мир как осуществление красоты. Основы эстетики М.: Прогресс-Традиция, 1998. 256 с.
- Савицкий П.Н. Континент Евразия. М.: 1997. 282 с.
- Самохвалова В.Н. Антиэнтропийный смысл красоты//Дис. на соискание уч. степени д-ра филос. наук. М., 1990.
- Флоренский П.А. Сочинения. М.: Мысль, 2000. 435 с.
- Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М.: Правда, 1990. 99 с.
- Швейцер А. Жизнь мысли. М. Республика, 1996. 138 с.
- Ясвин В.А. Формирование экологической культуры. М.: Акрополь, ЦЭПР, 2004.