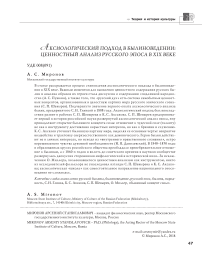Аксиологический подход в былиноведении: ценностный анализ русского эпоса в XIX веке
Автор: Миронов А.С.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (84), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается процесс становления аксиологического подхода в былиноведении в XIX веке. Важным моментом для выявления ценностного содержания русских былин и анализа образов их героев стала дискуссия о содержании «подлинной народности» (А.С. Пушкин), а также того, что «русский дух» есть система самобытных ценностных концептов, организованных в целостную картину мира русского эпического сознания (С.П. Шевырев). Подчеркнуто значение первого опыта аксиологического анализа былин, предпринятого С.Н. Глинкой в 1808 году. Аксиологический подход был впоследствии развит в работах С.П. Шевырева и К.С. Аксакова. С.П. Шевырев предпринимает первый в истории российской науки развернутый аксиологический анализ эпоса, ему принадлежит открытие былинного концепта силы: отношение к чудесной силе (таланту) не как к инструменту достижения корыстных интересов, но как к бремени и служению. К.С. Аксаков уточняет былинную картину мира, выделяя ее основные черты: неприятие волшебства и трактовку сверхъестественного как демонического. Герои былин действуют не в личных интересах, но исходя из «внутреннего нравственного сознания», остро переживаемого чувства духовной необходимости (Н.Я. Данилевский). В 1840-1850 годы в образованных кругах российского общества преобладало пренебрежительное отношение к былинам, а с 1860-х годов и вплоть до советского времени в научном сообществе развернулась дискуссия сторонников мифологической и исторической школ. За исключением О. Миллера, пользовавшегося ценностным анализом как инструментом, никто из исследователей фольклора не унаследовал взгляды С.П. Шевырева и К.С. Аксакова; аксиологическая «школа» как самостоятельное направление национального эпосоведения не сложилась.
Аксиология русской былины, былиноведение, русский эпос, былина, народность, с.н. глинка, к.с. аксаков, с.п. шевырев, о. миллер, "былинный концепт силы"
Короткий адрес: https://sciup.org/144161195
IDR: 144161195 | УДК: 008(091)
Текст научной статьи Аксиологический подход в былиноведении: ценностный анализ русского эпоса в XIX веке
Первое наблюдение касательно ценностей русского эпоса с точки зрения представителя российского образованного общества сделано М. М. Херасковым за три с лишком десятилетия до публикации «Древних российских стихотворений» (1804) в статье, предваряющей его поэму «Чесменский бой» (1772) и рассчитанной на внимание французского и немецкого читателя. Не предпринимая аксиологического анализа былин, Херасков утверждает, что они отражают «грубость сердец» непросвещенного русского народа. Подразумевается не только грубость формы (Херасков сетует на обилие повторений и формальные заимствования «во вкусе восточном»), но и бедность содержания. Последнюю Херасков объясняет тем, что создатели былин «ниоткуда не могли почерпать просвещения» в суровый век, когда «оружия бряцание… глас Муз заглушало» [Le combat de Tzesme. Poeme en cinq chants avec un discours sur la poesie russe composee par M. Cheraskoff. 1772. Цит. по: 3].
Мнение о том, что былины отражают варварские нравы, было распространено среди просвещенных современников Хераскова и опиралось во многом на искаженный образ эпоса, сформированный лубочными «повестями в лицах». Характерно утверждение И. Н. Болтина в его «Примечаниях на историю древния и ны-нешния России г. Леклерка» (1788) о том, что древние «подлые песни» русского простонародья отражают дурной вкус «черни, людей безграмотных» и «бродяг» [4, С. 60].
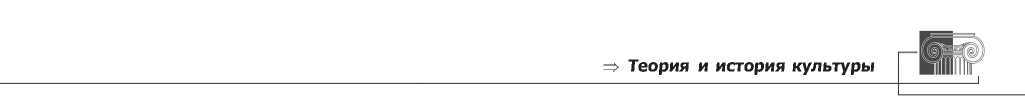
Перелом в восприятии общества был подготовлен «сверху» императрицей Екатериной Великой, которая встала на защиту народных эпических песен: в ее пиесе «Новгородский богатырь Боеславо-вич» (1786) звучит повеление не осуждать «богатырския шуточки и храбрыя замашечки». Однако лишь с начала XIX века российская элита задумывается о том, что эпические песни должно изучать, находя в них отражение самобытных черт народности. В 1801 году в знаменитой речи в Дружеском литературном обществе Андрей Тургенев говорит с сожалением о том, что «в одних сказках и песнях» еще сохраняются «драгоценные остатки русской литературы, в которых мы чувствуем еще характер нашего народа». В 1804 году стихотворный эксперимент, направленный на поиск «русского духа», предпринимает Н. А. Львов – архитектор и поэт, собиратель памятников древнерусской литературы и фольклора, почитаемый биографами как «гений вкуса». Он подготовил, снабдил собственным предисловием и издал знаменитый сборник русских народных песен [7]. В 1808 году С. Н. Глинка публикует разбор издания «Древних русских стихотворений», где сравнивает былинных богатырей с рыцарями Круглого стола короля Артура и даже с героями древней Эллады,– большая смелость по тем временам. Автор разбора находит в «Древних российских стихотворениях» выражение «праотческих наших добродетелей», а также предпринимает первую попытку аксиологического анализа: по мнению Глинки, былина о Соловье Будимировиче свидетельствует о том, что мастерство играть на гуслях и возводить терема «ценились более золота» [5].
М. Азадовский считает наблюдение Глинки «примитивным» анализом, выдержанным «в тонах общего патриоти-чески-охранительного миросозерцания автора». Сегодня, когда научные оценки можно давать без оглядки на «миросозер- цание» ученого, наблюдения С. Н. Глинки в отношении ценностей былинного мира представляются весьма ценными в свете теории культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского и концепции «православной цивилизации» А. С. Панарина. Былинный концепт богатырской силы, включающий не только силу воинскую, даруемую от Бога для исполнения богатырской миссии сострадания, но и силу творческого таланта (её проявляют герои старин о Садке, Вавиле и скоморохах, До-брыне, о сорока каликах), подтверждает теорию Н. Я. Данилевского: русским цивилизационным отличием является то, что герой действует не в личных интересах, но исходя из «внутреннего нравственного сознания» [6, с. 17], остро переживаемого чувства духовной необходимости. Уникальным концептом русской цивилизации (и русского эпического сознания) является отношение к чудесной силе (таланту) не как к инструменту достижения корыстных интересов, но как к бремени и служению. «Былинный» концепт силы может служить доказательством вывода А. С. Панарина об особой «пассионарности» [16, с. 184] русского человека, который дарит свою силу, свой талант – не ожидая ничего взамен, просто по зову сердца, потому что так должно поступить. В такой перспективе не следует недооценивать важность первого опыта аксиологического анализа былин, предпринятого С. Н. Глинкой в 1808 году.
В июне того же 1808 года в поддержку позиции С. Н. Глинки прозвучал голос блистательного профессора А. Ф. Мерзлякова, властителя молодых умов. В своей лекции «Слово о духе, отличительных свойствах поэзии первобытной и о влиянии, какое имела она на нравы, на благосостояние народное» профессор обратился к отечественной науке с призывом предпринять исследование древних народных песен, их самобытного ценностного содержания (тогда это на- зывали «нравами»). «О, каких сокровищ мы себя лишаем, собирая древности чуждые, не хотим заняться теми памятниками, которые оставили знаменитые предки наши! – с сожалением говорил Мерзля-ков.– В русских песнях мы бы увидели русские нравы и чувства, русскую правду, русскую доблесть» [9, с. 14].
Призыв профессора исследовать как нечто ценное особую русскую доблесть, русские нравы и чувства противоречил господствовавшему в сознании русского образованного общества представлению о единственно ценной просвещенной цивилизации (европейской), которой всё русское, «непросвещенное» противопоставлялось как варварское. Одной из книг, укрепивших в таком мнении многих русских, был труд Карла Генриха фон Буссе «Князь Владимир и его Круглый стол. Древнерусские эпические песни» (1819). Автор вводил своих читателей в заблуждение, объявляя свои тексты «переводами» на немецкий: в его книге не было ни одной подлинной былины, лишь перепевы сказок В. Левшина, пересказы летописных эпизодов и баллады А. Х. Востокова «Светлана и Мстислав», а также собственные сочинения. Тем не менее фон Буссе снабжает свою книгу предисловием, в котором судит о различиях ценностной системы русского и западноевропейского эпоса: «В старых сказаниях русских не найти нежного почитания прекрасной дамы, романтической любви, к которым в песнях так светло и трогательно обращаются трубадуры и миннезингеры. Нравы и искусство западного рыцарства, боевой порядок и посвящение в рыцари, гербовые щиты и оруженосцы – напрасно искать их тут. Напротив, нас вводят в самостоятельный круг доблестных соратников, которые, не занимая ничего чуждого, храбро сражаются и обильно пируют» [21].
Заметим, что это «немецкое» представление о русских богатырях как о существах, наделенных только физической силой, но лишенных внутреннего мира и духовных качеств, будет воспринято в России, в частности, В. Г. Белинским. Он писал: «Несмотря на всю скудость и однообразие содержания наших народных поэм, нельзя не признать необыкновенной, исполинской силы заключающейся в них жизни, хотя эта жизнь и выражается, по-видимому, только в материальной силе» [2, с. 463]. Критик полагал, что русскому эпосу не удалось «развить в себе духовного содержания»: «Русь в своих народных поэмах является только телом, но телом огромным, великим, кипящим избытком исполинских физических сил» еще только «жаждущих приять в себя великий дух».
Культурные различия, обусловленные разными системами ценностей русского и германского эпического сознания, фон Буссе полагает следствием исторической «отсталости» русских: «Если на Западе поздние судьбы народов, войны с рыцарскими цитаделями, крестовые походы на Восток, более устойчивое упорядочение дворянства, воспитавшее рыцарство, утончили песни народных поэтов, то в России войны с дикими половцами и печенегами таковое развитие сдержали» [21, s. XII].
Сосредоточенность на любовном интересе и наличие гербовых щитов являются для фон Буссе признаками более «утонченного» эпоса, поскольку уникальные ценностные концепты былины его пониманию недоступны. Впрочем, русские современники фон Буссе испытывали не меньшие трудности с определением самобытных ценностных концептов народной культуры. Дискуссии о подлинной народности захлестнули образованное общество. А. С. Пушкин писал в 1825 году: «…Вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы, но никто и не думал определить, что разумеет он под словом народность» [19, с. 267].
Пушкину не удается написать литературное переложение былины: он трижды берется за сюжет о Бове и единожды – об Илье Муромце («В славной муромской земле…»). Однако поэт отвечает на свой вопрос о сути народности, создавая «Бориса Годунова»,– и это характерно для русского искусства XIX века, вдохновлявшегося «русским духом» на путях творческого освоения отечественной истории, но не былинного эпоса.
В то же время русскими литераторами, художниками и музыкантами активно разрабатывается тема «бытовой» народности, и со временем это становится фактором, затрудняющим интерпретацию эпоса учеными и профессиональным искусством. Народность стали искать и находить не в духе, а в форме: в подробном воспроизведении деталей быта и костюма, в изображении жанровых бытовых сцен, неглубоких «типических» характеров в простонародной среде, а заодно всё чаще – в выявлении пороков общества и социальной несправедливости. Поиск внешних черт русской народности на несколько десятилетий отвлек внимание исследователей и художников от выявления смыслов и ценностей народной культуры, в частности, былин. Пройдет почти сорок лет после лекции профессора Мерзлякова, прежде чем подлинный прорыв к системе аутентичных ценностей эпоса совершит другой профессор Московского университета – С. П. Шевырев.
В 1844–1845 годах профессор Шевы-рев читает курс из 33 лекций по истории русской словесности и много говорит о богатырских песнях. Публика напрасно обращает внимание «только на телесную крепость наших богатырей», герои русских народных преданий не есть «олицетворение одной дикой, грубой, вещественной силы» [20, с. 190], утверждает Шевырев. «Это воззрение односторон-нее»,– настаивает он и впервые формулирует уникальный ценностный концепт духовной силы русских богатырей. Им не свойственны пламенные «личные чувства», они «не заняты оскорблениями личной чести и страстями сердца, как рыцари Запада», но «над всеми личными чертами возвышается в них и господствует одна великая черта, принадлежащая тому народу, который они олицетворяют: самоотвержение».
-
С. П. Шевырев предпринимает первый в истории российской науки развернутый аксиологический анализ эпоса, ему принадлежит открытие былинного концепта силы. Исследователь указывает на миссию сострадания (самоотвержения) как на источник богатырской силы Ильи Муромца («его сила – награда за его милостыню» [20, с. 219–220]).
Шевырев подробно разбирает элементы ценностного центра героя: «Он добрый сын; он бережется напрасной обиды; он не проливает крови Християнской; он щадит даже разбойников; он поднимает оружие только для защиты народа и Веры против врагов и язычества; он, без похвальбы, служит Русской земле; освобождает Чернигов от осады и дорогу к святому городу Киеву – от чернокнижника и разбойника; он не хочет ни холопства разбойников, ни золотой казны побежденных им; он не требует ни земель, ни почестей, ни даров за свои услуги, но сам несетъ дары к стольным Князьям» [20, с. 197].
В период, когда русские ученые1, увлеченные идеями Якоба Гримма о мифологических корнях фольклора, отыскивали в образе Ильи приметы Перуна, Шевырев заявлял, что главный смысл былин ной «биогр афии» Муромца состоит
-
1 См., например, сборники и труды А. Н. Афанасьева («Дедушка домовой», «Ведун и ведьма», «Зооморфические божества у славян», «Несколько слов о соотношении языка с народными поверьями», «Языческие предания об острове Буяне», «Сказка и миф», «Поэтические воззрения славян на природу»), Ф. И. Буслаева («Русский богатырский эпос», комментарии к «Исторической хрестоматии церковнославянского и древнерусского языков»).
в борьбе с этим самым Перуном и другими идолами, в утверждении христианского ценностного концепта – деятельной любви-жалости.
Идеи С. П. Шевырева о русской былине были услышаны далеко за пределами университетской аудитории. Уже через пять лет пространные цитаты из его лекций попадут на страницы новаторского учебника теории словесности, подготовленного академиком И. И. Давыдовым и одобренного департаментом народного просвещения («История словесности. Курс гимназический», 1851). Проект, впервые включивший разбор произведений русского героического эпоса, содержал даже элементы аксиологического анализа былин и знакомил с результатами этого анализа всех гимназистов империи. Впрочем, уже через несколько лет на страницах учебных пособий воцарятся размышления Ф. И. Буслаева и других сторонников мифологической школы.
Тем не менее лекции С. П. Шевырева и учебник И. И. Давыдова взломали негативный стереотип общественного мнения о былинных богатырях. В те времена в российской науке господствовали, по выражению Шевырева, «предубеждения», направленные «против всего народного». Борясь с этими предубеждениями, С. П. Шевырев показывал уникальность ценностной системы русского эпоса: «Позвольте же Илье Муромцу понять семью, месть, правду и милость иначе, нежели понимает их Цид». У Сида совершенно другие представления о мщении, «чувство чести, сознание личных прав своих», отмечает автор лекционного курса. Шевырев предложил убедительный вариант ответа на пушкинский вопрос о том, что есть народность: «русский дух» есть система самобытных ценностных концептов, организованных в целостную картину мира русского эпического сознания.
В 1856 году собственный аксиологический анализ русского эпоса предпри- нимает К. С. Аксаков («Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням»). Исследователь изучает былинную картину мира и выделяет «главные основы Владимирова мира». Это – христианство и начало семейное, «основа всего доброго на земле» [1]. Аксаков отмечает отдельные черты этой картины мира: неприятие волшебства и трактовку сверхъестественного как демонического.
К. С. Аксаков исследует былинный концепт силы и замечает, что «нигде и никогда Илья не испытывает силы, не высказывает ее, не тешится ею, как другие богатыри», потому что сила для русского богатыря – «полезное орудие для добраго дела только; не любит крови его мирная, вовсе не воинственная душа» [1, с. 51]. Наконец, впервые в отечественной науке К. С. Аксаков использует аксиологический подход для получения прикладных результатов: он выявляет испорченную запись былины, которая из-за несоответствия системе ценностей былины не была воспринята народной традицией, однако попала в литературный оборот и воспринималась учеными как аутентичная.
В 1843 году М. Погодин в «Москвитянине» опубликовал запись старины [12, с. 7–16], сообщенную учителем из Шенкурского уезда Никифором Борисовым и якобы записанную «со слов крестьянина» И. А. Ядовиным. В этом варианте Илья насмерть запарывает плетью («о семи хвостах, да с проволокою») Катюшеньку-перевозчицу – на глазах у ее отца, Соловья-разбойника. Причиной жестокой казни становится озвученное Соловьем пожелание, чтобы Катюшенька перевезла Илью через Дунай в обмен на освобождение Соловья. Прибыв в Киев, Илья продолжает изуверствовать: вламываясь к князю Владимиру, он не удовлетворяется количеством вина в чаше и насмерть запарывает плетью всех гостей князя Владимира, включая богатырей святорусских. При этом богатырь «попорачивает»
с боку на бок своих жертв и пеняет им, что его «на приезде не уцествовали». Залив реками крови пиршественный зал, Илья Муромец в этом варианте исчезает, совершенно как некий злой дух:
Илья тут и был, и нет, Нет ни вести, ни повести Ныне и до веку.
Результаты аксиологического анализа этого варианта позволяют К. С. Аксакову сделать вывод: Илья Муромец в этой записи «не тот, каков во всех остальных песнях и рассказах». Действительно, за много десятилетий, прошедших с 1843 года, исследователи не записали ни одного варианта, подобного «богатырской сказке» из Шенкурского уезда, так и не вошедшей в эпическую традицию.
Очевидно влияние Аксакова на диссертацию Л. Н. Майкова («О былинах Владимирова цикла», СПб., 1863), содержащую – впервые в истории былиноведе-ния – развернутый анализ нравственных качеств богатырей. Автор, вслед за Ше-выревым, отмечает «благодушие» Ильи Муромца, его «доверчивость», в том числе по отношению к власти. Майков соглашается с Аксаковым, что подвиги этого героя – не средство достижения личной выгоды и не «бесцельный размах силы», но «защита слабых и угнетенных», Илья «всегда подчиняет свою деятельность началу нравственному и религиозному». Автор диссертации идет дальше своих учителей, предлагая почти полный перечень былинных ситуаций, в которых утверждаются «лучшие нравственные понятия и стремления русского народа» [8, с. 124], включая почитание родителей и «нравственную власть» мужа над женой, умение искренне молиться и сдерживать гнев [8, с. 119].
Майков ограничивается, впрочем, перечнем нравственных ценностей, не пытаясь выявить отразившиеся в былине особенности национального мировоззрения, менталитета; он не указывает на особенные черты русских ценностных концептов – «русской доблести», «русской силы» и др. И все же весь его труд подчинен задаче аксиологического анализа: даже эстетические качества эпоса Майков исследует «как явления духовной и нравственной образованности народа» [8, с. 4].
Открытия Шевырева, Аксакова и Майкова оказывали заметное влияние на современников – впрочем, недолго. В примечаниях к былинам об Илье Муромце составитель «Русской хрестоматии» (1863) А. Г. Филонов приводит замечательно верные наблюдения Аксакова: «В богатыре этом, несмотря на его страшную, вне всякого соперничества, силу, слышится еще более силы духа». Однако в более поздних изданиях учебника идеи Аксакова вытеснены размышлениями Ф. И. Буслаева о разновременных смысловых напластованиях в былинах. Более того, в позднейшие издания хрестоматии А. Г. Филонова проникает упоминавшийся выше нетрадиционный вариант от Никифора Борисова. Возможно, Филонов включает его под влиянием того же Буслаева, поместившего эту нетрадиционную запись в свою «Историческую хрестоматию церковнославянского и древнерусского языков» (1861).
Идею о слоистых смыслах русского эпоса развил эпосовед Орест Миллер («Сравнительно-критические наблюдения над слоевым составом народного русского эпоса. Илья Муромец и богатырство киевское», 1869) [11]. Для того, чтобы группировать эпические смыслы по эпохам, Миллер прибег к аксиологическому анализу былин. Например, к древнему пласту языческих ценностей, «уцелевших от поры мифической», исследователь относит богатство Ильи, «столь противоречащее его позднейшей человечной безсребренности». К разным эпохам
О. Миллер относит «некоторые проявления жестокости», противопоставляя их более поздним «мягким человечным чертам» [11, с. 804].
Оресту Миллеру принадлежит открытие уникального ценностного концепта славы , характерного для русского эпоса: «Илье Муромцу, как мы знаем, и славы-то хочется лишь вообще про богатырей, и то для того лишь, чтобы такая общая слава о богатырстве удерживала насильников от вторжения в Землю Русскую. Таким образом, и эта-то общая слава ему не цель, а лишь средство, как не цель, не искусство ради искусства для него богатырство – опять-таки только средство – для того же самого недопущенья врагов насиловать в Земле Русской» [11, с. 802].
О. Миллер развивает идею русской богатырской силы («силушки»), прежде сформулированную С. Шевыревым, и отмечает, что «в западноевропейском богатырском эпосе… богатырская сила представлялась исключительно доставляющею права , прямо противоположно тому значенью ея у нашего Ильи Муромца, по которому она налагает обязанности » [11, с. 817]. «Илья Муромец … ничего не ищет для себя самого»,– пишет Миллер и поясняет: чудесная богатырская сила «налагает обязанность на того, кто ею владеет, обязанность оборонять вдов и сирот и ту кормилицу их родную мать-землю» [11, с. 803].
На момент написания «Сравнительно-критических наблюдений…» привычка к выявлению «нелепиц» и «порчи» эпоса, укоренившаяся в российских академических и литературных кругах под влиянием Хераскова, Ломоносова, Державина, Грамматина и Шишкова, побуждает О. Миллера выявлять особый слой «варварских», грубых смыслов былины, сохранившихся, по мнению исследователя, от языческой поры «родового строя» («самодурство родительской власти, необузданность домашнего самосуда, на- сильное умыкивание невест» [11, с. 805]). Затем исследователь находит в былинах примеры служения своему народу, бескорыстие, приоритет общих интересов над личными, эгоистическими и относит эти смыслы к ценностному слою золотого века «вольности» поднепровских полян, древнего киевского «земства», которое якобы существовало при почти номинальной власти Владимира и Ярослава Мудрого. По Миллеру, именно Илья Муромец – «истый представитель общины», поэтому «постоянно забывает самого себя».
«Вспышки жестокости» богатырей Миллер объясняет ожесточением народа в период, когда киевское «земство» пало, наступила пора княжеских усобиц и затем «татарщины» [11, с. 804]. Наконец, позднейший период бытования в крестьянской среде Миллер связывает с негативными изменениями в ценностной структуре эпоса, пытаясь выделить слой, связанный с «бытовой», «патриархальной семейной грубостью».
Как можно видеть, аксиологический метод является основным инструментом исследователя. Однако результатом анализа становится представление о ценностном центре былинного героя как о «мертвом» культурном слое противоречивых мотиваций, свойственных различным типам личности, формировавшимся в разное время. Миллер не предполагает, что образ эпического героя может обладать внутренней динамикой, не допускает возможности духовной борьбы, которую ведет богатырь со своими слабостями, грехами, «искушениями» (гневом, хвастовством и др.).
Выявленный С. Шевыревым и подробно изученный О. Миллером былинный концепт чудесной силы как таланта, данного от Бога для ответственной работы передаривания страдающим, вполне соответствует описанию уникального духа славяно-русской цивилизации у Н. Я. Данилевского, выпустившего в 1871 году знаменитый труд «Россия и Европа».
Отличительной чертой славянской цивилизации, по Данилевскому, является то, что в важнейшие моменты жизни человеком движет не личный интерес, но «внутреннее нравственное сознание, медленно подготовляющееся в его духовном организме» и «всецело обхватывающее его, когда настает время для его внешнего практического обнаружения и осуществления» [6, с. 17]. Именно такова мотивация былинного героя: он получает силу и право на победу лишь тогда, когда производит определенную духовную работу в своем сердце – работу любви и сострадания.
-
Н. Я. Данилевский уделяет большое значение этому «психологическому процессу», он описывает его как «внутреннее перерождение», происходящее в душе отдельного человека, переходящего из одного нравственное состояние в другое, высшее. В связи с этим примечательно, что главный психологический конфликт эпоса есть конфликт между частными интересами героя и его призванием, его миссией. Причем эта миссия трактуется не в духе вассальной верности сюзерену или преклонения перед прекрасной дамой, но преимущественно на путях служения ближнему.
По мысли автора «России и Европы», цивилизационными отличиями русских и вообще славян являются, во-первых, приоритет «общинных» ценностей над личными, а во-вторых – «ненасильственность» славянской цивилизации. Олицетворением славянской природы исследователь считает великого князя Владимира в том его образе, который удержан эпосом: «гостеприимный, общительный, веселый, несмотря на свои увлечения, насквозь проникнутый славянским благодушием».
Идеи Н. Я. Данилевского способствовали рецепции подлинных смыслов и ценностей эпоса в науке, педагогике, профессиональном искусстве. С конца 1870-х годов ценностный подход к былинам прослеживается в ряде учебников, в книгах для детского чтения и для простого народа – например, в «Народном сказании» о Добрыне Никитиче (1878), выпущенном редакцией журнала «Мирской вестник» [13].
Добрыня «тяготится своею силою и своим богатырским званием», «не чувствует особенной охоты к проявлению своего богатырства, но никогда не прочь употребить свою силу, если… кто-нибудь нуждается в проявлении этой силы», – пишет анонимный автор этого прозаического пересказа былины. Ценностный подход позволяет рассказчику избрать из множества вариантов эпических песен те, которые соответствуют «русскому духу» – в частности, отказаться от пересказа весьма популярного сюжета, вымышленного Л. Меем [18] (в этом сюжете Алеша оживляет Добрыню живой водой, после чего русские богатыри позорно ретируются перед «силой неведомой»).
Ценностный подход к анализу былин находим также в сборнике пьес Николая Нежаты «В стольном граде Киеве» (1887). Автор в предисловии трактует природу богатырской силы в духе Шевырева и Аксакова: в основе богатырского подвига лежит бескорыстное движение сердца к правде, «героическое подвижничество, свойственное душе человека» [14, с. 6].
Сдержанность, честность и человеколюбие – таковы, по мнению замечательного педагога Льва Поливанова, ценности, утверждаемые в былинах про Илью Муромца. В 1888 году Поливанов подготовил и выпустил в свет сборник былин [17] с объяснениями, предназначенный «для читателей всех возрастов». В комментариях составитель отмечает, в частности, что Илья есть «самый чело- веколюбивый из богатырей. Он помнит завет отца: “Не помысли злом на татарина, не убей в чистом поле христианина”». Поливанов не идеализирует эпического героя, но предпринимает непредвзятый аксиологический анализ: по его мнению, в русском богатыре видны «черты человека, наделенного страстями, увлекающими его подчас за пределы добра».
Аксиологический анализ былин о До-брыне приводит Л. Поливанова к тому, что он замечает у Добрыни чувства «разносторонние, оттенки их тоньше, чем у Ильи Муромца»: «Добрыня прекрасен нравственною красотою иного рода, нежели Илья Муромец», утверждает автор сборника «Русских народных былин». Он выделяет главное для образа Добрыни качество: «задушевность» (доброта, подверженность тоске и своего рода «трусости» (возможности «приужахнуться»).
Следуя за О. Миллером, составитель этого сборника утверждает, что фигуры эпических богатырей «слагались в народной фантазии в течение многих веков» и потому «заключают в себе и нравственные черты различных эпох». Автор другого, не менее популярного сборника фольклорных текстов – историк литературы А. В. Оксенов – идет дальше Л. Поливанова и утверждает, что именно трансляция ценностей, содержащихся в «нравственно-поучительных примерах», является главной задачей былин.
В предисловии к своей хрестоматии «Народная поэзия» (1894) Оксенов подвергает критике позиции не только мифологической, но также исторической школы, господство которой в то время утверждалось в русском эпосоведении. По его мнению, вовсе не «древние языческие верования» и даже не «взгляды народа на свое прошлое, на минувшие события и замечательных деятелей» отразились в былинах, «нравственно-поучительных примерах». По убеждению Оксенова, функцией былин является именно трансля- ция ценностей от поколения к поколению: эпические песни, «передаваемые от предков к потомкам, служили единственным руководством для народа во всех случаях жизни», и таким образом «под влиянием одних и тех же неизменных преданий у народа естественно составлялся одинаковый взгляд на все в мире» [15, с. 5].
Таким образом, А. В. Оксенов вплотную подводит читателя былин к выводу о том, что кажущееся противоречие между положительными и отрицательными качествами вовсе не свидетельствует о наличии в содержании былины противоречивых разновременных смыслов, но, напротив, свидетельствует о целостности картины мира русского эпического сознания. Потому что отражает задачу эпического певца – показать действие духовных законов в душе героя, внутреннюю борьбу и духовный рост богатыря.
Это – одно из важных (и недооцененных) открытий, сделанных не эпосоведом, но историком литературы – на основании результатов ценностного анализа. Другое открытие, сделанное русскими учеными при помощи аксиологического метода, состоит в выявлении специфики ключевых ценностных концептов русского эпического сознания. Это – концепт богатырской силы (и вообще таланта) как бремени и дара, который дается герою от Бога в ответ на способность сострадания, «милостыни», и который необходимо передаривать нуждающимся (С. П. Ше-вырев), а также концепт славы (молвы) как инструмента удержания врагов от нападения (О. Миллер).
Открытия Шевырева и Аксакова, сделанные в свете аксиологического подхода, опередили свое время и были недооценены современниками. В 1840–1850 годы в образованных кругах еще сильно было брезгливое отношение к былинам, а с 1860х годов и вплоть до советского времени в научном сообществе развернулась дискуссия сторонников мифологической
и исторической школ. За исключением О. Миллера, пользовавшегося ценностным анализом как инструментом, никто из исследователей фольклора не унаследовал взгляд Шевырева и Аксакова; «аксиологическая школа» как самостоятельное направление национального эпосоведения не сложилась.
Аргументы ценностного характера недооценивались былиноведами: например, В. Ф. Миллер в «Очерках русской народной словесности» [10, с. 321] пытается доказать, что прототипом эпической княгини Апраксии является историческая, летописная княгиня Евпраксия,– и делает это вопреки тому, что героини ведут себя в нравственном плане противоположным образом.
Вместе с тем поколение бывших гимназистов, которые в 1851–1861 годах учились словесности по учебнику И. Давыдова с цитатами из лекций Шевырева, подарило русской культуре Шервуда, Васнецова, Поленова, Репина, Римского-Корсакова. Это поколение обеспечит, начиная с 1881 года, смену культурной парадигмы и выработку нового русского стиля в искусстве.
Список литературы Аксиологический подход в былиноведении: ценностный анализ русского эпоса в XIX веке
- Аксаков К.С. Богатыри времен великого князя Владимира // Русская беседа. 1856. Т. 4.
- Белинский В.Г. Статьи о народной поэзии // Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Москва-Изд-во АН СССР. Т. V. 1954. С. 463.
- Берков П.Н. Рассуждение о российском стихотворстве: Неизвестная статья М.М. Хераскова / Пер., вступ. ст. и примеч. П.Н. Беркова // Лит. наследство. Москва, 1933. Т. 9-10. С. 287-294.
- Болтин И.Н. Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка. Санкт-Петербург: Тип. Горнаго училища, 1788. Т. 2. 558 с.
- Глинка С.Н. Древние русские стихотворения // Русский вестник. 1808. № 3, 6.