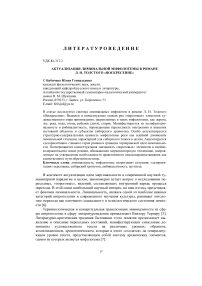Актуализация лиминальной мифологемы в романе Л. Н. Толстого "Воскресение"
Автор: Бабичева Бабичева Юлия
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется система лиминальных мифологем в романе Л. Н. Толстого «Воскресение». Выявлен и концептуально описан ряд «пороговых» элементов художественного мира произведения, закрепленных в таких мифологемах, как дорога, лес, река, вода, огонь, ребенок (дитя), старик. Манифестируется их полифункциональность и амбивалентность, порождающие переходность внутренних и внешних состояний объектов и субъектов сибирского хронотопа. Особо актуализируется структурно-содержательная ценность мифологемы реки как идейной доминанты лиминальной ситуации, характерной для сибирского топоса в целом. Акцентируется «дезориентация» главного героя романа в границах тернеровской идеи лиминальности. Подчеркивается концептуальная значимость «пороговых» элементов в идейносодержательном плане романа, обнажающих морализаторскую тенденцию, направленную на утверждение необходимости нравственного самосовершенствования как единственного пути обретения истины.
Лиминальность, мифологема, пороговая ситуация, дезориентация персонажа, сибирский хронотоп, амбивалентность, антитеза
Короткий адрес: https://sciup.org/148316588
IDR: 148316588 | УДК: 82-312.2
Текст научной статьи Актуализация лиминальной мифологемы в романе Л. Н. Толстого "Воскресение"
В контексте актуализации идеи маргинальности в современной научной гуманитарной парадигме в целом, закономерно встает вопрос о исследовании переходных, «пороговых», явлений, составляющих внутренний каркас процесса перехода. В этой связи наибольший научный интерес, на наш взгляд, представляет феномен лиминальности. Лиминальность, являясь одной из наиболее важных категорий антропологии и современного изучения культуры, развивает онтологию перехода как ключевого социального и психологического состояния личности [6].
Терминологическая и концептуальная транспозиция лиминальности из сферы антропологии в сферу литературоведения принадлежит Виктору Тернеру [3]. Литературно-критическая традиция бытования этого понятия предполагает выявление и описание переходных состояний, манифестирующих смысловые доминанты художественного текста на различных уровнях: образном, композиционном, хронотопическом, которые в итоге «сходятся» на генерализующем уровне текста, представляющем собой систему архаических элементов, одним из которых является мифологема [7].
В этой связи лиминальные компоненты целесообразно рассматривать сквозь призму мифологических структур, лежащих в основании художественного текста. Мифологема - термин, используемый для обозначения мифологических сюжетов, сцен, образов, характеризующихся глобальностью, универсальностью и имеющих широкое распространение в культурах народов мира; это образ, обладающий качествами целостности, содержащий устойчивый комплекс определенных черт. Мифологема содержательно амбивалентна, а ее реализация в художественном тексте - всегда результат сближения универсального культурного опыта и индивидуальных авторских интенций.
Целью данной работы является рассмотрение семантической наполненности лиминальных мифологем в романе Л. Н. Толстого «Воскресение», представляющем собой в его третьей части яркий образец «сибирского интертекста» [5].
Как известно, в основании сибирского мифа лежат две сакральные архаичные мифологемы - рая и ада [2]. Подобная изначальная двуполюсность и создает, на наш взгляд, лиминальность сибирского хронотопа, сквозь призму которого и рассматривается концептуальная составляющая третьей части романа «Воскресение». Кроме того, хронотопические характеристики Сибири подчеркивают ее «отдельность», иномирие, усиливая тем самым пороговость топоса: «А мы думали, что вы уже совсем в Россию уехали, - сказала она» [4]. Это замечание в адрес героя романа обнажает идею о том, что «Сибирь не Россия». Антитеза «Сибирь -Россия», таким образом, приобретает ценностную окраску в идейных границах произведения, развенчивающего порочную систему, характерную для всей политической и моральной обстановки самодержавной России того времени. Именно «Не совсем Россия» - лиминальное, по сути, пространство - становится местом личностных поисков и духовных обретений персонажей романа.
В этом отношении целесообразно говорить о системе «пороговых» элементов, проявляющихся на различных уровнях художественного текста. Прежде всего, актуализирована предметная «переходность», подчеркивающая размытость, в частности, природно-климатического компонента: «Было раннее сентябрьское утро. Шел то снег, то дождь с порывами холодного ветра» «Погода переменилась …» [4]. Мифологема дождя традиционно амбивалентна: падающие с небес капли воды становятся не только символом возрождения и жизненных сил, но и разрушения и возмездия, усиливающегося сопряжением с образом снега и холодного ветра, рождающего симбиоз смешанных коннотаций. Состояние окружающей среды ярко передает внутреннее состояние героев, готовящихся к духовной реинкарнации.
Важно отметить, что само перемещение по сибирскому локусу представляется подобием нисхождения в преисподнюю, не лишенном, однако, света: «Пройдя площадь с церковью и длинную улицу с ярко светящимися окнами домов, Нехлюдов вслед за проводником вышел на край села в полный мрак. Но скоро и в этом мраке завиднелись расходившиеся в тумане лучи от фонарей, горевших около этапа ...» [4]. В данном контексте очевидна актуализация идеи лиминальности: обретение себя «нового» невозможно без умирания; образ света во тьме традиционно позиционируется как обретение надежды и веры, что в границах христианской идеи романа представляется знаковым.
Лиминальность хронотопических элементов порождается антитетичностью предметного мира романа: «Дорога, вся изрытая глубокими колеями, шла темным хвойным лесом, пестревшим с обеих сторон яркой и песочной желтизной не облетевших еще листьев берез и лиственницы» [4]. Символика леса как образа хаоса, подкрепляемая в данном контексте соответствующими эпитетами, коррелирует с космогоническим сюжетом о рождении мира из небытия. Контраст цветописи органичен состоянию путника, переживающего духовный «переход».
Репрезентативна и одна из основополагающих пространственных мифологем - мифологема дома: «Мрачный дом острога с часовым и фонарем под воротами, несмотря на чистую, белую пелену, покрывавшую теперь все - и подъезд, и крышу, и стены, производил еще более, чем утром, мрачное впечатление своими по всему фасаду освещенными окнами»; «Во всех трех домах теперь светились огни, как всегда, в особенности здесь, обманчиво обещая что-то хорошее… » [4]. Образ огня, сквозь призму которого семантически раскрывается мифологема дома, в классической мифологической традиции полифункционален и часто демонстрирует тонкую грань между жизнью и смертью, а в контексте идейной нагрузки романа - между ложными представлениями о жизни и обретением истины. Кроме того, данный пример явственно передает «тернеровскую» идею о «неопределенности» героя в границах лиминальности. Отсюда контекстуальная оксюморонность самих предложений. Герой, с одной стороны, видит воочию вполне традиционные образы сибирского острожного мира, но ощущает их внутренне в ином контексте.
Дезориентация персонажа манифестируется и в неразличенности внутренних ощущений в восприятии окружающего мира: «Оба эти впечатления - гул голосов с звоном цепей и этот ужасный запах - всегда сливались для Нехлюдова в одно мучительное чувство какой-то нравственной тошноты, переходящей в тошноту физическую. И оба впечатления смешивались и усиливали одно другое» [4].
Ядровым компонентом в системе предметной лиминальности сибирской мифологемы служит образ реки, которая выступает наиболее ярким символом пороговости - границы жизни и смерти: Нехлюдов «подъехал к реке, через которую переезд был на пароме. Паром был на середине быстрой реки и шел с той стороны. <…> Быстрая, широкая река хлестала в борта лодок парома, натягивая канаты» [4]. Вода является одной из фундаментальных стихий мироздания, элементом сакральной топографии. Традиционно река представляется разновидностью пути, а переправа через реку - символом завершения важного дела и приобретения новых качеств [1]. Неслучайно Нехлюдову именно на пароме являются в памяти антитетичные образы - бодро шедшей Масловой и умирающего Крыльцова, порождающие в нем пороговые чувства непреодолимой тяжести.
Знакова и встреча на пароме с лохматым стариком, никому не верящим, кроме себя: «Вер много, а дух один. И в тебе, и во мне, и в нем. Значит, верь всяк своему духу, и вот будут все соединены. Будь всяк сам себе, и все будут заедино» [4]. Этот тезис становится «пороговым» в утверждении истиной веры в герое. Духовное обретение приходит к Нехлюдову в пространстве лиминальности: перемещение на пароме по сибирской реке ассоциируется с идеей невозвращения, связанной с функцией проводника душ в загробном мире и манифестируемой в контексте романа как уход от ложных ценностей. Старик, подобно Христу, проповедует единство и равенство всех людей перед Богом, которое предполагает соблюдение заповедей всеми без исключения людьми. Это тот путь, на который и встает впоследствии герой. Таким образом, пространство реки связывается с мотивом обретения истины.
Мифологема воды фигурирует и в финале исканий Нехлюдова: «Он не спал всю ночь и, как это случается со многими и многими, читающими Евангелие, в первый раз, читая, понимал во всем их значении слова, много раз читанные и незамеченные. Как губка воду , он впитывал в себя то нужное, важное и радостное, что открывалось ему в этой книге» [4]. Здесь вода предстает как символ очищения и возрождения.
Восприятие Евангелия тоже лиминально в основе своей и продолжает идею дезориентации героя в ситуации переходности: «Как жалко, что это так нескладно, – думал он, – а чувствуется, что тут что-то хорошее » [4]. И только дочитав до идеи всепрощения, почерпнув простую истину, герой преодолевает лими-нальное состояние: «Нехлюдов уставился на свет горевшей лампы и замер. Вспомнив все безобразие нашей жизни, он ясно представил себе, чем могла бы быть эта жизнь, если бы люди воспитывались на этих правилах, и давно не испытанный восторг охватил его душу. Точно он после долгого томления и страдания нашел вдруг успокоение и свободу» [4]. Показательно, что Нехлюдов открывает Евангелие от Матфея на главе 18 и в части, где Иисус «призывает дитя». Образ ребенка пересекается с мыслью о рождении, вернее, возрождении души («если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное») [4] . Этот тезис манифестирует преодоление «пороговости».
Идея лиминальности, таким образом, сопрягается с идеей возрождения (воскресения), поскольку лиминальность часто уподобляется смерти, утробному существованию. В этой связи коннотации, связанные с рецепцией сибирского локуса, приобретают антиномичное звучание, поддерживая идею амбивалентности мифологемы, подкрепляя идею двуполюсности сибирского локуса.
Таким образом, система лиминальных мифологем, реализуемых в художественном пространстве романа, позволяет актуализировать морализаторскую тенденцию произведения, сводящуюся к проповеди нравственного самосовершенствования как единственного средства борьбы со злом, продемонстрировать сложный путь обретения истины, граничащий с универсальной идеей об умирании и последующем возрождении.
Список литературы Актуализация лиминальной мифологемы в романе Л. Н. Толстого "Воскресение"
- Лобова О. Л. "Акши светлая струя". (символический образ русской реки в поэтическом дискурсе) [Электронный ресурс] // Молодой ученый. - 2016. - № 11.2. - С. 74-77. URL: https://moluch.ru/archive/115/30782/ (дата обращения: 10.02.2019).
- Собенников А. С. Миф о Сибири в творчестве А.П. Чехова ("Очерки из Сибири") [Электронный ресурс]. URL: http://mion.isu.ru/filearchive/mion_publcations/sbornik_ Sib/5_8.html (дата обращения: 10.02.2019).
- Тернер В. Ритуал и символ. - Москва: Наука, 1983. - 277 с.
- Толстой Л. Н. Воскресение [Электронный ресурс]. URL: https://ilibrary.ru/text/ 1462/p.102/index.html (дата обращения: 10.02.2019).
- Тюпа В. И. Мифологема Сибири: к вопросу о "сибирском тексте" русской литературы // Сибирский филологический журнал. - 2002. - № 1. - С. 27-35.
- Фусу Л. И. Концепции лиминальности в научном дискурсе как междисциплинарная проблема [Электронный ресурс] // Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being. 2017, Vol. 6, Is. 3A. URL: http://www.publishing-vak.ru/file/archive-philosophy-2017-3/22-fusu.pdf (дата обращения: 10.02.2019).
- Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов / пер. с англ. - Киев: Гос. библиотека Украины для юношества, 1996. - 384 с.
- Ratiani I. The Theory of Liminality. The Problem of Anthropology and Contemporary Literary Criticism [Электронный ресурс]. URL: http://irmaratiani.ge/sammarruss-01.htm (дата обращения: 10.02.2019).