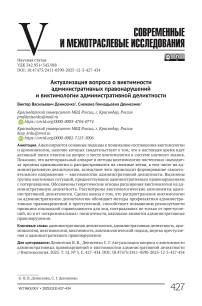Актуализация вопроса о виктимности административных правонарушений и виктимологии административной деликтности
Автор: Денисенко В.В., Денисенко С.Г.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Современные и межотраслевые исследования
Статья в выпуске: 3 т.12, 2025 года.
Бесплатный доступ
Анализируются основные подходы к пониманию соотношения виктимологии и криминологии, наличие которых свидетельствует о том, что в настоящее время идет активный поиск ответов на вопрос о месте виктимологии в системе научного знания. Показано, что категориальный аппарат и методы виктимологии постепенно «выходят» за пределы криминологии и распространяются на смежные ветви, в том числе на административную деликтологию, вследствие чего происходит формирование самостоятельного направления - виктимологии административной деликтности. Выделены группы виктимных ситуаций, предшествующих административным правонарушениям с потерпевшими. Обозначены теоретические основы расширения виктимологии на административную деликтность. Рассмотрены виктимологические компоненты административной деликтологии. Сделан вывод о том, что распространение виктимологии на административную деликтологии обогащает методы профилактики административных правонарушений и преступлений, способствует повышению реализуемости принципа социальной справедливости для лиц, пострадавших не только от преступлений, но и от «некриминальных» посягательств, каковыми являются административные правонарушения.
Административная деликтология, административная деликтность, криминология, виктимология, виктимность, виктимологический подход, жертва преступления и административного правонарушения
Короткий адрес: https://sciup.org/14133990
IDR: 14133990 | УДК: 342.951+343.988 | DOI: 10.47475/2411-0590-2025-12-3-427-434
Текст научной статьи Актуализация вопроса о виктимности административных правонарушений и виктимологии административной деликтности
В соответствии с традиционными представлениями проблемой изучения потерпевших от преступлений занимается такая отрасль криминологии, как виктимология — учение о жертве преступления [11, c. 101]. Такой вывод не без оснований базируется на изучении истории возникновения и содержания учения виктимологии, подробно изложенных в работах Л. В. Франка [12] и Д. В. Ривмана [10]. В литературе представлено мнение о том, что существуют две точки зрения на соотношение виктимологии и криминологии. Одна сводится к тому, что виктимология — это отдельная самостоятельная научная дисциплина, выступающая как вспомогательная для криминологии, криминалистики, уголовного права и уголовного процесса. Другая — виктимология есть новое относительно самостоятельное направление, развивающееся в рамках криминологии [8, c. 50]. Однако есть и иные мнения, свидетельствующие о существовании трех основных подходов к пониманию места виктимологии в системе научного знания, суть которых состоит в том, что:
– «виктимология является вспомогательной (обслуживающей) наукой по отношению к уголовному праву;
– виктимология является самостоятельной наукой и выступает общей теорией учения о жертве;
– виктимология — это отрасль криминологии или частная криминологическая теория, развивающаяся в ее рамках» [1].
Наличие разных подходов свидетельствуют о том, что в настоящее время идет активный поиск ответов на вопрос о месте виктимологии в системе научного знания. При этом нельзя не согласиться с высказанным немногим более десяти лет назад мнением о том, что «истинное место вик-тимологии как учения о жертве в системе российской науки до конца еще не определено, и в перспективе она может предстать в несколько ином виде, чем представляется сейчас» [6, c. 10]. В подтверждение справедливости вышеназванного мнения отметим появление работ, в которых исследуются виктимологический аспект новой криминологии [3, c. 6–10], тенденции и перспективные направления развития современной криминологической викти-мологии [4, c. 5–15], состояние науки вик-тимологии, ее перспективы и специфика проводимых виктимологических исследований [5, c. 690–693]. Обратимся внимание и на подход, сводящийся к рассмотрению криминальной виктимологии в качестве междисциплинарной превентивной теории [2, c. 137–147].
Основное исследование
Среди направлений исследований, входящих в сферу научных интересов авторов, административно-деликтные отношения, квалификация административных правонарушений, соотношение административной и уголовной ответственности, вопросы разграничения административных правонарушений и преступлений, административно-правовые средства профилактики преступности. Это позволяет нам утверждать, что имеет место значительный массив противоправных деяний, в основе совершения которых лежат одни и те же причины, однако в зависимости от наступивших последствий, одни из них будут квалифицированы как преступления, другие — как административные правонарушения.
Но если существует виктимность применительно к тому или иному преступлению, то логично утверждать, что подобная виктимность будет присуща и применительно к административным правонарушениям, имеющим смежные с преступлениями составами, например, хулиганство и мелкое хулиганство, кража и мелкое хищение и др. Признание справедливости такой точки зрения обусловливает не только допустимость, но и целесообразность распространения учения виктимологии на административную деликтность в целом и на конкретные административные правонарушения.
Изначально виктимология изучала жертву в рамках уголовно-правовой реакции, то есть главным объектом были потерпевшие от преступлений. Сегодня ее категориальный аппарат и методы постепенно «выходят» за пределы криминологии и распространяются на смежные ветви, в том числе на административную деликтологию (науку о непреступных правонарушениях) и само явление административной деликт-ности (массива административных правонарушений). Тем самым формируется самостоятельное направление — виктимология административной деликтности.
То обстоятельство, что совершению административных правонарушений зачастую предшествует виктимность, т. е. повышенная предрасположенность человека стать жертвой административного правонарушения, для нас является очевидным фактом. При этом поведение потерпевшего в ситуациях, которые предшествуют совершению административного правонарушения, по своей направленности схожи с поведением потерпевшего от преступления, имеющего смежный состав. В этой связи выделим несколько групп виктимных ситуаций.
К первой группе отнесем ситуации, когда действия потерпевшего носят провоцирующий характер либо сопряжены с аморальным поведением, что потенциально может выступить поводом к совершению в его отношении насилия. В частности, такая ситуация может быть характерна для побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ и ст. 116 УК РФ).
Ко второй группе отнесем ситуации, когда действия потерпевшего носят неосторожный характер и создают благоприятные условия для совершения административного правонарушения, например, оставление без присмотра вещей, которые могут стать предметом мелкого хищения (ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158.1 УК РФ) либо кражи (ст. 158 УК РФ).
Третья группа охватывает ситуации, когда действия потерпевшего правомерны, но, несмотря на это, вызывают противоправное поведение –делинквент. Например, в ответ на правомерное требование прекратить шуметь в общественном месте, в отношении лица, сделавшего замечание, может быть совершено как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), так и хулиганство (ст. УК РФ).
В отдельную группу может быть выделена профессиональная виктимность [7, c. 119–133; 9, c.34–45]. Например, сотрудники полиции, не соблюдающие в должной мере необходимые меры предосторожности либо демонстрирующие неуверенность в себе, могут пострадать в случае оказания нарушителем неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).
Приведенные примеры, на наш взгляд, способствуют постановке вопроса о практической возможности распространении положений виктимологии на административную деликтность.
Теоретические основы расширения виктимологии могут быть выражены посредством ряда аргументов, позволяющих объективно оценить, что меняется при ее выходе за рамки уголовного права.
Во-первых, объект противоправного посягательства дополняется жертвами административных правонарушений, которые становятся таковыми в связи с совершенными мелкими хищениями, экологическими нарушениями, нарушениями в области рекламы, дорожно-транспортными происшествиями, сопряженными с причинением легкого вреда здоровью и т. д.
Во-вторых, расширяется круг субъектов противоправного посягательства. Помимо граждан, жертвами признаются юридические лица, органы государственной и муниципальной, т. е. публичной власти. При этом расширение идет в направлении «неопределенного круга лиц».
В-третьих, учитываются новые детерминанты виктимности, а именно исследуются факторы повышенной «административной виктимности», включая правовую неграмотность населения в сфере административно-деликтных отношений, низкую социальную мобильность, информационную асимметрию, «организационный риск» предприятий.
В-четвертых, к традиционному уголовному методу victim survey (обследование жертв) добавляются опросы потерпевших по делам об административных правонарушениях, анализ жалоб в органы государственной власти, прежде всего в Роспотребнадзор и Госавтоинспекцию, а также статистика по делам об административных правонарушениях.
В дополнение к вышеназванным аргументам обратим внимание на обстоятельство, которое никем не подвергается сомнению и суть которого в том, что объем административных правонарушений кратно превышает преступность, а потому без учета жертв этой сферы профилактика правонарушений в целом остается неполной.
Виктимологический компонент административной деликтологии может быть очерчен рядом характеристик.
Прежде всего он проявляется через классификацию «жертв административного правонарушения». Таковыми могут выступать:
– индивидуальный субъект, например, гражданин, которому в рамках административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, причинен легкий вред либо имущественный ущерб;
– коллективные субъекты, например пассажиры маршрутки, водитель которой нарушил правила дорожного движения; жители «шумного» дома и др.;
– публичные субъекты, в частности государство как потерпевшая сторона от налоговых и лицензионных правонарушений.
Следующий виктимологический компонент может быть представлен через процессуальный статус потерпевшего. В ст. 25.2 КоАП РФ закреплены права потерпевшего: знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайства, требовать возмещения вреда и т. д. Виктимологический подход обусловит наступление такого практического следствия, при котором органы, возбуждающие дело об административном правонарушении, будут обязаны своевременно признавать лицо потерпевшим и учитывать его процессуальные интересы.
Что касается виктимологической профилактики административной деликтно-сти, то она может иметь различную направленность:
-
а) коммуникативную (памятки Госавтоинспекции, Роспотребнадзора и др.);
-
б) организационную (страхование гражданской ответственности водителей, внутренние регламенты предприятий и др.);
-
в) правовую (упрощенные процедуры компенсации мелкого ущерба, например, европротокол при ДТП, и др.).
Обратим внимание и на такой аспект, как оценка вклада потерпевшего в результате административного правонарушения. Как и в уголовной сфере, в административно-деликтной сфере важное значение приобретет анализ степени «самовикти-мизации», например, нарушение ПДД пешеходом, отказ потребителя от усиленной проверки товара, что может способствовать более точному выбору меры административной ответственности правонарушителя и профилактики конкретной группы административных деликтов.
Рассмотрение административной де-ликтности через жертвоведческий угол зрения, т. е. сквозь призму виктимологии, может существенно расширить представления о структуре, динамике, причинах и последствиях административной деликтности.
Так, все составы административных правонарушений можно условно разделить на составы «с жертвой» (шум, мелкое хищение, ДТП) и «без явно выраженной индивидуальной жертвы» (лицензионные, миграционные правонарушения). Такое деление может иметь практическое значение для расстановки приоритетов контроля.
Представления о динамике административной деликтности также станут более точными. Victim surveys фиксируют латентность противоправных деяний (необраще-ние в органы) и позволяют оценить реальный, а не только регистрируемый объем правонарушений.
При анализе причин и условий совершения административных правонарушений виктимологический подход позволит оценивать не только мотив нарушителя, но и учитывать типичные поведенческие, информационные и инфраструктурные уязвимости жертвы, т. е. потерпевшего в результате административного правонарушения.
Виктимологический подход по-иному, более полно позволит оценить и последствия административной деликтности. В частности, будут учитываться не только поступления от уплаченных административных штрафов, но также и совокупный материальный, моральный и репутационный вред для потерпевших и государства.
В основе рассмотренного нами подхода позиция, согласно которой административная деликтология должна оперировать не только категорией «административный правонарушитель», но и категорией «потерпевший» как равноправным элементом модели «нарушитель — жертва — контроль».
Практические эффекты «виктимизации» административного права, на наш взгляд, достаточно очевидны. Справедливость данного вывода проиллюстрируем примерами мер, рожденных victim-подходом для конкретных сфер жизнедеятельности. В области дорожного движения таковые меры могут быть представлены выделенными полосами и защитными ограждениями для пешеходов — «жертв» мелких ДТП, административными штрафами, зафиксированными камерой, с автоматическим уведомлением в дальнейшем потерпевшего. На потребительском рынке позитивно использование презумпции компенсации двойного ущерба при мелких недобросовестных офертах; расширения срока представления претензии. В сфере экологии — установление и внедрение «счетчика «экологического вреда» в расчете на население как коллективного потерпевшего, и, как следствие, обоснование повышенных штрафов для предприятий-нарушителей. В жилищно-коммунальной сфере установление практики назначения административного штрафа подрядчику с одновременной выплатой пострадавшим соседям при затоплении, даже без подачи гражданского иска.
На наш взгляд, распространение вик-тимологии на административную делик-тологию и административную деликтность имеет ярко выраженные научные и нормативные перспективы.
Прежде всего выделим концептуальную составляющую, сопряженную с созданием раздела «административная виктимоло-гия» в общих курсах деликтологии. Наряду с этим корректировка затронет разделы статистики, посредством включения в формы Росстата графы «количество потерпевших» по видам административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ.
Изменения проявятся и на уровне законодательство, в котором найдет отражение развитие механизмов быстрой компенсации вреда в производстве по делам об административных правонарушениях, по аналогии с уголовным процессом.
Формирование «административной виктимологии» затронет также и сферы образования и тренинга и, как следствие, будет способствовать повышению квалификации должностных лиц контрольнонадзорных органов с акцентом на работу с потерпевшими.
Заключение
Распространение виктимологии на административную деликтологию сдвигает фокус с абстрактного «нарушителя нормы» к конкретному «потерпевшему от административного правонарушения». Это развивает теорию права за счет расширения предмета административной делик-тологии, обогащает методы профилактики и повышает социальную справедливость, поскольку учитывает реальные интересы лиц, пострадавших не только от преступлений, но даже от «некриминальных» посягательств, каковыми по сути и являются административные правонарушения.