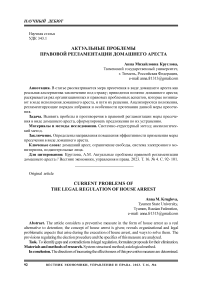Актуальные проблемы правовой регламентации домашнего насилия
Автор: Круглова А.М.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Научный дебют
Статья в выпуске: 4 т.16, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается мера пресечения в виде домашнего ареста какреальная альтернатива заключению под стражу; приводится понятие домашнего ареста; раскрывается ряд организационных и правовых проблемных аспектов, которые возникают в ходе исполнения домашнего ареста, и пути их решения. Анализируются положения, регламентирующие порядок избрания и особенности протекания данной меры пресечения. Задача. Выявить пробелы и противоречия в правовой регламентации меры пресечения в виде домашнего ареста, сформулировать предложения по их устранению. Материалы и методы исследования. Системно-структурный метод; аксиологический метод.
Домашний арест, ограничение свободы, система электронного мониторинга, подконтрольные лица
Короткий адрес: https://sciup.org/142240055
IDR: 142240055 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Актуальные проблемы правовой регламентации домашнего насилия
Введение меры пресечения в виде домашнего ареста в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ) было обусловлено тем, что Россия взяла путь на гуманизацию, для этого было необходимо снизить количество назначенных мер пресечения в виде заключения под стражу в следственном изоляторе (далее -СИЗО). Домашний арест стал альтернативой заключения под стражу, но также ограничивал одно из главных прав человека -это право на свободу передвижения.
Совершенно очевидно, что направления развития уголовно-исполнительной политики в сфере гуманизации, изложенные в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 г. (далее - Концепция) реализуются, однако проблемы практического характера в вопросах исполнения наказаний и мер уголовноправового характера, а также мер пресечения никуда не исчезли. Более того, ввиду увеличившейся нагрузки на УИИ исполнение домашнего ареста перестало быть эффективным, контроль по месту проживания (регистрации) осуществляется все реже, в некоторых случаях и вовсе не происходит, лиц к домашнему аресту в 38% случаев привлекают к административным штрафам за различные проступки, что свидетельствует о том, что они вопреки запретам покидают место жительства (регистрации), тем самым нарушают установленный порядок отбывания меры пресечения.
Указанное свидетельствует о наличии практических проблем исполнения такой меры пресечения, как домашний арест.
Материалы и методы исследования
Изменившаяся сущность домашнего ареста, а конкретно ст. 107 УПК РФ, после вступления в силу Федерального закона от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ требует более глубокого теоретико-правового и организационного анализа порядка исполнения исследуемой меры пресечения для выделения проблем и поиска путей их решения. И если ранее к подозреваемому или обвиняемому допускалось на выбор применение частичной или полной изоляции от общества, то сейчас домашний арест подразумевает собой строгую изоляцию лица. Ряд обозначенных проблем требуют подробного исследования, всестороннего рассмотрения и выявление пробелов законодательства для своевременного разрешения найденных проблем. Не менее актуальной тему делает путь УПК РФ к гуманизации мер пресечений. На это указывает введение в систему такой меры пресечения, как запрет определенных действий и усовершенствование домашнего ареста, делая его фактически полной альтернативой заключению под стражу.
Статус Конституции РФ как источника обладателя высшей юридической силы на территории нашей страны1 и закрепление в ней норм о правах и свободах человека оказывают прямое воздействие на регулирование общественных отношений .
Конституция гарантирует неотчуждаемые права и свободы каждому человеку с момента его рождения. В свою очередь следующая статья 18 Конституции Российской Федерации регламентирует, что права и свободы являются непосредственно дей- ствующими. Данное конституционное положение означает, что деятельность правоохранительных органов направлена не только на раскрытие преступлений, а но и на обеспечение гуманного отношения к лицам, которые нарушили отечественный закон. Законные и гарантированные права и свободы не прекращают быть объектами внимания и заботы страны даже после нарушения лицом норм законодательства. Соответственно, в Российской Федерации есть нормы, которые как раз-таки определяют допустимые и гуманные пределы их ограничения.
Российское уголовное судопроизводство предполагает применение мер процессуального принуждения, в качестве которых принято понимать средства предупреждения возможных нарушений уголовно-процессуального законодательства и обеспечения нормального хода производства по уголовному делу [3, с. 308].
На сегодняшний день в отношениях, возникающих в сфере уголовного процесса, среди ключевых элементов - меры пресечения, одной из которых является домашний арест [7, с. 129].
Домашний арест в УПК РФ - альтернатива заключению под стражу [2]. Это и является прямым доказательством гуманизации права и показывает вектор права на уважение прав и свобод лиц, совершивших преступление, даже несмотря на то, что нормы применения домашнего ареста не до конца доработаны, что вызывает большие трудности у правоприменителей [2, с. 28].
Федеральным законом от 18.04.2018 № 72-ФЗ введена новая мера пресечения - запрет определенных действий, которой в УПК РФ посвящена ст. 105.1. Этот же закон изменил редакцию статьи 107 УПК РФ о домашнем аресте. Такое изменение коснулось степени изоляции лица от общества. Ранее изоляция могла быть частичной, сейчас же обвиняемому или подозреваемому грозит полная изоляция от общества2. Также новая редакция статьи предполагает обязательное установление запретов. Соединив в одной норме две меры пресечения, законодатель фактически изолировал подозре-ваемого/обвиняемого, в том числе пользоваться связью и Интернетом. Таким образом, с данной новеллой произошел отход от принципа избрания только одной меры пресечения.
Один из первых отзывов на изменение указывал, что домашний арест как мера пресечения стал строже и жестче из-за полной изоляции от общества, а возможные ограничения сменились на полный их запрет [2, с. 28].
Действующий в настоящий момент уголовно-процессуальный закон ставит домашний арест на второе по строгости место в системе мер пресечения по УПК РФ, где наиболее строгой мерой является заключение под стражу [8, с. 86]. Стоит отметить и то, что «арестом» такую меру пресечения назвать можно лишь условно, потому что те условия, где находится лицо под домашним арестом, являются наиболее комфортными для удовлетворения естественных прав человека.
Домашний арест как мера пресечения включен в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в качестве альтернативы заключению под стражу. Это и является прямым доказательством гуманизации права и показывает вектор права на уважение прав и свобод лиц, совершивших преступление.
Таким образом, домашний арест - это выбранная в отношении подозреваемого или обвиняемого судом мера пресечения, которая связана с полной изоляцией от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях или, при необходимости, лечебном учреждении, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.
В научной литературе достаточно часто встречаются ошибочные определения понятия «домашний арест», которые были актуальны до вступления в силу изменений от 18.04.2018 года [1, с. 72].
Домашний арест занимает второе место по строгости в системе мер пресечения российского уголовно-процессуального права, особое место в системе мер пресечения, где более мягким является залог, а более строгим - заключение под стражу.
Домашний арест - альтернатива заключению под стражу. Это является доказательством гуманизации права и указывает на уважение прав и свобод лиц, совершивших преступление, т.к. те условия, в которых находится лицо под домашним арестом, являются наиболее оптимальными для удовлетворения естественных прав человека.
Тем не менее в современном правовом поле наблюдается ряд проблем в применении домашнего ареста.
Рассматривая проблемы домашнего ареста, в первую очередь можно выделить нарушение конституционных прав лиц, которые живут совместно с обвиняемым или подозреваемым, помещенным под домашний арест.
Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06. 2020) в п. 38 сказано о том, что если совместно проживающее лицо выступает против помещения под домашний арест лица, совместно проживающего с ним, есть возможность обжаловать данное решение3. Но в законе не сказано прямо о том, необходимо ли согласие совместно проживающих лиц на выбор данной меры пресечения.
Так, в отношении подозреваемого в совершении преступления по факту хищения либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием своего служебного положения постановлением Сыктывкарского суда выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По материалам дела следует, что на судебном заседании была допрошена хозяйка квартиры - мать гражданской жены обвиняемого. Она высказалась о согласии нахождения данного лица в ее квартире под домашним арестом4.
Ряд авторов отмечают, что конституционное право на семейную тайну может быть ограничено не только подозреваемым или обвиняемым, но и ограничить конституционные права на это совместно проживающим лицам [10, с. 84]. Данный вопрос является дискуссионным и в европейском праве [4, с. 223].
Для решения данной проблемы необходимо дополнить законодательство требованием о выяснении мнения собственника жилья, т.е. согласие или несогласие с данным решением суда.
Следующей практической проблемой является неурегулирование вопроса о том, можно ли кратковременно отменить наложенные на обвиняемого или подозреваемого запреты и ограничения. Например, в случае смерти родственника может ли следователь или дознаватель без изменения меры пресечения на краткосрочный период отменить запрет не покидать место жительства. Необходимо выяснение факта использования нормативного акта, регулирующего воз- можность это сделать. На данный вопрос законодатель не дает ответа. Для устранения этого пробела необходимо усовершенствовать законодательство в этой области [6, с. 134].
Также имеется ряд проблем с материальными аспектами по применению домашнего ареста. Для существования человеку необходимо ходить на работу, чтобы получать заработную плату, покупать продукты, одежду. Для обвиняемого или подозреваемого в следственном изоляторе предоставляется ежедневная еда, при необходимости одежда, тогда как при домашнем аресте лицо обязано само себя финансировать, при том, что ему запрещено посещать работу. Стоит вопрос о его существовании, потому что у подозреваемого или обвиняемого пропадает источник заработка. В современных реалиях, где у многих людей есть работа в сети Интернет, суд, накладывая запрет на пользование Интернетом лицом под домашним арестом, также лишает его материального обеспечения.
Большой проблемой остается и практическое применение, связанное с реализацией домашнего ареста. Приказ Министерства юстиции РФ МВД России, Следственного комитета РФ и ФСБ России от 31 августа 2020 г. № 189/603/87/371 утвердил порядок контроля за лицами, которые находятся под домашним арестом на уголовно-исполнительную инспекцию5.
Одновременно с этим специалисты обсуждают вопросы, связанные с тем, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции при существующих у них функциях не способны в полном объеме производить контроль над обвиняемыми и подозреваемыми, находящимися под домашнем арестом. Например, нераскрытые в законе воп- росы по контролю о соблюдении запретов обвиняемого или подозреваемого в отношении судебного запрета на пользование услугами связи и Интернета. Более того, у уголовно-исполнительной инспекции нет оснований для осуществления контроля за почтовыми пересылками лица, находящегося под домашним арестом. Отсюда следует вывод о том, что применение к лицу запретов суда на пользование телефоном, информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», почтовыми услугами не является эффективным средством достижения цели ввиду того, что данные аспекты невозможно контролировать в полной мере дистанционно.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ судебной практики по применению домашнего ареста показывает, что суд до изменений в статье 107 УПК РФ нередко выделял для подозреваемого или обвиняемого ежедневно час или два часа на прогулки.
Так, подозреваемой Г. было разрешено постановлением Лазовского районного суда Приморского края от 09.09.2017 г. ухаживать за больной матерью каждый день с 11 до 12 часов дня и с 17 до 18 часов вечера, а также возможность ходить в ближайший магазин за продуктами и в аптеку.
Такая судебная практика показывала, что при домашнем аресте полная изоляция от общества практически нереальна, обратное может нарушать естественные права подозреваемого или обвиняемого. А предоставление прогулок, посещение работы или учебы полностью исключает смысл применения домашнего ареста, как уже неоднократно отмечалось исследователями [6, с. 132].
Суд в апелляционном постановлении Московского городского суда от 15.10.2020 по делу № 10-185338/2020 отметил, что выход из места исполнения домашнего ареста не соответствует представлению изоляции и идет вразрез правил, установленных ст. 107 УПК РФ. Такого же мнения придерживается суд в апелляционном постановлении Московского городского суда от 09.06.2020 по делу № 10-10917/20206.
Современные ученые - правоведы отмечают, что в правоприменительной деятельности современный домашний арест как мера пресечения означает полную, строгую изоляцию подозреваемого и обвиняемого с возложением контроля за соблюдением исполнения домашнего ареста на территориальные органы ФСИН [2, с. 28; 9, с. 121].
Нельзя не согласиться с данным мнением, потому что в настоящее время при избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста обвиняемый лишается возможности выхода из жилого помещения с целью приобретения товаров, продуктов, походы в аптеку также под запретом.
Между тем апелляционное постановление Московского городского суда от 05.03.2020 устанавливает, что, несмотря на изоляцию лица от общества и при всех существующих запретах, обвиняемый имеет право на вызов скорой помощи посредством связи для получения неотложной помощи.
На законодательном уровне данная проблема не урегулирована, в связи с чем суду приходится в рамках рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения самостоятельно принимать решение.
Существует мнение, чтобы право на про- гулки обеспечивалось без нарушений, обвиняемых или подозреваемых лиц, находящихся под домашним арестом, следует отвозить в специально оборудованные боксы для прогулок такой категории лиц [1, с. 73].
Также допускается некорректность в толковании терминов «ограничение» и «запреты», как синонимов. Такое положение не вполне корректно.
Контролируя запреты, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции применяют современные технологии. Порядок контроля определен Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2013 г. № 1347 [3].
Определение местоположения подозреваемого или обвиняемого составляет основную задачу при применении технических средств [11, с. 213]. Техническое средство по контролю за обвиняемым или подозреваемым под домашним арестом, который на слуху даже у неподкованных в юриспруденции людей, - электронный браслет. С помощью него можно удаленно контролировать местонахождение лица под домашним арестом. Для такой техники характерны нередкие неисправности в работе. Часто сотрудникам ФСИН приходят ложные сигналы «тревоги» из-за низкого качества аппаратуры. Например, при принятии душа подозреваемым или обвиняемым контакты замка тревоги окисляются, и сигнал поступает в уголовно-исполнительную инспекцию, которой необходимо незамедлительно выехать к месту пребывания лица для его проверки. Отмечается, что сигналы тревоги приходят не сразу, опоздание составляет 5-8 минут [10, с. 84]. Также в место, выбранное судом для нахождения лица под до- машним арестом, устанавливается стационарное контролирующее устройство.
Но и таких приборов недостаточно для полного контроля за лицом под домашним арестом. Для решения данной проблемы обратимся к зарубежному опыту. Так, в США уже более десятка лет используют телефонный аппарат, который устанавливается в доме подозреваемого или обвиняемого, благодаря которому происходит голосовой разбор. Контролирующий орган посылает вызов на телефонный аппарат, на который лицо должно ответить определенной фразой разными интонациями, которую далее компьютер сравнивает с предыдущим звонком. Более того, данный модуль может улавливать фоновый шум, что также помогает контролировать лицо [10, с. 83].
Также положительный зарубежный опыт показывает, что подозреваемым или обвиняемым можно вживлять чипы в кисти рук для контроля умных замков в доме и смартфона, но, опять же, на это нужны большие финансовые затраты. Можно сделать вывод о том, что в век развитых технологий возможности контроля за подозреваемыми или обвиняемыми должны только улучшаться, создаются все условия для этого.
Заключение
Подводя итог по рассмотренному вопросу, можно сделать вывод о существовании проблем применения домашнего ареста именно в практической части. Для устранения пробелов закона и избегания дальнейших обжалований решений судов от совместно проживающих с обвиняемым или подозреваемым необходимо установить обязательное выяснение мнения совместно проживающих лиц либо собственников квартиры, в которой лицо проживает на законных основаниях, так как их конституционные права могут нецеленаправленно нарушаться из-за соседствующего в квартире лица под домашним арестом. Именно поэтому необходимо получать согласие таких граждан на проживание в одном поме- щении с ними лиц, которых помещают под домашний арест, в настоящий момент в законодательстве такого условия нет.
Следующей проблемой выделяется урегулирование вопроса по поводу возможности кратковременного изменения условий домашнего ареста, и каким нормативным актом это регулировать. Например, при смерти близкого родственника есть ли возможность у лица под домашним арестом выйти из дома на кратковременный срок без изменения следователем меры пресечения? Следует отметить и то, что лицо при помещении под домашний арест фактически теряет возможность посещать работу, от чего напрямую зависит его существование, человек должен обеспечивать себя сам в таких условиях. Тогда как для содержащихся под стражей ежедневно происходит выделение пищи, при необходимости одежды.
Большой проблемой остается и реализация контроля запретов. Нераскрытые в законе вопросы по контролю о соблюдении запретов на пользование услугами связи и Интернета. У уголовно-исполнительной инспекции нет оснований для осуществления контроля за почтовыми пересылками. Отсюда следует вывод о том, что применение к лицу запретов суда на пользование телефоном, информационно-телекоммуникационной сетью “Интернет”, почтовыми услугами не является эффективным средством достижения цели ввиду того, что данные аспекты невозможно контролировать в полной мере дистанционно.
На практике современный домашний арест как мера пресечения означает строгую изоляцию подозреваемого или обвиняемого от общества. Это означает, что сейчас такому лицу нельзя выходить на ежедневные прогулки, как это было до изменения в статье 107 УПК РФ от 18 апреля 2018 года, тогда как даже у наиболее строгой меры пресечения - заключения под стражу - ежедневные прогулки присутствуют.
Для решения данной проблемы возможный вариант решений - оборудованные бок- сы для прогулок лиц под домашним арестом. Но для этого необходимо финансирование на размещение самих боксов (несколько на город), установить персонал ФСИН по территории этих боксов для контроля за передвижением лиц и обеспечение безопасности, обеспечить перевозку туда и обратно подозреваемых и обвиняемых.
Также существует мнение о том, что приборы для контроля местоположения подозреваемого или обвиняемого низкого качества, что, в свою очередь, может провоцировать частые ложные тревоги. Например, попадание воды на электронный браслет провоцирует окисление замков тревоги, посылая данные сигналы во ФСИН для срочного выезда сотрудников. Для решения данной проблемы имеет смысл перенять зарубежный опыт и внедрить в систему телефонный аппарат, который помогает идентифицировать личность по интонациям и улавливать фоновые шумы.
Делая общий вывод, стоит сказать, что ежегодная практика применения домашнего ареста постепенно растет, но все же остается небольшой относительно альтернативной меры пресечения в виде заключения под стражу.
Список литературы Актуальные проблемы правовой регламентации домашнего насилия
- Александров, А.С. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе // Уголовное право. 2019. № 2. С. 67-75.
- Ворогушина, Н.А. Ограничение свободы и условное осуждение: вместе или порознь? // Судья. 2022. № 4. С. 27-29.
- Выскребцев, Б.С., Сергеев, А.Б. Влияние социокультурной идентичности российского общества на формирование отечественного уголовно-процессуального законодательства и правовые позиции России в Европейском Суде по правам человека // Евразийский юридический журнал. 2020. № 6 (145). С. 307-310.
- Глухова, Е.В., Сергеев, А.Б. Вопросы имплементации европейского правового стандарта проведения ОРМ по доказыванию виновности лица в совершении преступления в российское уголовно-процессуальное законодательство // Евразийский юридический журнал. 2017. № 3 (106). С. 220-225.
- Зайцева, Л.Л. Исполнение меры пресечения в виде домашнего ареста // Законность и правопорядок. 2018. № 1. С. 46-51.
- Ларкина, Е.В. Запрет определенных действий в сочетании с залогом и домашним арестом: первые полгода применения // LexRussica. 2022. № 4. С. 129-138.
- Сергеев, А.Б. К вопросу регламентации деятельности следователя и защитника после принятия в отношении несовершеннолетнего решения о прекращении уголовного преследования по ч. 3 ст. 27 УПК РФ: правовой и криминалистический аспекты // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2016. № 30. С. 128-131.
- Сергеев, А.Б. Порог легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, как критерий уголовной ответственности // Социум и власть. 2012. № 1 (33). С. 85-87.
- Сергеев, А.Б. Состояние и перспективы научного разрешения проблем дифференциации и унификации форм уголовно-процессуальных производств // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 20 (349). С. 119-124.
- Хатуаева, В.В. Запрет определенных действий - новелла в системе мер пресечения // Законодательство. 2019. № 8. С. 82-85
- Янин, Д.Г., Сергеев, А.Б. Один из аспектов соотношения международного и национального права по вопросу передачи лица, осужденного судом Российской Федерации за экстремизм, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является // Соотношение национального и международного права по противодействию национализму, фашизму и другим экстремистским преступлениям: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу Алексееву. 2015. С. 212-215.