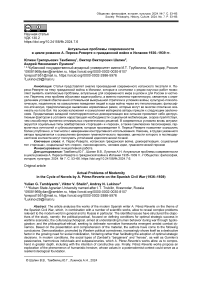Актуальные проблемы современности в цикле романов А. Переса-Реверте о гражданской войне в Испании 1936-1939 гг
Автор: Тамбиянц Юлиан Григорьевич, Шалин Виктор Викторович, Лукинов Андрей Николаевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет анализ произведений современного испанского писателя А. Переса-Реверте на тему гражданской войны в Испании, которые в сочетании с рядом научных работ позволяют выявить комплексные проблемы, актуальные для современного мира в целом и для России в частности. Перечень этих проблем обусловил задачи работы, а именно политико-практическую, связанную с определением условий обеспечения оптимальной выигрышной стратегии в условиях войны; культурно-психологическую, нацеленную на осмысление поведения людей в ходе войны через его типологизацию; философско-этическую, предполагающую выявление нормативных рамок, которые могут во многом спонтанно возникать на поле боя. На основе изложения и осмысления материала авторы пришли к следующим заключениям. Продвигаемая западной политкорректностью демократизация все сильнее проявляет себя деструктивным фактором в условиях нарастающей необходимости социальной мобилизации, скорее препятствуя, чем способствуя принятию оптимальных стратегических решений. В современных условиях вновь актуализируются социальные типы зомбартовских «торгашей» и «героев», а также гумилевских пассионариев, гармоничных личностей и субпассионариев, которые произведения А. Переса-Реверте позволяют осмыслить более углубленно, в том числе с намерением конструктивного использования. Наконец, в трудах указанного автора предлагается к осмыслению феномен гуманистического героизма, ценности которого в постмодернистском контексте могут послужить устойчивой идеологической почвой.
А. перес-реверте, испанская гражданская война, демократизация, социальный тип «торгаша», социальный тип «героя», пассионарность, человек идеи, гуманистический героизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149145577
IDR: 149145577 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.7.6
Текст научной статьи Актуальные проблемы современности в цикле романов А. Переса-Реверте о гражданской войне в Испании 1936-1939 гг
Испанский писатель Артуро Перес-Реверте известен широкому читателю как автор серии романов о капитане Диего Алатристе – мелком испанском дворянине XVII в., постоянно испытывающем материальные затруднения и потому вынужденном торговать услугами своей острой шпаги, но в то же время сохраняющем верность внутренним принципам и кодексу дворянской чести. На основе этих романов был создан удачный голливудский фильм «Капитан Алатристе», где главную роль сыграл известный актер Вигго Мортенсен. Названные романы выдержаны в жанре исторических приключений, что, впрочем, не помешало автору проводить интересные социально- и этико-философские рассуждения как по поводу родной Испании, так и на тему героя-одиночки, не изменяющего принципам в отличие от гибкого и склонного к приспособленчеству социального большинства.
С нашей точки зрения, А. Перес-Реверте относится к той когорте современных авторов, которые достойны многозначного социокультурного статуса. Ярким примером здесь является признанный «король ужасов» американец С. Кинг, в котором, безусловно, многие видят автора развлекательного жанра, на что и указывает бренд «короля ужасов». В то же время произведения С. Кинга можно читать и с совершенно иного ракурса, например как лекцию по психологии, в которой названный писатель прекрасно разбирается, подавая ее в легкой увлекательной форме. Отдельные работы С. Кинга носят глубокий социально- и морально-философский смысл, в частности роман «Зеленая миля».
Временной ракурс произведений А. Переса-Реверте весьма широк: от событий XI в., связанных с героем Реконкисты Эль Сидом, до современности, которую писатель осмысляет как в художественных произведениях, так и в коротких эссе. Среди трудов исторического жанра, помимо испанской истории начала XVII в., имеющей место в цикле об упомянутом Алатристе, в активе названного автора ряд произведений о наполеоновских войнах: «Гусар», «Шахматы со смертью», «День гнева», «Мыс Трафальгар». Кроме того, следует упомянуть, что А. Перес-Реверте имеет опыт военного журналиста и в этом качестве его деятельность связана с войнами 1990-х гг. в Балканском регионе. Нужно отметить, что ему не присуща комплиментарность нашим старым и верным союзникам на Балканах – сербам. Если в повести «Территория команчей» писатель еще пытается соблюдать нейтралитет, то в романе «Баталист» это явно не просматривается. В художественных иллюстрациях военных преступлений у А. Переса-Реверте участвуют только сербы, и именно в лице сербского военного, ради развлечения убивающего жителей осажденного Сараева из снайперской винтовки, писатель демонстрирует мотивацию террориста. Наконец, красноречиво название эссе, где описывается мальчик, стреляющий из рогатки по голубям в летнем кафе, – «Маленький серб». Следует признать, что здесь писатель все же попал под влияние дискурса западной цивилизационной идеологии, которому, как и любому другому идеологическому дискурсу, присуща, по словам Г. Мусихина (2013: 61), стратегия позитивной са-мопрезентации и негативной презентации «чужих». Наверняка полностью избежать подобного влияния трудно, однако не невозможно, что писатель отчасти доказывает в романах об испанской гражданской войне, которой он посвящает произведения последних лет.
Данное событие его родной истории составляет основу цикла из трех романов об агенте франкистских спецслужб Лоренцо Фалько, в которых авантюрная линия, пожалуй, не уступает историческим описаниям и анализам. В свою очередь, роман «На линии огня» 2020 г. – произведение, посвященное эпизоду известной и во многом ключевой битвы на Эбро в июле-августе 1938 г., – имеет ограниченный пространственный и временной охват – около 10–12 дней боев за небольшой городок – и почти лишено акцентированной авантюрной составляющей. Здесь читателю предлагается выхваченный из общей череды событий кусок действительности, какой она могла быть и, судя по всему, была на передовой или на непосредственных к ней подступах. По многим параметрам «На линии огня» сопоставимо, наверное, с наиболее известным произведением об испанской гражданской войне – романом Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», где также выхвачен трехдневный эпизод из общей канвы этого грандиозного и трагического исторического события. Отголоски последнего не затихли и по сей день, порой напоминая о себе, например, на страницах далеко отстоящих от политики произведений (романа современного автора Х. Серкаса «В чреве кита») и на масштабных уровнях политических решений. Закон об исторической памяти, принятый в последние годы в Испании, постановил вынести и перезахоро- нить из символизирующего национальное примирение комплекса «Долина павших» останки генералиссимуса Ф. Франко и одного из идеологов Национального фронта – Х.А. Примо де Риверы, а также переименовать ряд улиц в городах. Можно предположить, что испанские сторонники политкорректности на этом вряд ли остановятся, вполне возможно – на очереди стоят остальные памятные символы героев франкистской Испании.
На наш взгляд, А. Перес-Реверте относится к той когорте авторов, произведения которых имеют право на серьезный анализ. Делая акцент на значимости его трудов о гражданской войне 1936–1939 гг., считаем уместным дать краткий обзор степени разработанности данной темы, поскольку упомянутое событие по сей день вызывает споры и неоднозначные толкования. Если судить с идеологической точки зрения, то испанский внутренний вооруженный конфликт имеет несколько интерпретаций, каждая из которых порождает собственный дискурс. Наиболее популярна точка зрения, условно обозначаемая нами как прореспубликанская, делающая основные акценты на репрессиях со стороны националистов (или «фашистов», как их обычно называли публично) во время войны, а также после их победы, – «темных веках диктатуры» и т. п. Прорес-публиканский дискурс разделяется, в свою очередь, на ученых, публицистов, писателей, симпатизирующих участию СССР в этой войне (А. Самойкин, А. Колпакиди, Н. Платошкин), и на тех сторонников Республики, которые настроены по отношению к коммунизму (сталинизму) отрицательно (П. Престон, Э. Бивор, Э. Хемингуэй). Нужно отметить, что прореспубликанский дискурс оказался более востребован идеологически и политически, вписываясь в глобализирующееся либеральное мировоззрение. Среди сторонников националистов имелись видные фигуры, освещавшие события со своей точки зрения (М. Аснар, Р. Серрано), однако их дискурс со временем явно проигрывал более политкорректному республиканизму, фактически выталкиваясь из политико-культурного мейнстрима. Можно утверждать, что республиканцы, потерпев поражение на поле боя, затем стратегически выиграли информационную войну, на что указывает в том числе упомянутый Закон об исторической памяти. Нельзя говорить о нынешнем полном отсутствии про-националистического дискурса. Однако он серьезно внутренне дифференцирован. Пользуются некоторой известностью работы, ставящие целью анализ личности Ф. Франко как политика (Х. Дамса, Д. Креленко), но при этом отодвигающие на второй, а то и на третий план другие движущие силы Национального фронта. При этом труды философов и публицистов правого уклона (А. Иванова, П. Тулаева), делающие акцент на исследованиях того же Фалангистского движения и работах его лидера – жертвы республиканских репрессий Х.А. Примо де Риверы, очевидно, вытеснены на информационную периферию.
Сумели вознестись над схваткой монографии англичанина Х. Томаса (2003) и современного историка С. Данилова (2004), посвященные испанской междоусобице 1936–1939 гг. Для нас более предпочтительна работа отечественного исследователя, так как труд английского историка вышел в 1950-е гг., а С. Данилова – спустя полвека после этого, в самом начале XXI в. Российский историк мог осмыслить (и осмыслил) ряд результатов диктатуры Ф. Франко, установившейся после войны, что в определенной степени помогло взвешенному ретроспективному анализу непосредственных событий 1936–1939 гг. Этот автор (впрочем, как и Х. Томас) небезуспешно дистанцируется от симпатий той или иной стороне, констатируя обоюдные репрессии и жестокости, сопоставимые по масштабам (Данилов, 2004). Безусловно, это серьезный прорыв в сторону научной объективности. При этом С. Данилов собрал солидный фактический материал, который при подобном подходе вызывает дополнительный интерес. Позиция в отношении испанской гражданской войны А. Переса-Реверте выдержана в подобном нейтральном духе. Притом что один из романов цикла о Фалько писатель посвящает своему дяде – солдату Республики, А. Перес-Реверте в отличие от Э. Хемингуэя не становится на республиканскую сторону1, как, впрочем, и на националистическую. Свою позицию писатель лаконично выразил словами одного из наиболее мыслящих героев романа – республиканского капитана Хуана Баскуньяны: «гражданская война – это не борьба добра со злом, как ты полагал. А просто схватка одного ужаса с другим»2. Именно такая позиция красной нитью проходит через все романы А. Переса-Реверте: как непосредственно посвященные названному событию («На линии огня», цикл о Фалько), так и затрагивающее его по касательной («Танго старой гвардии»).
Монография С. Данилова и художественное осмысление испанской гражданской войны А. Переса-Реверте близки друг другу аксиологически, но содержательно фокус их внимания различен, что естественно. Если ученый-историк С. Данилов в основном занимается механизмами политической игры как результирующей крупных общественных противоречий, то писателя больше интересуют те, на кого непосредственно возложена миссия драться и побеждать. В романе «На линии огня» в ракурс описания попадают отнюдь не принимающие решения высшие чины, многие из которых стали историческими личностями. Действующие герои романа – солдаты, капралы, сержанты и офицеры низшего и среднего звена, а самый старший чин, который встречается на страницах, – недавно произведенный в республиканские подполковники Фаустино Ланда. А. Перес-Реверте воссоздает законченную картину крохотного эпизода этой войны на ограниченном участке фронта. Тем самым его романы могут составлять отличный синтез с историческим трудом С. Данилова, предлагая взгляд, максимально приближенный к обыденности упомянутого события.
Кроме того, А. Перес-Реверте имеет заслуженную репутацию баталиста, о чем говорит его многолетний опыт работы военного журналиста, реально оказывавшегося в горячих точках. Роман «На линии огня» не первый в череде его произведений батального плана. Поэтому автор не может не касаться вопросов, связанных с психологией боя, шире – с психологией войны вообще, а именно мотивов, заставляющих людей идти на войну или в конкретный бой, рискуя погибнуть. Изучение этих проблем, несомненно, должно дополнить, прояснить ряд аспектов, которыми мы занимаемся в рамках исследования проблематики мужественности, как ее движущих сил, так и препятствующих сущностей. При этом названный писатель интересуется отнюдь не только психологией боя. Ему не чужды вопросы более широкого плана, например о возможных вариантах гуманизма на полях сражений.
Целью нашего исследования является определение наиболее актуальной проблематики романов А. Переса-Реверте об испанской гражданской войне, которую полезно осмыслить в том числе применительно к современной России. Перечень такого рода проблем, отмеченных в указанных произведениях, соответственно определяет характер задач. Первая задача видится нами как политико-практическая , в рамках которой просматриваются параллели с сегодняшней внешнеполитической ситуацией. Реализация обозначенной задачи предполагает осмысление писательской иллюстрации тех причин, которые привели испанскую гражданскую войну именно к такому исходу. Вторая задача - культурно-психологическая , в ее рамках мы намерены заняться анализом выведенных писателем личностных типов, оказывающихся непосредственно на поле боя. В боях за стратегически малозначимый объект обе стороны проявили упорство и мужество, и именно среди отдельных представителей республиканцев или националистов можно найти заслуживающие обсуждения образы. Третья задача - философско-этическая , реализация которой предполагает выявление некоего нормативного кодекса, во многом спонтанно возникающего между противостоящими сторонами на поле боя.
Подобное разнообразие поставленных задач, которые тем не менее отражают различные аспекты одного и того же объекта – обозначенных литературных произведений, предусматривает их выполнение в социально-философских рамках. Но для усиления объективизма мы намерены прибегнуть к научным трудам: «Философия войны» современного мыслителя А. Дугина (2004), а также работе столетней давности «Торгаши и герои» В. Зомбарта (2005) в сочетании с известной концепцией пассионарности Л. Гумилева (2021) в переработке его последователя Т. Ибатуллина (2003). Естественно, в рамках применяемых методов, помимо анализа, в том числе герменевтического, мы будем использовать данные упомянутой монографии С. Данилова, которые в синтезе с фактами и рассуждениями А. Переса-Реверте позволят реализовать указанные задачи в более полном и целостном масштабе. Кроме того, иногда считаем уместным проводить содержательные сравнения текстов А. Переса-Реверте с романом Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол».
Итак, в основе сюжета «На линии огня» эпизод из грандиозной битвы на Эбро (лето – осень 1938 г.). Форсировавшая реку Эбро бригада республиканцев в попытках занять провинциальный городок Кастельетс-дель-Сегре натолкнулась на упорное сопротивление сил Национального фронта, поначалу практически вытеснив их из населенного пункта. Однако последние, сражаясь за каждый дом и медленно отступая, закреплялись на новых и новых позициях, а затем, дождавшись подкрепления, перешли в контрнаступление, отбросив за реку основательно обескровленные республиканские отряды. В ходе сражения обе стороны проявили сопоставимые отвагу и боевой дух, но победа осталась за националистами. По сути, описанный в романе эпизод из битвы за Кастельетс можно рассматривать как микромодель, отражающую ход войны в целом.
Собственно, контекст романа «На линии огня» пронизан ощущением неизбежности поражения республиканцев, пользовавшихся большими симпатиями тогдашнего «прогрессивного» мира. Дистанцирующийся от оценок писатель способен объективно оценить причины, определившие конечный исход внутренней бойни.
Во-первых, на протяжении большей части войны у республиканцев отсутствовал единый центр принятия решений. Нередко ряд концентрирующих властные ресурсы субъектов вели борьбу с Национальным фронтом каждый по-своему, при этом часто сталкивались между собой. Самыми наглядными эпизодами являлись вооруженная борьба анархистов и коммунистов в Барселоне в мае 1937 г. (малая гражданская война), а также антикоммунистическое восстание марта
1939 г. в самом Мадриде, инициированное полковником С. Касадо, что привело к окончательному развалу республиканского лагеря и его фактической капитуляции. Как констатирует в монографии С. Данилов, каждый из шести республиканских фронтов действовал сам по себе. Связи с фронтами, кроме Центрального, у военного министерства не было (Данилов, 2004: 114). Герой романа «На линии огня» республиканский майор Гамбо Лагуна возмущается: «В Барселоне три правительства: республиканское, Хенералидад и баскское, хотя хрен поймешь, чем оно-то правит. И каждое тянет в свою сторону…»1.
Подобные обстоятельства наглядно отражены в размышлениях сидящего в баре портового города Картахены агента Фалько: «там, где правит Республика, царит хаос непродуманных, внезапных решений, оппортунизма, демагогии… а над этим хаосом властвует вооруженный народ, и все пронизано смертельной ненавистью не только к армии Франко, но и к своим же единомышленникам, принадлежащим к другим партиям и фракциям и люто враждующим друг с другом, не определившим пока что, войну ли выигрывать или революцию делать, не способным согласовывать и объединять усилия; здесь власти и политики бесконечно далеки от действительности, разобщены, бессильны, ни на что не способны. И потому победят, наверно, франкисты. <…> Они свободны от демократического чистоплюйства, они спаяны крепче, нежели члены банды, и, значит, сильней»2.
Во-вторых, республиканское командование не только занималось внутренними разборками и репрессиями, но и расходовало людские ресурсы в ряде бесплодных наступлений, которые сейчас получили бы расхожее название «мясных штурмов». Пополнение, которое присылает командование Народного фронта, почти поголовно состоит из «поскребышей», или «набора сосунков» – семнадцати-, восемнадцатилетних юношей, не подготовленных ни с точки зрения умения, ни психологически. Далеко не все успевают стать солдатами, как отмечает капитан Х. Бас-куньяна. «Не знают даже азов тактики. <…> Ребята отважные, но в военном деле – полные олухи. Приказам не подчинялись, в атаку шли, распевая “Интернационал”, мерли как мухи и удирали, не разбирая дороги…»3.
При этом налет поражения приобретает морально-психологическое состояние, в том числе опытного, обстрелянного контингента. Интербригадовцы, считавшиеся элитными подразделениями, безучастны даже к появлению женских фигур, столь редких вблизи передовой, – «будто что-то сломалось в них, и этот надлом чувствуется в небритых, осунувшихся от лишений и тягот лицах ветеранов, заметен по их поношенной, наспех заштопанной одежде, прикрывающей тела, смертельно утомленные переходами и боями… они уже не кажутся авангардом мирового пролетариата, слетевшегося сюда со всех концов земли: это просто усталые, суровые люди, от которых потребовалось слишком много, которые надеются уже не победить, а всего лишь выжить»4. Духовный упадок обусловлен не только силой, стойкостью более удачливого и умелого противника. Порой дает трещины идеологические цельность и единство, прежде всего в контексте частых внутренних распрей, которые, как уже говорилось, раз за разом потрясали республиканскую сторону.
В-третьих, наблюдался непрочный, если не сказать откровенно слабый, тыловой фундамент. Во многом это являлось следствием слабости центров управления. Ключевыми факторами, как можно полагать, выступали непрофессионализм, коррумпированность, бесконтрольность субъектов, наделенных властью.
Прежде всего, видимо, следует отметить глубоко ошибочные решения республиканских властей, имеющих, по сути, роковые последствия. Практически сразу с началом внутренней войны всех заключенных, включая уголовников, объявили жертвами преступного классового режима. В итоге «из тюрем, открытых после 18 июля, выплеснулась на улицы толпа всякой мрази – она записалась в ополчение и тратит на попойки и потаскух то, что добывает грабежами и разбоем»5.
В романе «На линии огня» в найденном у погибшего республиканца –простого крестьянского парня – письме домой содержится неприкрытая ненависть к ополченцам, конфисковывавшим продовольствие и доводившим население до голода, а также к местной администрации: «когда женщины пошли к алькальду просить хлеба, этот гад обозвал их фашистами, а у самого хлеба вдоволь и из отборной притом пшеницы»6. Автор письма не скрывает, что желает лишь, чтобы это все закончилось и он мог вернуться домой сводить счеты – «они за все заплатят, и мы убьем их всех»7.
Как отмечает С. Данилов, на производственных предприятиях, оказавшиеся в «красной» зоне, пришли к руководству или неумелые, или бесчестные новые хозяева, которые расходовали производственные фонды (оборудование, сырье, энергию, зарплату) быстро и без должной отдачи: «Выделявшиеся министерством промышленности кредиты исчезали словно в бездонной бочке, что давало повод к новым суждениям о банкротстве государства. <...> Сельское хозяйство Центра и Юга Испании было в состоянии прокормить армию и города, но оно оказалось наполовину парализованным откровенными грабежами со стороны всевозможных партийных и профсоюзных инстанций и “бесконтрольных”. В Арагоне и Каталонии у крестьян отнимали все продукты и конфисковывали деньги. <.> Продовольствие же затем попадало на черный рынок» (2004: 112).
Националистическая зона отличалась большей стабильностью, прочностью и единством. Уголовников из тюрем не выпускали, правопорядок особо не нарушался. Помимо этого, некоторые военные, под контролем которых находились определенные части фронта, показали чудеса политико-управленческого искусства, прежде всего генерал Гонсало Кейпо де Льяно, прозванный севильским шутом за экспрессивные радиопередачи. По словам С. Данилова, «пьянице и солдафону Кейпо. удалось то, что смогли сделать очень немногие политики всех времен и народов. А именно - он в условиях трудной войны существенно смягчил земельный вопрос, приглушил экономические противоречия в деревне и превратил немалую часть обездоленных из приверженцев Республики в сторонников националистов» (2004: 208-209).
Эти три фактора - наличие нескольких управленческих центров, разбазаривание ресурсов (прежде всего человеческих) и отсутствие сильного тыла во многом обусловили поражение республиканской Испании. При этом ее сторонники изначально были в более выгодном положении, чем их противники. В руках республиканцев находилась большая часть испанской территории и крупных городов, где удалось быстро подавить выступления сторонников Национального фронта; к Республике в целом было благожелательно настроено крестьянство - самый большой сегмент населения; наконец, республиканской ориентации в целом придерживался военный флот. Все это наталкивает на вывод, что, возможно, важнейшим условием победы в тотальной войне выступает единая властная вертикаль, способная концентрировать ресурсы, мобилизуя их для достижения общей цели - победы. Такой социально-политический порядок имеет различные категориальные обозначения - тоталитаризм, автаркия, моноцентризм и пр., но в рамках войны проявляются его сильные стороны по сравнению с демократическими режимами. В истории зафиксировано сколько угодно случаев, это подтверждающих: авторитарная Спарта победила в Пелопонесской войне более демократические Афины, аристократическая демократия Речи Посполитой проиграла борьбу самодержавной России, исход Второй мировой войны решали между собой два тоталитарных режима; наконец, собственно отечественная история наглядно показывает корреляцию внешних успехов с ужесточением внутренней властной вертикали. Подобное обстоятельство не следует сбрасывать со счетов современной России, которая ведет специальную военную операцию, и данный феномен, если применять к нему не юридический, а социально-политический подход, фактически является локальной войной.
Одна из центральных тем романа «На линии огня», но также осмысляемая на страницах цикла о Фалько и в других произведениях, касается поведения человека в условиях войны. По ходу анализа вырисовываются любопытные психотипы, черты которых выстраиваются вокруг отношения к непосредственному участию в боях с противником.
Первоначальную методологическую опору мы находим у В. Зомбарта в его концепции двух ментальных типов, в целом друг другу антагонистичных, - это торгашеское и героическое мировоззрения. Типы «торгашей» и «героев» присущи любому этносу и нации, но в определенный момент, как правило, какой-либо тип доминирует. Торгашеский дух предполагает в основе прагматичнопотребительское отношение к жизни - что ты, жизнь, можешь мне дать? Это взгляд на всю земную действительность как на своего рода совокупность торговых сделок, где преследуется наибольшая выгода. Причем такие сделки заключаются с судьбой, Богом или окружающими людьми по отдельности или в целом (Зомбарт, 2005: 15-16). Взгляд на государство как на общественный договор проистекает как раз из подобной позиции: люди заключают простую взаимовыгодную сделку с верховной властью. Отсюда стремление к максимально возможному набору материальных благ, обеспечивающих приятное бытие и времяпрепровождение. Неслучайно в рамках такого мышления глубже и лучше всего осознаются хозяйственные (экономические) интересы, чего нельзя сказать о духовности, высокой культуре и т. п. Торгашеское мировоззрение отрицает войну прежде всего в силу абсолютизации экономического рационального подхода к жизни, в то время как война по своей сути иррациональна и обязательно предполагает мощную ценностную составляющую.
Героический дух принципиально противоположен торгашескому. Если «торгаш» стремится максимально взять, то «герой», по выражению В. Зомбарта, наоборот, склонен отдавать, «он хочет дарить, себя растратить, пожертвовать собой - без какого-либо ответного дара» (2005).
Добродетели героя позитивны: «готовность к самопожертвованию, верность, простодушие, почтительность, храбрость, благочестие, послушание, доброта. Это добродетели воина, добродетели, которые полностью развертываются на войне и благодаря войне, как и вообще героизм только на войне и благодаря войне вырастает в свой полный рост» (Зомбарт, 2005: 52–53).
С некоторой условностью различия торгашеского и героического духа отражаются в выведенных в романах А. Переса-Реверте образах тех, кто оказался на передовой и отсиживается в тылу. И там и там формируются принципиально различные дискурсионные поля. Чем дальше от линии фронта, тем четче и громче звучат идеологические лозунги, выпячивается банальная «показуха». Например, многие завсегдатаи популярных массовых заведений республиканского города Картахены, далеко находящегося в тылу, стремятся иметь бравый, если не вообще грозный вид: «Молодцевато скрипели ремни амуниции, сияли лаком кобуры пистолетов, хотя до ближайшего легионера или мавра было километров триста»1. Упомянутый республиканский капитан Х. Баскуньяна, рассуждая о тыловиках-интеллектуалах, отмечает, что весь их антифашизм «сводится к тому, чтобы таскаться по ресторанам при пистолете на боку и писать доносы на тех, кто имел несчастье не восхититься их романами или не рукоплескать их стихам»2.
Можно полагать, что на поведение находящихся в тылу и особенно не рвущихся на передовую людей влияет некое стремление к компенсации – показать свою значимость и полезность если уж не на поле боя, то хотя бы через рвение к скрытым врагам типа пятой колонны. Это стимулирует политическую нетерпимость – расправы следуют одна за другой, причем не только над политическими противниками, но и над теми, кто заподозрен в какой-либо неблагонадежности. В популярной литературе о войне 1936–1939 гг. главным образом говорится о репрессиях националистов в отношении сторонников Республики, которые, бесспорно, были. Однако «красная» сторона отличалась этим вряд ли меньше (Данилов, 2004: 208). Тот же Х. Баскуньяна с горечью признает: «Я видел, как убивали людей. Много людей. А они не восставали против Республики, а всего лишь голосовали когда-то за правых. Видел, как расстреливали мальчишек из Фаланги, как женщин обвиняли в симпатиях к фашистам и насиловали, а потом добивали… Видел, как выпущенные из тюрьмы уголовники, напялив форму ополченцев, шли убивать и грабить судей, которые некогда дали им срок»3.
В то же время, несмотря на идеологическое рвение, тыловикам присущ откровенный двойной стандарт, что во многом принципиально отличает их от категории людей, оказавшихся на передовой. В романах А. Переса-Реверте неоднократно подчеркивается, что находящиеся в тылу, попадая в условия дилеммы «личное или общественное», зачастую делают выбор в пользу первого, используя собственные полномочия и бесконтрольность. Это вполне вписывается в социальный тип «торгаша», нарисованный В. Зомбартом. Германский консул, перед тем как покинуть «красную» зону в октябре 1936 г., жалуется агенту Фалько: «Деньги тут решают всё… Вроде бы революция… борьба за попранные права угнетенного пролетариата… мы наш, мы новый мир построим… однако чуть только зашуршат купюры, сразу все: “Мое! Мне!” Просто невероятно, как скоро коммунисты и прочие либертарии распробовали вкус презренного металла»4. Собственно, сюжет романа «Ева» из цикла Фалько построен вокруг истории с нагруженным золотом республиканским сухогрузом, который некоторые лица из официального правительства тайно отправили для размещения личных счетов в зарубежных европейских банках. Естественно, это делалось с целью подстраховаться на случай падения Республики.
Закономерно, что склонные к героическому типу неуютно чувствуют себя в тылу, более комфортном для тех, кто соответствует торгашескому типу. Так, пребывающий в Саламанке, военной столице Национального фронта, герой-фалангист Фабиан Эстевес, успевший отличиться при обороне Алькасара Толедского, на избитый лозунг об оздоровлении Испании говорит: «Предпочел бы делать это на передовой. А здесь воняет местью и позором»5. В ходе сражения за Эбро неистовый республиканец Хулиан Панисо на предложение добить раненного франкиста заявляет: «Я фашистов убиваю в бою. А на то, чтоб раненых добивать, имеется эта мразь из второго эшелона. Ополченцы, которые сражаются за Республику в борделях и в кафе»6.
Переходя к анализу личностей, находящихся непосредственно «на линии огня», необходимо сделать своего рода методологическое отступление. Речь пойдет о людях, которые, как правило, сознательно идут на серьезный риск для жизни (а порой и на верную смерть), тем не менее причины такого поведения у всех различные. Здесь нужно выделить эссенциалистский и конструктивистский источники. В плане первого выступает, по сути, психофизиология, в плане второго – внешние, в обобщенном плане культурные, а то и ситуационные обстоятельства, порождающие стимул к действию.
Психофизиологические предпосылки характеризует модель пассионарности в трактовке бывшего фронтовика, но впоследствии ставшего ученым Т. Ибатуллина, который взял за основу известный концепт Л. Гумилева, переработав его применительно к проблеме преодоления чувства страха:
-
1) пассионарии есть особи, целенаправленный импульс поведения которых превышает величину инстинкта самосохранения;
-
2) субпассионарии есть особи, импульс поведения которых меньше импульса инстинкта самосохранения;
-
3) гармоничные личности представляют собой особей, импульс поведения которых равен по величине импульсу инстинкта самосохранения (Ибатуллин, 2003: 539).
Естественно, что подавляющее большинство людей составляют тип гармоничных личностей, поведение которых укладывается в схему, обозначенную неоднократно упомянутым Х. Бас-куньяной: «Один и тот же человек может драться как лев, а через полчаса удирать как заяц. Героев нет. Есть обстоятельства»1. Оттолкнувшись от данного тезиса, мы намерены развить его. Но поначалу нужно отметить, что среди героев романа «На линии огня» есть и те, кто оказался на передовой, по сути, случайно, вопреки своим намерениям, как, например, подвергнувшийся мобилизации рядовой франкистов Горгель или республиканский сержант Касау, который первые два года войны благодаря взятке служил в не особо опасной восточной береговой обороне, но затем вся его воинская часть была переброшена на Эбро. Однако большинство героев романа – это те, кто оказался столь близко к смерти сознательно и добровольно, причем очевидно, что бóльшая часть из них – именно гармоничные личности, а не пассионарии. Тем интереснее попытаться выявить причины – что подвигло в общем обычных людей на такой выбор, связанный со столь серьезным риском для жизни, что именно побуждает людей превращаться, по сути, в бойцовских псов? Через своих героев А. Перес-Реверте показывает, что здесь возможны различные комбинации источников и причин.
Особое значение имеет фактор идеи . Ее непреодолимую мощь подчеркивают подавляющее большинство социальных мыслителей, как благосклонных к революционным потрясениям (К. Маркс и его приверженцы), так и настроенных к революциям скептически (Г. Лебон, М. Вебер и др.). О необходимости идейного обеспечения пишут военные теоретики – П. Краснов, А. Керс-новский, А. Свечин. В испанской гражданской войне, разумеется, идеология выступала одной из ведущих движущих сил с обеих противостоящих друг другу сторон. Данный контекст актуализировал такой личностный тип, как «человек идеологический», или homo ideologicus. Сущностным качеством подобных людей выступает руководство в собственных действиях ценностными штампами, оторванными от реальной действительности, или, по-другому, стремление выражать какую-либо идею. При этом преданность идее часто доходит до фанатизма. Этот концепт был предложен французским историком О. Кошеном для характеристики деятелей Великой французской революции конца XVIII в. (2004). Разумеется, что тип человека идеологического имеется практически всегда и везде, в разных количественных выражениях, но на первый план обычно выходит в периоды революционных потрясений (Тамбиянц, 2006: 127). В то же время отношение к такому типу человека неоднозначно – или это подлинный герой, или неисправимый фанатик, которого остановит только смерть.
Роман «На линии огня» побуждает к дальнейшим рассуждениям на этот счет, позволяющим углубиться в проблему. Во-первых, представители типов homo ideologicus действительно могут различаться, вызывая противоположные ассоциации. Во-вторых, зачастую идеи вступают в синтез с другими обстоятельствами, взаимно усиливая друг друга. В связи с этим мы хотим предложить два типа homo ideologicus, которые условно обозначим как человек идеи – теоретик и человек идеи – практик .
Образец первого представляет собой комиссар бригады Рикардо, или Русо, в котором быстро угадывается советский резидент, постоянно находящийся рядом с непосредственным бригадным командованием. Именно в Испании Русо сумел сделать мощный карьерный рывок, выдвинувшись при разгроме троцкистов из Рабочей партии марксистского объединения (ПОУМ – Partido Obrero de Unificacion Marxista – POUM). Этот человек – безусловный интеллектуал, много поездил по свету «и приказать, чтобы тебя расстреляли, может на четырех или пяти языках»2. Вне зависимости от погоды Русо всегда одет по полной форме, и его функции выходят за рамки собственно идеологических вопросов. Вернее, именно идеологическая тематика выводится им на первый план при объяснении и решении любых возникающих проблем. Подход Русо (Рикардо) в сущности предельно прост – «измена, везде измена», идет ли речь о неточных ударах артиллерии, неудачных попытках взять восточную высоту Лола или гибели комиссара батальона. Он отмахивается от доводов иного, внеидеологического, плана, вроде недостатка сил, слабой подготовки, отсутствия прикрытия или технического обеспечения, наконец, стойкости противника. Последний аргумент он перечеркивает сразу и бесповоротно – как можно ставить на одну доску усилия республиканцев и фашистов?
Будучи дистанцирован от непосредственной практики боя, Русо декларирует политикоидеологическую идентичность в качестве главного критерия боеспособности подразделения. Малоуспешные атаки четвертого батальона он объясняет как политической неблагонадежностью командира, у которого социалистическая, а не коммунистическая принадлежность (ведь только коммунистическая партия «никогда не ошибается»), так и тем, что в составе батальона «сомнительные людишки из ПОУМ, откровенные предатели-анархисты, перекрасившийся мелкобуржуазный элемент или просто проходимцы без роду и племени»1. Наконец из итогового поражения республиканской бригады в боях за городок Кастельетс-дель-Сегре и ее фактического разгрома Рикардо делает лаконичный вывод: «Мало расстреливали – и вот результат»2.
Совсем иного склада представители типа, который мы обозначили как человек идеи – практик. Но и здесь мы сталкиваемся с различными социально-психологическими и культурными комбинациями. Если иметь в виду людей, посвящающих свои действия исключительно идее, то к ним Лоренцо Фалько применяет эпитет «безгрешные убийцы». Пожалуй, это личности, которые более всего соответствуют героическому типу В. Зомбарта. Здесь выступает смесь отваги, жесткой политической определенности и веры в то дело, ради которого ставится на карту жизнь. Таких в романах А. Переса-Реверте немного, что вполне соответствует реальным жизненным раскладам. К подобному типу относится фалангист Ф. Эстевес, герой обороны Алькасара («Фалько»), таков коммунист-республиканец подрывник Х. Панисо («На линии огня»), а также советский резидент Ева Неретва («Фалько»). Судьба выносит подобным людям, как правило, самый суровый приговор – «Герои отправляются в забвение или на кладбище, не оставляя позади ничего, кроме барабанной дроби, которая им одним только и слышна»3.
Как ни странно, но не так уж далеко от названных героев располагается лишенный какой-либо политической идеи агент франкистских спецслужб Лоренцо Фалько – главный герой цикла «Фалько». Его полная политико-идеологическая индифферентность не позволяет сомневаться в том, что при определенных раскладах Фалько мог вполне оказаться на стороне республиканцев: по большому счету ему все равно, на какую сторону работать, он преследует собственные, чисто индивидуальные цели. Однако, будучи погруженным в постоянные опасности, Фалько при всей своей идейной нейтральности и практическом цинизме тем не менее не может остаться полностью равнодушным к тем, для кого идея на первом месте в определении поведения. Фалько искренне сочувствует фанатично преданной коммунизму Е. Неретве или фалангистам Ф. Эстевесу и Х. Монтеро.
При этом в романах А. Переса-Реверте встречаются также люди, по поведению схожие с личностями вроде Ф. Эстевеса или Х. Панисо, но при этом внутренне принципиально противоположные им. По сути, они политически индифферентны, но испытывают психофизиологическую потребность в риске. Так, фотограф из приехавшей в республиканский лагерь команды англоамериканских репортеров Чим Лангер откровенно объясняет свою отвагу – «я чувствую, что живу, лишь когда знаю, что меня могут убить»4. Азарт, с которым фотограф стремился в гущу боя, чтобы снять снимки как можно более острого содержания, порой вовлекал и журналистку Вивиан Шерман, внутренняя натура которой вполне могла увлечься подобной игрой со смертью, поскольку она любила и умела рисковать.
Все же гораздо больше среди людей, оказавшихся на передовой, тех, в выборе которых идея сыграла определенную, но не единственную роль, и иногда трудно определить – первичную или нет. Кроме того, не всегда стоит вести речь именно о политической идеологии, на первый план могли выйти соображения, условно обозначенные как культурно-групповые.
Двадцатитрехлетняя связистка Патриция Монсон оказалась в республиканском лагере не столько по политическим убеждениям (как ставшая ей подругой суровая сержант Р. Экспосито), сколько из желания самовыразиться. Но видит себя Патриция иначе, вне приписываемых женщинам стандартам: «мне не нравилось, что меня считают не одной из тех, кто вскидывает кулак к плечу, а барышней, которую больше всего беспокоит, что нечем краситься, потому что перекись водорода нужна для госпиталей»1. Девушку скорее привлекает романтика освобождения, эмансипации в духе феминизма, реализация которого была никак не возможна во франкистской Испании с ее уклоном в клерикализм.
Интересно сравнение трех фигур – плотника Хинеса Горгеля, пастуха Сатуриано Бескоса и мавра Селимана, военнослужащих армии националистов из романа «На линии огня».
Бывший до войны плотником Горгель изначально внутренне ставит себя вне какой-либо политической идеи – «мне что те, что эти». Его мобилизовали, но на территории Республики осталась его семья. Тем не менее из практических соображений Горгель не переходит к республиканцам, видя неизбежность их поражения. В своих аргументах он демонстрирует склонность к гуманизму: «коммунисты мне ничего плохого не сделали». Формально отвергая войну, Горгель заявляет: «мы совершаем гнусности, гадские подлые поступки». Вместе с тем непосредственно на поле боя Горгель всячески стремится улизнуть оттуда под любым предлогом, не думая о судьбе своих сражающихся товарищей. Когда линию обороны, где находится Горгель, наконец все же берут республиканцы, он, стремясь выслужиться в плену, сдает им командира – стойко сражавшегося майора Индурайна, которого тут же расстреливают. Между тем именно товарищи по оружию (Селиман) вызволяют Горгеля из-под стражи, куда он был заключен франкистскими спецслужбами по подозрению в неблагонадежности (один из пленных, узнав Горгеля, доложил, что тот в свое время голосовал за левых).
На основании этого кажется уместным вывод, что подобная позиция Горгеля складывается из его собственной предельно приземленной (и, по всей видимости, субпассионарной) сущности. Как пишет А. Дугин, «военный, предпочитающий уют и спокойствие, трусоватый, пацифистски настроенный, конформный и нечестолюбивый, прилипший к синекуре и теплому местечку, гораздо опаснее и отвратительнее самого зловещего и тщеславного выскочки» (2004: 133). Гуманистические идеи, которыми пытается оперировать Горгель, не столько входят в его личностную ценностную базу, сколько используются им по мере необходимости. В силу этого подобный персонаж демонстрирует торгашескую ориентацию в зомбартовском понимании. Совсем иной гуманизм у «аристократов войны» Роке Сугасагойтиа, Педро Колль дель Рея («На линии огня») или честного вояки Антонио Навиа («Ева»), о котором разговор будет позже.
Взгляды Селимана основываются на логике традиционного общества, вернее общности, в понимании Ф. Тенниса. Возражая Горгелю, утверждающему, что его заставили участвовать в войне, Селиман считает, что война есть героическое испытание, данное свыше: «Это не важно – заставили или нет. Мужчина должен сражаться, когда должен. Женщины остаются дома с дети и старики, а мужчины воюют. …А когда воюют, делают и хорошее, и плохое. <…> Когда ты на войне, воюешь за свою честь, за начальников и товарищей… А не только за деньги и еда. Из души твоей идет мрак, но идет и свет, я точно тебе говорю. И ты гордишься тем, что ты мужчина и ведешь себя как мужчина»2. Селиман видит в войне не только необходимость следования долгу, но и возможность самоутверждения как мужчины через преодоление испытания, причем самоутверждения не только личностного, но и социального, что тесно связано друг с другом. Се-лиман признается, как был психологически потрясен и растроган, когда его, уезжающего вместе с другими на войну, провожали их женщины с детьми: «И тогда я плакал, друг… Плакал, как плачут мужчины. Беззвучно и глотая слезы. А все товарищи мои пели»3.
Примыкает к Горгелю и Селиману образ бывшего до войны пастухом-овцеводом Сатуриано Бескоса. Как и Горгель, он нейтрален ко всякого рода политическим идеям, и Бескоса просто «забрили» в ходе мобилизации, зачислив в состав фалангистских подразделений. Тем не менее Бес-кос отнюдь не стремится под каким-либо предлогом улизнуть с передовой. Его удерживает не политическая идеология Фаланги, в которую он особо не вникает, а простое чувство порядочности и долг товарищества. Нужно сказать, что в одиночестве, занимаясь выпасом коз в арагонских горах, Бескос изголодался по общению с людьми: «Однополчане и время, проведенное среди них, будто открыли ему окно в мир, совсем еще недавно бесконечно далекий от него. Деля с ними трудности и мытарства, получая и оказывая помощь в ежедневных испытаниях, на себе познав цену верности… Бескос обнаружил единственное в своем роде счастье товарищества. …Эти парни, каким-то чудом помилованные пока гибельной пулей, стали Сатуриано настоящей семьей»4. Бескос по-крестьянски практичен и приземлен, однако это вовсе не лишает его душевных гуманистических струн. Когда его подразделение выдвигают на передний край для преследования разбитых красных, Бес-кос в ходе этой своеобразной «зачистки» горячо сочувствует республиканцам, но не их идеологии, а исключительно как людям. «Сколько горя, думает Бескос. Сколько боли в душах невест, отцов, матерей, детей. Сколько силы, ума, трудолюбия нелепо сгинули впустую, сколько ожиданий не сбылось, сколько надежд погибло вместе с этими кусками неподвижной плоти, гниющей среди деревьев и никем пока не погребенной»1. По возможности Сатуриано даже пытается помочь, и неслучайно именно его писатель выбирает для своей яркой концовки, которая получилась у него куда более жизнеутверждающей, чем у Э. Хемингуэя.
Интересен персонаж, воюющий в составе подразделения каталонских рекете, которое считалось одним из наиболее боеспособных в армии Ф. Франко, – капрал Ориоль Лес Форкес. Несмотря на молодой возраст (двадцать один год), этот парень считается ветераном, в достатке «понюхавшим пороху». Уже в первые дни гражданской войны вместе с другими представителями барселонской молодежи он оказался объектом охоты приверженцев Республики – анархистов, особенно многочисленных в Каталонии. Ориоль вступил в ряды сторонников генерала М. Годеда, мятеж которого был подавлен, а сам генерал вскоре расстрелян. Та же участь наверняка ждала и Ориоля, если бы не отчаянная и удачная для него попытка прорыва. Естественно, что Лес Фор-кес – убежденный сторонник Национального фронта, но его участие в боях мотивировано не только этим. Он еще стремится отличиться и завоевать любовь девушки Нурии, красавицы и неисправимой кокетки, приковывающей внимание Ориоля и многих его приятелей, причем некоторых из них уже настигли республиканские пули, частично расчистив ему дорогу. В ходе атаки на позиции противника Лес Форкес обращается мыслями к девушке, что помогает ему соединить отчаянную храбрость и неистовую жажду жизни: «Взгляни на меня, Нурия, взгляни на меня, суматошно несутся мысли в голове Ориоля, который, задыхаясь от усилий, то ползком, то на четвереньках продвигается вперед среди пуль, высекающих искры из камней, срезающих ветки кустарника. …Взгляни на меня, Нурия, пожалуйста, взгляни. Я – тот самый Ориоль, которого ты знала. Впрочем, может, уже не совсем тот, но все же в глубине души остаюсь прежним. Взгляни, прошу тебя. Гляди на меня, покуда я буду делать то, что должен»2.
Республиканский капитан Х. Баскуньяна служил в морской пехоте и после начала мятежа военных «сразу понял, где мое место». Но впоследствии увидел нечто такое, что заставило задуматься: «Быть солдатом Республики и мыслить – это не лучшее сочетание»3. Будучи трезвым и в то же время способным на глубокие размышления человеком, Х. Баскуньяна не может не замечать не только военные промахи республиканского командования, но и вообще кадровую сущность Народного фронта, политика которого отталкивает многих потенциальных сторонников: «И потому иногда задумываешься не о том, чье дело правое, а о том, заслуживаем ли мы победы»4. Капитан отнюдь не сторонник «мясных штурмов», напротив, старается сберечь людей, что вызывает яростные нападки со стороны комиссара Русо, грозящего расстрелом. И, несмотря ни на какие разочарования, позиция капитана непоколебима – «Я там, где должен быть». Посланный фактически заткнуть дыру в обороне республиканцев, Х. Баскуньяна держится до конца против превосходящих сил франкистов и в итоге погибает, в плен не сдавшись. Очевидно, что на первом плане для данной личности не столько политические идеи, сколько чувство воинского долга.
Недавно произведенный в младший офицерский чин двадцатилетний Сантьяго Пардейро – выходец отнюдь не из высших слоев. Он сын мелкого предпринимателя, лишь благодаря упорному труду сводящего концы с концами, но которого еще до гражданской войны уличные революционеры записали в «эксплуататоры трудового народа». Здесь Пардейро имеет все основания возразить: «Народ – это я, народ – это моя семья». Его политическая позиция незатейлива – «мы по большей части хотим лишь порядка, мира и работы. Это невозможно, когда у всех на устах одно слово – “революция”»5. В сюжете «На линии огня» Сантьяго, пожалуй, оказался ключевой фигурой обороны националистов – именно его подразделение смогло не только зацепиться за окраины городка, но и удержать их до прихода подкрепления. Тем не менее мотивы Пардейро обусловлены не столько политическими соображениями, сколько корпоративными: он служит в Испанском легионе – элитном подразделении армии Ф. Франко – и в действиях руководствуется нормативами, диктуемыми легионерской идентичностью. Здесь на первом плане жесткий кодекс, определяющий поведение: «легионер – первый в атаке, последний – в отступлении. Это кастовая гордость, предполагающая отвагу и стойкость. Когда командир вызывает желающих умереть, шаг вперед делает вся рота. Без раздумий, без сомнений – и лишь по той простой причине, что так поступают все. Так было всегда, так есть и так будет. Потому что это – Легион»6.
Вместе с тем подобная актуализация легионерского самосознания оставляет на втором плане собственно политическую идею – с такой же отвагой Легион мог сражаться за «красную» сторону, как знаменитый Пятый полк Э. Листера. Лейтенант Пардейро в разговоре с бывалым воякой – бывшим белогвардейским поручиком Владимиром Корчагиным, а теперь сержантом Испанского легиона – отмечает: «Очень немногие у нас сражаются за какую-то четкую политическую идею. Большая часть – не за одну идею, а против другой». Сержант Владимир на вопрос о том, сильно ли ненавидит он коммунистов, отвечает: «Пока был там, в России, ненавидел… Сейчас все по-другому. Я дерусь не с людьми, а с делами»1.
Из этого напрашивается вывод, что политическая идея не всегда может занимать передние позиции в иерархии мотивов людей, идущих в бой. В то же время факт пребывания человека на поле боя дает основания отнести его к обозначенному В. Зомбартом героическому типу, который, конечно, во многом условен, представляет собой абстрактную идеальную модель, но тем не менее не лишен объяснительного потенциала. При этом вовсе не исключено, что «на линии огня» может оказаться и представитель противоположного, торгашеского, типа (Горгель). Но здесь мы хотим подчеркнуть, что подобная типологизация может способствовать некоторым воспитательным стратегиям, причем представителей не только «героев», но и «торгашей», ведь даже субпассионарии могут быть использованы если не на передовой, то на иных позициях.
Между тем возможно, что непосредственная погруженность в бой ведет к причудливой эволюции, в ходе которой несколько притупляются политические мотивы, а им на смену приходит нечто иное. В ходе боя, по сути завершающего описываемые в романе события, Сантьяго Пардейро заступается за сдавшихся республиканцев, которых марокканцы из подразделения регуларес собрались перебить: «Но одно дело – прикончить тех, кто еще защищается, как и поступили его легионеры, бросившись в штыки… и совсем другое – хладнокровно зарезать десяток измученных людей, которые полностью выложились в бою, дрались до последнего патрона, а потом сложили оружие и подняли руки». Капитан регуларес, поначалу возмущенный инициативой младшего лейтенанта, в итоге принимает доводы последнего: «Ладно, забирайте ваших пленных»2.
Как можно предположить, условия передовой нередко побуждают ощутить себя на месте находящегося в сходных обстоятельствах противника и могут способствовать тому, чтобы он субъективно обрел лицо. Следует признать, что еще Э. Хемингуэй в произведении «По ком звонит колокол» предпринимал робкие попытки подняться выше противодействия политических принципов и посмотреть на республиканцев и националистов с отстраненной человеческой точки зрения. Тем не менее его идеологический посыл непоколебим, что он передает через своего главного героя – интербригадовца Роберта Джордана: «Не бывает, чтобы что-то одно было правдой. Все – правда. Ведь самолеты одинаково красивы, наши ли они или их. Как бы не так, подумал он»3.
Намного дальше в этом плане идет А. Перес-Реверте. По словам республиканского майора Гамбо Лагуна, «время от времени выясняется, что там – такие же люди, как мы, что мы с ними из одного городка и сигареты покупали в одном ларьке…»4. В результате проявленные в бою доблесть, мужество выносятся за скобки политических идеологий и служат общим знаменателем если и не сближения врагов, то, во всяком случае, их взаимного понимания, следствием чего становится обоюдное великодушие. А уже это выступает, на наш взгляд, предпосылкой феномена, который мы рискнем обозначить как героический гуманизм.
А. Перес-Реверте сам дает описание модели героического гуманизма в одном из своих коротких эссе под названием «Последний герой». В нем речь идет о футбольном матче, который в силу заканчивающегося чемпионата имел во многом решающее значение, а главным действующим лицом являлся молодой игрок Маноло: «Команде Маноло не хватало трех очков, чтобы пройти в высшую лигу. И вот мяч у его ног, и он готов сокрушить врага. Но в тот момент, когда нужно было нанести удар, голкипер противника поскользнулся и упал. Поколебавшись несколько мгновений, парень отбросил мяч в сторону. Матч закончился в полной тишине». Дело в том, что карьера Маноло только начиналась и вполне возможно, что этим поступком он все испортил. Как пишет А. Перес-Реверте, «отбросить мяч в сторону порой бывает куда тяжелее, чем забить красивый гол. Одно дело поступить так, когда у тебя уже есть и слава, и деньги, и совсем другое – когда твое имя никому не известно, за матчем наблюдают сотни две зрителей, а сам ты рискуешь навсегда отправиться на скамейку запасных или оказаться на улице без каких бы то ни было перспектив». Однако это «не было ни глупостью, ни безумием, ни бессмысленным красивым жестом… это было нечто. Самый настоящий подвиг»5.
Таким образом, суть гуманистического героизма заключается в том, что в основе поступка лежит не только великодушие в отношении противостоящего тебе футбольного соперника или врага на поле боя, но и осознание того, что цена за такой поступок может быть высокой, на кону может стоять собственная карьера, а то и жизнь. Такого рода случаи встречаются в указанных романах А. Переса-Реверте (впрочем, и у других авторов – Говен из романа В. Гюго «Девяносто третий год»), и, видимо, он прав в том, что способны на эти поступки отнюдь не все, но, как правило, люди, проявляющие героизм на поле боя и даже в рамках жесткого принципиального противостояния по достоинству оценивающие друг друга. Описывая архетипический образ подлинного воина – пассионария, А. Дугин отмечает, что воину изначально присуща «солнечная световая агрессия», основанная на переизбытке силы и энергии. Но реализация этой силы и энергии наталкивается на препятствие зачастую в виде подобного же характера силы и энергии, из-за чего «созидание превращается в разрушение, уничтожение, смерть» (Дугин, 2004). Применяя подход Г. Гегеля, мы полагаем здесь в качестве тезиса и антитезиса нацеленности противников на взаимное уничтожение, но реализация этого может воплотиться в своеобразном синтезе – героическом гуманизме.
Так, неистовый коммунист республиканец лейтенант Роке Сугасагойтиа после неудачной атаки роты рекете на обороняемую им позицию позволяет залегшим под огнем его подразделения врагам подняться и уйти, забрав раненых и убитых. Притом что Роке – ярый коммунист, он умеет оценить доблесть врага: «На вид такие дохлые, а дрались хорошо»1. Но при другой, более подготовленной, атаке, закончившейся взятием этих же республиканских позиций буквально на следующий день, капитан-националист Педро Колль де Рей платит той же монетой – заставляет ординарца сжечь все партийные билеты захваченных в плен республиканцев, спасая тех от неизбежного в таких случаях расстрела2. Похожая ситуация описана во втором романе цикла о Фалько – «Ева», в котором командир франкистского миноносца Антонио Навиа ценой своей карьеры спас команду потопленного им республиканского сухогруза в соответствии с данным обещанием погибшему капитану этого судна Фернандо Киросу.
Естественно, что феномен героического гуманизма условен и оставляет много вопросов: является ли обстановка противоборства решающим условием для его проявления, в какой степени значим героический пассионарный склад. Но несомненно, что это явление заслуживает пристального внимания в рамках как философии морали, так и более конкретных исследований в области культурологии, социальной психологии. Собственно, оно не новое и в различных формах встречалось неоднократно даже в более широких масштабах. Так, во время той же испанской гражданской войны один из наиболее успешных генералов националистической Испании – Хуан Ягуэ – в апреле 1938 г. на банкете в честь победы в Арагонском сражении неожиданно похвалил доблесть побежденных республиканцев и фактически призвал к общенациональному примирению. Однако подобный призыв неизбежно противоречил политическим целям Национального фронта и генералиссимуса Ф. Франко, которые сводились к войне до полной победы. Потому данный призыв был воспринят как пораженческий и решительно отвергнут (Данилов, 2004: 238– 239). Генералиссимус сделал шаги к общенациональному примирению лишь через 20 лет после своей победы (открытие мемориала «Долина павших», посвященного обеим воевавшим сторонам). Трудно сказать, может ли гуманистический героизм быть востребован не только в отдельных индивидуальных случаях, но и на более масштабном уровне. Очень бы этого хотелось хотя бы в свете сегодняшнего противостояния России и Украины.
Если подытожить приведенный анализ произведений А. Переса-Реверте в сочетании с упомянутой научной литературой, полагаем уместными следующие общие заключения. Демократизация, которая всячески продвигается политкорректностью, орудием западного мира, является в условиях необходимости социальной мобилизации явно деструктивным фактором, внося хаос и непродуманность в стратегические политические решения. В настоящее время актуализируются социальные типы «торгашей» и «героев», а также пассионариев, гармоничных личностей и субпассионариев, которые в произведениях указанного писателя понимаются более углубленно, наталкивая на рассуждения об их конструктивном использовании. Наконец, в контексте усиления постмодернистских тенденций, выступающих фактором мировоззренческой хаотизации, устойчивую почву могут дать ценности гуманистического героизма, неоднократно встречающиеся в поведении героев А. Переса-Реверте.
Список литературы Актуальные проблемы современности в цикле романов А. Переса-Реверте о гражданской войне в Испании 1936-1939 гг
- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. М., 2021. 704 с.
- Данилов С.Ю. Гражданская война в Испании (1936-1939). М., 2004. 352 с.
- Дугин А.Г. Философия войны. М., 2004. 256 с.
- Зомбарт В. Торгаши и герои. Раздумья патриота // Собрание сочинений : в 3 т. СПб., 2005. Т. 2. С. 8-104.
- Ибатуллин Т.Г. Война и плен // Проблемы военной психологии / под общ. ред. А.Е. Тараса. Минск, 2003. С. 523-637.
- Кошен О. Малый народ и революция / пер. с фр. О.Е. Тимошенко. М., 2004. 285 с.
- Мусихин Г.И. Очерки теории идеологии. М., 2013. 288 с.
- Тамбиянц Ю.Г. Почему побеждает либерализм: осмысление механизмов взаимодействия идеологии и социальной иерархии. Ростов н/Д., 2006. 395 с.
- Томас Х. Гражданская война в Испании. 1931-1939 гг. М., 2003. 573 с.