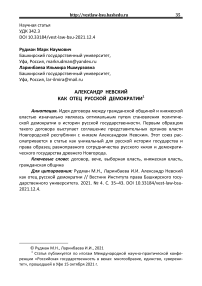Александр Невский как отец русской демократии
Автор: Рудман Марк Наумович, Ларинбаева Ильмира Ишмурзовна
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 4 (12), 2021 года.
Бесплатный доступ
Идея договора между гражданской общиной и княжеской властью изначально являлась оптимальным путем становления политической демократии в истории русской государственности. Первым образцом такого договора выступает соглашение представительных органов власти Новгородской республики с князем Александром Невским. Этот союз рассматривается в статье как уникальный для русской истории государства и права образец равноправного сотрудничества русского князя и демократического государства древнего Новгорода.
Договор, вече, выборная власть, княжеская власть, гражданская община
Короткий адрес: https://sciup.org/142232209
IDR: 142232209 | УДК: 342.3
Текст научной статьи Александр Невский как отец русской демократии
Литературный образ «отца русской демократии» для всех людей, ро‐ жденных в СССР, является свидетельством того, что сама идея русской де‐ мократии, возрожденная только в годы перестройки, фактически опро‐ вергнута историей. Неоднозначные последствия демократических реформ, начатых М.С. Горбачёвым, вскрыли исторически обусловленные самодер‐ жавные предпочтения всех слоев русского общества, привели к краху со‐ ветского «эксперимента» и проблемам «переходного периода» с очень смутными перспективами перехода к автократическому режиму. Россий‐ ское общество, объединенное выбором единоличной монархической вла‐ сти, сделало этот выбор под мощным давлением геополитических и куль‐ турных предпосылок еще в XVI в. и до настоящего времени сохраняет при‐ верженность самодержавной традиции «сильной власти». Влияние такого выбора наглядно проявилось в попытках отдельных выдающихся само‐ держцев – Александра I и Александра II – ограничить эту традицию, что встретило стойкую реакцию отторжения в обществе. Неудачи российских конституционалистов обусловлены тем, что самодержавие для России ста‐ ло образом жизни, определяющим все стороны общественной жизни, включая картину мира и культурные особенности, ярко проявившиеся как в художественной литературе, так и в обществознании.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что для российской интел‐ лектуальной традиции характерен поиск доводов и исторических подтвер‐ ждений опровержения практичности демократических процедур в сочета‐ нии с обоснованием их неприемлемости для российского государства в силу разного рода объективных исторических факторов. Общее принятие общест‐ вом этого набора аргументов проявилось в творчестве классиков отечест‐ венной сатиры И. Ильфа и Е. Петрова, создавших образ Кисы Воробъянино‐ ва, явно пародирующий обреченные на политическое поражение фигуры сторонников демократических реформ начала ХХ в., которые оказались бес‐ помощными как в противостоянии с режимом последнего русского импера‐ тора Николая II, так и тем более при столкновении с террористическими ме‐ тодами большевистского режима.
Образец русской демократии таким же естественным образом, как и северо‐восточное самодержавие, сформировался в Северо‐Западной Руси в историко‐географических условиях, схожих с условиями развития античной цивилизации, стимулом которого стала ограниченность природных ресур‐ сов, требовавшая для выживания и ведения хозяйства личной инициативы. Именно эта совокупность условий вызвала к жизни признание обществом абсолютной ценности свободы мысли как условия становления конституци‐ онных государств Нового времени.
Универсальной основой становления демократических обществ, сфор‐ мировавших универсальную модель выборного правления в Античности, ев‐ ропейском Средневековье и Новом времени стали гражданские общины, опиравшиеся на качество ремесла и следующую из них возможность торгов‐ ли. Такие условия ведения хозяйства формировали социально‐политическую активность предпринимательских слоев, вступавших в конкурентную борьбу с привыкшей к насилию наследственной военной аристократией. Демокра‐ тия становится результатом корпоративной политической солидарности го‐ рожан, материально обеспечивающих себя благодаря ремеслу и торговле. Эти творческие и созидательные по содержанию занятия сформировали по‐ требность в свободе и ответственности, которые оказались достаточным стимулом для того, чтобы поставить дружины профессиональных грабителей под предводительством королей и князей под контроль выборной граждан‐ ской власти. Естественным исключением стало возникновение новгородской и псковской моделей выборной публичной власти, которые заслуженно именуются республиками. Их появление как реального воплощения русской демократии доказывает, что так случается.
В отечественной истории государства и права республиканские фено‐ мены Новгорода и Пскова принято игнорировать в силу того, что обозримая русская история представляет собой историю самодержавия или иных вари‐ антов неограниченной власти государства. Само понятие «государство» в русском языке производно от «государь», что подразумевает неограничен‐ ность его власти и рабский статус населения. Причем эта картина мира фак‐ тически не изменилась в советский период, поскольку обусловленное усло‐ виями становления общества самодержавие в эти десятилетия воспроизво‐ дилось в форме неограниченной власти одной партии, персонифицирован‐ ной в текущем лидере.
Между тем таким же естественным путем, то есть, отражая запросы общества, в Северо‐Западной Руси формируется выборная публичная власть, аналогичная античной демократии и торговым государствам Северной Ита‐ лии и Северной Европы эпохи Средневековья.
Известная нам история Новгорода отражает естественный характер формирования выборных органов власти, солидарность которых, как и в го‐ родских общинах стран Западной Европы, определялась сплоченностью го‐ рожан в борьбе против несправедливых, с их точки зрения, размеров дани князьям, считающим себя «властью». Описание этой борьбы дает первые русские образцы общественного договора между военной знатью и воен‐ ными наемниками, с одной стороны, и городскими общинами, осознающи‐ ми свои интересы, свою свободу и ответственность в ее защите, – с другой.
С точки зрения истории права имеют огромное значение факты дого‐ ворных отношений между новгородским вече и князьями, свидетельствую‐ щие о взаимном признании права на собственное достоинство, из которого позднее будут развиты современные институты конституционных прав лич‐ ности. Летописи говорят о том, что в 1014 г. новгородская община поддер‐ жала князя Ярослава сначала в борьбе с его отцом, киевским князем Влади‐ миром Мономахом, требовавшем ежегодной дани. На вечевых собраниях каким‐то образом было достигнуто соглашение Ярослава с новгородцами о создании ополчения для борьбы с преемником Владимира – Святополком. В комментариях к советским изданиям новгородских летописей отмечается высокая вероятность того, что на вечевых собраниях 1014–1016 гг. «велись переговоры, в которых Ярослав обещал ... денежное вознаграждение и гра‐ моту с какими‐то политическими гарантиями» [1, с. 392]. Достоверно извест‐ но, что наиболее важные решения обязательно оформлялись в виде специ‐ альных договоров и грамот. Обычная формула, с которой начинались вече‐ вые постановления, выглядела следующим образом: «От бояр, от житьих людей, от купцов, от черных людей, от всего Новгорода» [1, с. 392].
В любом случае, судя по источникам, уже в начале XI в. новгородцы проявили себя как граждане, объединенные в способную к политическому самоуправлению общину. Решимость новгородцев отстаивать свои интере‐ сы, идя при этом на открытый конфликт с князьями при одновременной го‐ товности решить все спорные вопросы при помощи договора, заставила кня‐ зей и их дружины считаться с новгородской общиной как с равным княже‐ ской власти субъектом политических отношений. Сам процесс этой внутрен‐ ней и внешней политической борьбы, требовавшей постоянного поиска компромиссов, является основой демократического режима. Классические проявления демократии – известные по летописям факты изгнания князей, поступки которых вызвали недовольство влиятельных новгородских купцов и бояр. Обращаясь к историческим сравнениям, отметим, что это были именно изгнания, а не убийства, что позволяет утверждать цивилизован‐ ность новгородцев по сравнению с историей классического русского само‐ державия, которое формировало людей, способных убить Петра III, Павла I, Николая II, но неспособных при проявлении возможности собственного вы‐ бора избежать убийства. Изгнание недостойного правителя сравнимо с практикой свержения римлянами Тарквиния Гордого в 509 г. до н. э. и собы‐ тиями Славной революции в Англии 1688 г.
Учрежденный в Новгороде совет феодальной знати, известный как Ос‐ пода, или Совет господ, упоминается в немецких источниках как Herren Rat. Он включал наряду с действующими должностными лицами и знатными боярами предыдущих посадников, тысяцких и кончанских старост, являлся важнейшим органом, функционирование которого означало выработку практики договорных отношений между представителями различных групп интересов, объединенных стремлением к обеспечению политической ста‐ бильности Господина Великого Новгорода [1, с. 394]. Указанные в источни‐ ках функции Осподы позволяют проводить параллели с римским Сенатом и афинским Советом 500, регулировавшими повестку для ее рассмотрения на последующем Народном собрании, подбиравшими кандидатуры на занятие наиболее ответственных должностей. Именно в рамках таких корпоратив‐ ных органов вырабатывались способы правового обеспечения общих инте‐ ресов, что позднее привело к формированию систем городского и нацио‐ нального права, основанного на рациональном патриотизме граждан как лично свободных и потому ответственных субъектов социально‐полити‐ ческой деятельности.
Одновременно в Новгородской земле происходит небывалый для по‐ следующей русской истории процесс разграничения военной и гражданской власти, имевший место в развитии выборных институтов посадничества и княжения. Уже с конца XI в. по решению Народного вечевого собрания из бояр избирается посадник, властные полномочия которого сравнимы с прежней княжеской властью. Мощное новгородское восстание 1136 г. за‐ крепляет статус новгородского князя в качестве уже не киевского наместни‐ ка, а должностного лица на службе Господину Великому Новгороду, то есть городской общине. Закрепилась практика признания Народного веча как верховного органа власти, обладающего полномочиями призвания и сме‐ щения князя, которая является неотъемлемым элементом городской демо‐ кратии, присущей европейской средневековой цивилизации. Примечатель‐ но, что согласно тексту летописи эта традиция была настолько устойчивой, что современники, характеризуя новгородцев, утверждали, что они «вольны в князьях» [2, с. 53]. В этот период изгнание и призвание князей стало в Нов‐ городе «обычным модусом отношения к княжеской власти» [3, с. 171]. Она признавалась подчиненной по отношению к суверенитету гражданской об‐ щины Новгорода, обозначаемой понятием «Господин Великий Новгород».
В летописях и иных источниках удельной эпохи древнерусской истории понятия «господин» и «государь» использовались для обозначения и прави‐ теля, и владельца, что отражало отсутствие признаваемых обществом раз‐ личий между властью и собственностью. Но важным исключением, которое отразилось в политическом языке русской демократии Новгорода, являлось то, что в последние века удельного периода термин «господин» применялся для обозначения публичной власти корпоративного характера, примером чего служит понятие «Господин Великий Новгород». При обращении к удельному князю свободные люди, как правило, называли его господином. А понятие «государь» обозначало частную власть над собственностью. Князь был господином вольных людей, живущих в его уделе, и государем для счи‐ тавшихся его собственностью холопов. В своих землях наследственный вот‐ чинник звался государем вплоть до XVII в. Когда позднее Московский вели‐ кий князь стал претендовать на верховную неограниченную власть, он тре‐ бовал признания ее собственнического характера по отношению к населе‐ нию. Московские правители, намеренно подражая монгольской самодер‐ жавной традиции, требовали безоговорочного признания их неограничен‐ ной власти, из чего следовало полное холопское подчинение всех поддан‐ ных [4, с. 172].
Естественной противоположностью этого направления развития был Новгород, в котором сложился тип культуры и соответствующий ей режим публичной власти, основанный на активном участии вольных людей в эко‐ номической и политической жизни гражданской общины. И это участие по‐ лучило в Новгороде, как и в других европейских городах‐государствах эпохи «коммунальной революции», религиозное и морально‐идеологическое обоснование, что послужило мощным стимулом для разработки правовых принципов народовластия, утвердившихся в первых средневековых респуб‐ ликах. Новгород входил в Ганзейский союз, из чего следует общность ценно‐ стей с городскими элитами европейских городов, положивших начало го‐ родским ересям, из которых позднее вырастут мощные религиозные дви‐ жения, требующие реформирования организации политической власти на началах индивидуальной ответственности и социальной справедливости.
Заслуживает отдельного изучения параллель между выборностью нов‐ городского епископа и протестантским конгрегационализмом стран Север‐ ной и Западной Европы, положившим начало классической политической демократии Нового времени [5, с. 45]. Напомним, что именно с протестант‐ ской этикой связано утверждение идей рационализма и капитализма, при‐ верженность которым привела к формированию классического конституци‐ онного права Нового времени. И сам факт выборности главы религиозной общины отражает перспективы аналогичного пути развития русской демо‐ кратии в Новгороде, если бы не неудачное геополитическое соседство с са‐ модержавными государями, гордо считавшими себя наследниками Золотой Орды и византийских базилевсов.
Какую же роль в этой истории играет Александр Невский? Уникаль‐ ность его взаимоотношений с Господином Великим Новгородом для русской истории состоит в том, что в политических предпочтениях Александра, рус‐ ского удельного князя, еще не сложился комплекс величия самодержцев, который последующие московские правители унаследовали от унижавших их более двух веков ордынских ханов. Фактически во всем материале рус‐ ской истории Александр Невский – единственный правитель, оказавшийся способным на договорные отношения с гражданской общиной Новгорода. Эти отношения были основаны на религиозно‐патриотическом интересе за‐ щиты политического суверенитета именно гражданской общины, что и ли‐ шает его обозначение в качестве «отца русской демократии» привычного от‐ тенка иронии, отражающей характерное для русской историографии при‐ знание ее бесперспективности. Воинское мужество князя Александра, про‐ явленное в боях за защиту Новгородской и Псковской земель, было направ‐ лено в конкретных исторических условиях на защиту демократической госу‐ дарственности, созданной на договорной основе православными граждана‐ ми первых в русских землях республик. После него попытку возрождения договорных отношений между народом и публичной властью предпринял потомок Александра Невского Василий Шуйский, впервые попытавшийся за‐ крепить принцип договора в своей Крестоцеловальной записи 1606 г. Она представляет собой первый документ конституционного характера в истории государства и права России, согласно которому глава государства приносит религиозную клятву защищать жизнь и собственность своих подданных.
Таким образом, род Александра Невского дал уникальный для русской истории пример союза между гражданской общиной и княжеской властью, который был направлен на защиту демократических принципов обществен‐ ного устройства. Как носитель княжеской чести Александр сумел признать равное себе право на собственное достоинство со стороны гражданской об‐ щины Новгорода. На этой основе строились договорные отношения князя Александра с новгородской демократией, что резко противопоставляет этот исторический сюжет последующему развитию самодержавной государст‐ венности (если считать, что в условиях самодержавия возможно развитие с конституционно‐правовой точки зрения). Союз князя Александра с Новгоро‐ дом представляет собой первый договор равных между князем и граждан‐ ской общиной. Поэтому есть все основания считать его началом русской конституционной истории, то есть истории системы национального права. Она связана со становлением отечественной демократии, если признать, что у истоков демократии и права всегда стояли городские общины и их систе‐ мы ценностей, основанные на уважении жизни, свободы и собственности гражданина.
Список литературы Александр Невский как отец русской демократии
- Выборы в средневековом Новгороде // Очерки по истории выборов и избирательного права: учеб. пособие / под ред. Ю.А. Веденеева, Н.А. Богодаровой. Калуга; М.: Фонд "Символ": РЦОИТ, 2002. С. 393-417.
- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / отв. ред. М.Н. Тихомиров; под ред. и с предисл. А.Н. Насонова. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1950. 640 с.
- Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л.: ЛГУ, 1988. 272 с.
- EDN: PZQZHB
- Пайпс Р. Россия при старом режиме: пер. с англ. М.: Захаров, 2004. 493 с.
- EDN: QOUSCJ
- Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования: пер. с англ. 2-е изд. М.: Норма, 1998. 624 с.