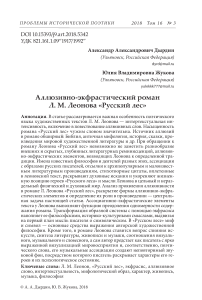Аллюзивно-экфрастический роман Л. М. Леонова "Русский лес"
Автор: Дырдин Александр Александрович, Жукова Юлия Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.16, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается важная особенность поэтического языка художественных текстов Л. М. Леонова - интертекстуальная интенсивность, включение в повествование аллюзивных слов. Насыщенность романа «Русский лес» чужим словом значительна. Источник аллюзий в романе обширный: Библия, античная мифология, история, сказки, произведения мировой художественной литературы и др. При обращении к роману Леонова «Русский лес» невозможно не заметить разнообразие внешних и скрытых, глубинных литературных реминисценций, аллюзивно-экфрастических элементов, возводящих Леонова к определенной традиции. Имена известных философов и деятелей разных эпох, ассоциации с образами русских писателей, отсылки к архипопулярным и малоизвестным литературным произведениям, стихотворные цитаты, вплетенные в леоновский текст, раскрывают духовные искания и укореняют жизненную позицию героев «Русского леса» и мысли Леонова в цельный и нераздельный физический и духовный мир. Анализ проявления аллюзивности в романе Л. Леонова «Русский лес», раскрытие формы аллюзивно-экфрастических элементов и определение их роли в произведении - центральная задача настоящей статьи. Ассоциативно-экфрастические элементы текста у Леонова выполняют функцию преодоления одномерности содержания романа. Трансформация образной системы с помощью экфрасиса наполняет ее философскими, историко-культурными смыслами, выдвигая на первый план мысль писателя о символическом. В «Русском лесе» миф и символ - основные средства выражения авторской художественной философии. Кроме того, в романе Леонова ставится вопрос слияния искусств, синтеза литературы, живописи и музыки, соотношения визуального, музыкального и словесного, а сам автор предстает как писатель с ярко выраженной визуализацией мировосприятия и, соответственно, поэтического слова, его музыкальные ассоциации создают неповторимый звуковой фон, посредством которого писатель раскрывает характеры его героев и их психологическое состояние.
Л. м. леонов, "русский лес", экфрасис, аллюзивное слово, интертекстуальность, мифологический образ, характер, живопись, музыка, философия
Короткий адрес: https://sciup.org/147226170
IDR: 147226170 | УДК: 821.161.1.09“1917/1992” | DOI: 10.15393/j9.art.2018.5342
Текст научной статьи Аллюзивно-экфрастический роман Л. М. Леонова "Русский лес"
Т ворчество Л. М. Леонова (1899–1994) поистине многогранно и с особенной силой обнаруживает свою непреходящую актуальность и в наши дни.
«Русский лес» (1950–1953) — роман философского масштаба. В нем не все лежит на поверхности, многое таится в глубине. Эта смысловая емкость леоновского письма требует от читателя определенных усилий: ведь чтение, по леоновскому определению, — это тоже труд1. Роман отмечен «таким богатством интеллектуально-эмоционального содержания и глубиной художественного исследования человеческих типов и характеров, которые способны открываться ранее не воспринятыми интенциями, поворачиваться неожиданными гранями, выявлять новый уровень актуальности. Писатель сумел увидеть не только нерасторжимое взаимопроникновение судеб леса и народа, создав концептуально емкий образ русского леса, представив его в виде диалектически неразъемной лексемы, но и выразить глобальный смысл проблемы творческого, созидательного лесоустройства для общих судеб человечества» [Якимова, 2011c].
Две большие координаты времени постепенно вписывались в замысел романа Леонова: горькие и трагические переживания людей в годы культа личности и великий патриотический порыв народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Несложно разобраться в лесной теме романа, в повествовании о событиях военного времени, в сопоставлении резко различных характеров Вихрова и Грацианского, в истории становления характера Поли Вихровой. Но этим нельзя ограничиваться. Надо проникнуть вглубь текста, попытаться осмыслить логику произведения, его утверждающую, созидательную философию, наполненность романа аллюзивно-экфрастическими элементами. И тогда становится очевидным, что его образно-смысловое пространство шире, значительней, чем может показаться с первого взгляда.
«Русский лес» — идейный роман, роман идей. Писателя интересуют не события сами по себе, а их идейное «зерно» и социально-нравственный контекст. Свою рефлексию над происходящим он превращает в движение внутреннего сюжета.
У Леонова рефлексия оформляется на основе дискурсивных элементов, «дискурсивный пласт включен в нарратив» [Грди-нич: 79].
Одной из ярких особенностей поэтического языка художественных текстов Леонида Леонова является интенсивность интертекстуальных включений, пронизанность текста аллю-зивным словом, которое «предстает как заимствование некоего элемента из инородного текста, служащее отсылкой к тексту-источнику, являющееся знаком ситуации, функционирующее как средство для отождествления определенных фиксированных характеристик» [Дронова: 96]. Оно может функционировать как средство «расширенного переноса свойств и качеств мифологических, библейских, литературных, исторических персонажей и событий на те, о которых идет речь в данном высказывании» [Христенко: 42].
Центральной задачей настоящей статьи является анализ проявления аллюзивности в романе Леонова «Русский лес», раскрытие формы аллюзивно-экфрастических элементов и их роли в произведении, в поэтике творчества писателя. Аллю-зивно-экфрастические элементы представляют собой различные формы литературно-художественной целостности от намекающей, описательной речи до воспроизведения языка одного искусства средствами другого. Это особый вид многоступенчатого художественного дискурса, обусловленный принципом параллельного развертывания повествования (см. об этом: [Геллер], [Блинова: 7]).
При обращении к роману Леонова «Русский лес» уже с первых страниц просматриваются характерные черты леоновского стиля: разнообразие внешних и скрытых, глубинных литературных реминисценций, возводящих Леонова к определенной традиции. Имена известных философов и деятелей разных эпох, ассоциации с образами Достоевского и Лескова, отсылки к архипопулярным и малоизвестным литературным произведениям, стихотворные цитаты из Пушкина и Блока, вплетенные в леоновский текст, раскрывают духовные искания и жизненную позицию героев «Русского леса». Каждый экфра-стический элемент леоновского текста несет в себе определенную смысловую, философскую нагрузку и обретает новое оригинальное звучание, обусловленное мировоззрением писателя. В этом плане суждение Леонова, приведенное А. Г. Лысовым, может рассматриваться как признание ассоциативности обязательной составляющей авторского стиля художника-философа: «По его мысли, “писатель — это накопление образности”. Поэтому он — не “описатель”, а сам обитает в едином символическом ряду, созданном им же. Леонову вообще были свойственны прерывистая ассоциативность суждений, монтаж мыслительно-образных сгустков» [Лысов, 2004: 32].
Основная тема романа — конфликт-противостояние старого и нового мира, связанный со взаимоотношениями двух центральных героев, Вихрова и Грацианского, имеющих противоположные идеи и научные взгляды: защита родной природы, преданность лесному делу и связь с судьбами леса, забота о будущем страны, свойственные первому, и равнодушие к корням национальной жизни и мизантропия — у второго.
«Русский лес» насыщен аллюзивными отсылками к прецедентным текстам, в роли которых выступают Библия, античная мифология и отголоски славянских мифов, народные предания, сказки, произведения русской и мировой художественной литературы. У Леонова экфрастически выделенные фрагменты текста использованы в качестве строительных блоков идейной структуры повествования. Включая в него образы, знаки, символы и коды мировой и отечественной культуры, писатель стремится к расширению смысловых рубежей произведения, временных и пространственных границ создаваемой им картины мира. Происходит сращение мифотворческой активности с художественной рефлексией, которое придает взгляду художника особую проницательность.
Структурно-функциональный анализ текста романа показал частое использование аллюзивно-экфрастического элемента в форме имени собственного:
-
— исторического лица: «Но повторялась счастливая Колумбова ошибка: вместо котомки с золотом ребята отыскали новый мир» (здесь и далее в цитатах курсив наш. — А. Д., Ю. Ж. )(9; 73);
«… Белинскому , отрекающемуся от гегельянского примиренчества… но кто, кто поверит в раскаяние семидесятилетнего Галилея ?» (9; 115); « Теофрасту было известно всего пятьсот растений, а Плинию — уже вся тысяча, Линней почти удесятерил это число, а нынче и все полтораста тысяч наберутся» (9; 268); «…сам Дидро с Вольтером следят из Европы за повелительницей пятнадцати миллионов крепостных варваров! — даже предписывает Потемкину покидать в землю близ Одессы поболе желудей, чтобы не пришлось внукам с севера дуб возить на ремонт российского флота» (9; 284); «…по Гераклиту например, климат тоже меняется и, кто знает, не станут ли через го-дик-полтора эвкалипты произрастать под Вологдой» (9; 401);
— литературного героя или названия литературного произведения: «А там, братец, все незваные, все являются запросто на огонек. Хозяин — этакий Фамусов новоявленный… презанятнейшая акула нашего времени» (9; 654); «…и друг Радищева, подозревавшийся в соавторстве с ним по Путешествию …» (9; 285); «— Вот, ознакомиться пришел… по примеру городничего в известном сочинении Ревизор …» (9; 368); «…Тараканцев пропел старческим фальцетом на мотив из Онегина : “Уби-ит”» (9; 411);
— библейского образа или христианского богослова и философа: «Собственно, и в библейском сказании об Адамовом ребре слабому полу не очень повезло… не правда ли?» (9; 390); «Вспомните, сколько лет было Савлу на пути в Дамаск…» (9; 115); «В Апокалипсисе слово проставлено нерусское, а в а -д о н , сбоку звездочка. <…> Вот еще когда, значит, Иван-те Богослов про тебя намекал…» (9; 142); «Профессор канонического права настолько пространно, с привлечением текстов из Оригена и Августина , излагал свою точку зрения, что гости стали тревожно переглядываться…» (9; 159);
— мифологического персонажа: «Прямиком, мимо памятников Египта, Рима, итальянского Возрождения, Иван Матвеич повлек Сережу к милосской Афродите » (9; 388); «Вихров-ское же сравнение леса с мифическим Атлантом <…> невольно вызывает в памяти образ Атлантова брата, Прометея …» (9; 415); «…в школе у вас не проходили миф такой, о Горгоне ?» (9; 455);
— фольклорного героя: «Как установлено народной молвой, лешие — тоже патриоты своих лесов, к коим приписаны…» (9; 279–280); «В общем же, русский леший — вполне безвредная личность…» (9; 280);
— «говорящее» название парохода («Евпатий»), которое связано с образом Евпатия Коловрата из народного эпоса и древнерусской «Повести о разорении Рязани Батыем» (9; 98, 100, 101).
Кроме простого называния имени собственного, в романе «Русский лес» имеется несколько примеров употребления аллюзивно-экфрастического элемента в форме характерных выражений, ассоциативных отсылок к определенным персонажам: «Дантов круг», «Архимедов винт», «Радищевский маршрут», «Линеева латынь» или к сказочному фольклору (жанру волшебной сказки): «живая вода» — «Оставалось напиться на весь остаток жизни той живой воды и засветло отправляться в дорогу…» (9; 704), «мертвая вода» — «…На улицу Саша Грацианский вышел покачиваясь, словно его напоили навечно мертвой водой » (9; 680), «…вот он, глоток мертвой воды !» (9; 116).
Аллюзивное слово выступает у Леонова и в форме цитаты, например, фраза из Горация: « Dulce est decipere in loco! » (9; 160), французское изречение: « Tout passe, tout casse, tout lasse » (9; 347), латинский афоризм: « in saecula saeculorum » (9; 416), а также встречаются названия растений на латинском языке. Леонов умел определять растения, знал латинские названия лучше иного ботаника. По утверждению самого писателя, растения — отличные, немногословные, незатейливые собеседники (см.: [Ковалев, 1978]).
Самым простым и широко распространенным вариантом является аллюзивно-экфрастический элемент в форме имени собственного, который отсылает читателя к определенному тексту. Такие имена собственные, как Прометей, Горгона, Атлант, Пенелопа, Гераклит, Галилей, Данте, Пушкин, Радищев, Белинский, Потемкин и многие другие, которыми насыщен «Русский лес», имеют символическое значение, являются образами-эмблемами и облегчают расшифровку аллюзии. Несомненно, эти имена вызывают у читателя яркие, четкие и однозначные ассоциации, не требующие лишних пояснений: «Да ты, братец, просто Дант какой-то!.. И даже хуже: Казанова…» (9; 665). По словам самого Леонова, за такими именами стоят целые миры. Вот почему он говорит о том, что значительность книги «мерится количеством работы, которое она может произвести в умах человечества для его дальнейшего прогресса» (10; 358), а «глубина каждого обобщения прямо пропорциональна количеству элементов, на которых оно основано» (10; 359). Упомянутые писателем имена-символы введены в текст с явной целью создать определенную параллель между заимствованным образом и элементом описываемой реальности.
Ассоциативно-экфрастические элементы текста у Леонова выполняют функцию преодоления одномерности содержания романа, наполняя его философскими, историко-культурными смыслами, выдвигая на первый план мысль писателя о символическом. В «Русском лесе» миф и символ — основные средства выражения авторской художественной философии.
Роман Леонова часто отсылает читателя к мифологическому прошлому. Так, например, писатель несколько раз обращается к древнегреческому мифу о Прометее (см. об этом: [Платошки-на: 56]). Характерным отрывком в романе является символический эпизод — рубка купцом Кнышевым вековой сосны из древнего бора Облога. Он по своей жестокости сравнивается писателем с коршуном-хищником:
«…Кнышев подобно коршуну кружил над всей Россией, высматривая наиболее лакомые куски; только хрип древесного падения мог утолить его страшный зуд» (9; 141).
В эпизоде встречи Грацианского с историком Морщихиным, когда первый испугался, что некстати всплывут некоторые нежелательные факты из его биографии, это сравнение получает дальнейшее развитие. «Подвиг Прометея прямо пропорционален размеру его коршуна, не так ли?» (9; 474), — такие слова произносит в этом разговоре Грацианский. Вихров вспоминает этот миф в беседе с Чередиловым, завуалировав тем самым очевидную мысль, что люди типа Чередилова, эгоиста и карьериста, не способны на подвиги во имя человечества:
«— Судя по мучениям твоим, ты прямо Прометей у меня, Гриша... по крайней мере, постарайся связно изложить, что за птица терзает тебе печенку» (9; 268).
Еще одна отсылка читателя к мифу о подвиге Прометея возникает в состоявшемся в полицейском участке разговоре Грацианского с Чандвецким, в ходе которого жандармский подполковник сулит Грацианскому судьбу коршуна:
«Наверно, не сумев выбиться в Прометеи, вы приспособитесь на роль коршуна к одному из них... и вам понравится с годами это жгучее, близкое к творческому, наслаждение терзать ему печень, глушить его голос, чернить его ежеминутно, чтобы хоть цветом лица своего с ним сравняться» (9; 499).
Очевидно, что обращение к семантике данного аллюзивно-экфрастического элемента обнаруживает некую параллель: в характеристику самого Вихрова автором заложена мысль о «прометействе» — неугасимом стремлении к достижению высокой цели в своей области. Образ Прометея является символом человеческого достоинства и величия. Вихров — Прометей, а Грацианский, Кнышев и другие отрицательные персонажи — коршуны. Как тонко подметил В. С. Воронин, во всех произведениях Леонида Леонова можно обнаружить скрытую игру противоположностей, «реализованных или только еще намечающихся возможностей, расщепление единого на части, на детали, сквозь каждую из которых просвечивает целое и сверхцелое» [Воронин: 163].
Вихров, главный герой романа, рассуждает о предназначении человека:
«…быть не бессовестным эксплуататором природы и не бессильной былинкой в ее потоке, а великой направляющей силой мироздания. Для этого он должен подсмотреть таинственную взаимосвязь, объединяющую ее явления в живой, целостный организм, чтобы облегчить и ускорить работу природы в ее стремлении к совершенству, которого она расточительно, мириадами опытов и с жестокой выбраковкой добивается вслепую» (9; 310).
Два главных врага стоят на пути у Вихрова: принципы бездумного, губительного лесопользования, которые осуществляет советская власть для форсирования индустриализации в лице Грацианского, и капиталистическое беспощадное расхищение и уничтожение природных ресурсов в лице Кнышева. Леонов показывает подвижность связей между структурами реального и символического. Здесь закодирована мысль писателя, в основе которой лежит «идея неистребимости и вечности жизни» [Сухих: 327]. Как отметил С. И. Сухих, «философия жизни, которую отстаивают писатель и его герой, противостоит не социализму или капитализму, а губительной силе всей той “технической цивилизации”, историческими разновидностями которой являются обе эти “формации” и которая существует, по крайней мере, с эпохи Просвещения. Она движется к своему закату, ибо ведет к глобальному экологическому кризису, грозящему гибелью планете. <…> Отношение к лесу становится критерием оценки человека, через него раскрываются духовные качества людей, в нем находят выражение философские позиции героев» [Сухих: 327].
В романе «Русский лес» представлены и другие важные для осмысления его идейного содержания мифологические образы, которые помогают Леонову акцентировать внимание читателя на вечных вопросах человечества посредством ал-люзивности. В этом же ряду находятся Афродита Милосская и Горгона.
Образ Афродиты — в греческой мифологии богини красоты и любви, а также плодородия, вечной весны и жизни — появляется в романе неслучайно:
«Облитая рассеянным верхним светом, Афродита одна была здесь такая, спокойная и кроткая, в девственной полунаготе, создание поэтического людского благоговения перед производительной силой земли, по объяснению Ивана Матвеича <Вихрова>. Еле умещавшиеся в соседних залах владыки древних царств и преисподних, цари и демоны, быки и боги — все они казались ему не более как челядью великой богини» (9; 388).
Спор между представителями старшего и младшего поколений о подлинной красоте, роли искусства и культурного наследия является символичным. По мнению Вихрова-старшего, Афродита есть не что иное, «как всечеловеческая красота». Его сын Сережа категоричен в своих суждениях: «И вообще это темноватое словцо, отец: к р а с о т а . Слишком уж часто
Аллюзивно-экфрастический роман Л. М. Леонова «Русский лес» 183 оно служило маской неправды и преступленья! Развалины всегда привлекательны в закате, но присмотрись, какие древние гады притаились в их щелях» (9; 389) и добавляет: «Я только хотел сказать, что мы создадим новую, н а ш у Афродиту, когда это потребуется» (9; 390). А вмешавшийся в спор историк Морщихин, желая «вступиться за эту каменную даму», добавил, что «в этой статуе заключена вся ясность античной мысли, вера в красоту человеческого предназначенья…» (9; 391).
Дескриптивные элементы придают изображаемому явлению, персонажу либо положительную, либо отрицательную окраску. Так, например, при характеристике немецких захватчиков Леонов прибегает к образу медузы Горгоны, мифического существа, символизирующего зло, и образу с положительной коннотацией — Персею — в размышлениях о сущности советского человека в его борьбе с фашизмом. В первом разговоре со своей дочерью перед «рисковым предприятием», под которым подразумевалась ее отправка в немецкий тыл, Вихров вспоминает миф о подвиге Персея:
«…а скажи… в школе у вас не проходили миф такой, о Горгоне? Так и знал… а жаль!.. Без познания таких корней человечества не поймешь и листьев в его кроне. Видишь ли, имелось в мифологии у греков такое адское страшилище... с железными руками, золотыми крыльями и змеями вместо волос. Неизвестно чем — ужасом, сладостью или печалью, но только оно окаменяло взглядом каждого, кто решался глядеть ему в очи. Древний поэт помещал ее жилище далеко на западе, за океаном. <…> И только один отважный среди людей нашелся — Персей, кто поре-шился на поединок с нею. <…> Ну, это довольно сложного рисунка миф. Из крови Горгоны родилась поэзия и грозовая туча, что в жарких климатах совмещается с понятием о плодородии. Как видишь, неплохая награда за победу, таким образом. Но и Персей отвернулся, когда заносил свой серп над Горгоной, хотя благоразумно запасся такими новинками своего времени, как волшебное зеркало, шлем-невидимка и летучие башмаки. Он понимал, на чтó идет!» (9; 455–456).
Соотношение изображаемой действительности с мифологической картиной мира показано в романе и через аллюзию, отсылающую к библейскому образу Юдифи. Юная русская разведчица Катя, которая проникла на территорию врага с намерением уничтожить тамошнего гаулейтера, вспоминает героиню библейского сказания Юдифь, отрубившую голову ассирийскому полководцу, пришедшему с войсками покорять иудеев. «Уж на что, говорит, героиня стойкая была Юдифь, а и той, говорит, было позволено: уложила своего на пружинном матрасе, да и оттяпала ему башку-то начисто. Так и сказала!.. но вот откуда она библейскую историю прослышала, ума не приложу» (9; 609), — вымолвил старый сапожник, который руководил лошкаревским подпольем, отмечая наглядную связь между событиями Отечественной войны и евангельским мифом. На эту параллель впервые обратила внимание Г. И. Платошкина [Платошкина: 56].
Мифология и символика в «Русском лесе» — приметы интертекстуальной плотности текста. Мифологическим мотивам отводится роль семантических доминант, а сама «“рамка” мифопоэтической проблематики обнаруживается у Леонова и в прямых упоминаниях мифологических имен и деталей, и в сюжетных ассоциациях, и в рассуждениях не только автора, но и некоторых его героев о космогонической сути революционных преобразований» [Афанасьева: 38]. Вставные элементы могут служить своего рода знаками, которые переводят внимание читателей с социально-исторических тем на проблемы духовного порядка. Подобные включения превращаются в отправные точки странствования по сюжетным линиям произведений Леонова (см. подробнее: [Дырдин: 13]). По своей интенсивности, смысловой емкости и глубине они настолько автономны, что их можно истолковывать как вводные конструкции, «вставные фрагменты», которые, являясь структурным элементом поэтики писателя, стали важнейшими знаками выражения авторской позиции [Якимова, 2011a].
Роман «Русский лес» содержательно насыщен, его пронизывают разнообразные литературные аллюзии и реминисценции, встречаются образы и мотивы классических, хорошо известных русскому читателю, произведений. Фридерик Листван отмечает особую аллюзивность поэтики автора «Русского леса», подчеркивая, что «литературная аллюзия как прием текстообразования занимает очень важное место как
Аллюзивно-экфрастический роман Л. М. Леонова «Русский лес» 185 в художественной, так и в публицистической прозе Леонова» [Листван, 2010: 67]. При этом аллюзии в форме точной цитаты писатель использует редко, трансформирует их, дает без кавычек, в виде так называемого «коммемората»: аллюзивные элементы становятся идеологемами, что «дает писателю возможность развить идеи, прозвучавшие в произведениях знаменитых предшественников, обыграть выступившие в них мотивы, продолжить начатое, а также сказать свое слово» [Листван, 2010: 76].
Яркими примерами являются пушкинская реминисценция из поэмы «Руслан и Людмила»: «…так что едва я помянул о знаменитом коте у лукоморья, закованном в золотые кандалы, всем уже ясно было, кто скрывается под псевдонимом так называемого кота, и что за тридцать витязей, хоть и без красного знамени пока, выходят на брег морской, куда и какого именно несет колдун богатыря» (9; 501) — и упоминание гоголевского ревизора: «Вот, ознакомиться пришел… по примеру городничего в известном сочинении Р е в и з о р…» (9; 368). Эти выразительные детали нравственно-философского смысла способствуют «повышению емкости в современной прозе» [Овчаренко: 122]. Кроме того, на страницах романа можно обнаружить и чеховские аллюзии, которые появляются в эпизоде циничного торга за украденный когда-то у мужиков лесной Облог между разорившейся барыней Са-пегиной и известным лесопромышленником Кнышевым, который «по слухам, вырубил полмиллиона десятин и снял зеленую одежку с трех великих русских рек» (9; 92). Но если у Чехова, по верному наблюдению исследователя, «картина сведения леса под корень представлена в “Лешем” гипотетически, как предотвращенная опасность, то в “Русском лесе” она увидена глазами маленького Ивана и врезалась в его память как самое страшное видение реальной жизни. На Облоге кончился мир его детской сказки, олицетворенный в образе лесного отшельника Калины, жившего в сторожке под “могучей хвойной старухой” — сосной» [Якимова, 2011c].
Леоновские аллюзии в основном отсылают к общеизвестным текстам, поэтому форма аллюзивно-экфрастического элемента и его роль в романе легко определяема. С помощью таких вставок Леонов варьирует свою стилистическую палитру.
Некоторые аллюзии требуют от читателя бόльших усилий при расшифровке по причине того, что скрытые в них слова-ориентиры неточны. Примером такой аллюзии является отсылка к русской народной сказке «Гуси-лебеди», в которой яблоня укрывает своими ветвями девочку от опасности. В романе сосны спасают Полю от подстерегавшей ее гибели:
«Если бы накренившаяся сосна не прикрыла Полину тень на сугробе, а другая не приняла бы на себя часть пулеметного огня, повесть о лошкаревском походе сократилась бы наполовину» (9; 561).
У читателя, знающего русскую сказку, этот отрывок из романа вызывает ассоциацию с произошедшей в ней ситуацией. Русский лес в одноименном романе является воплощением настоящего, доброго, сказочного богатыря, который прячет Полю Вихрову в своей чаще:
«Уже весь лес кругом в десятки голосов подсказывал ей что-то, и один из них показался Поле разумнее других. <…> И опять, будто в плечико толкнули, Поля пошла вправо, совсем уж наугад, и действительно, шагов через двести объявилась бывшая вырубка, очень знакомая на первый взгляд и тоже как будто признавшая Полю: снег был теплый, домашний, не жегся нисколько, пока переползала ее наискосок» (9; 562–563);
«Однако, пригнувшись, кусточками и по-пластунски лес проводил вихровскую дочку до самой насыпи. <…> только помстилось сквозь дымку, кто-то мохнатый и большой с опушки кивал ей вдогонку из-под снежной колеблющейся лапы» (9; 564– 565).
Лес помогает ей и в осуществлении своего предназначения, свершении подвига и долга перед своим народом: «И старый бор обнял Полю за плечи и повел кратчайшим путем на подвиг…» (9; 561). Эта сказочная реминисценция определяет интонацию авторских размышлений о героизме. Творчество писателя, по словам А. Г. Лысова, соответствует «запросам национальной жизни и предельным целям всечеловеческого единства» [Лысов, 2001: 74].
«Сказочный материал, — пишет Ф. Листван, — привлекается Леоновым с целью создать определенную параллель героям произведений, событиям, явлениям» [Листван, 2011: 25]. Сказочная ситуация проецируется писателем на советскую реальность, в которой люди XX века, мужественно сражавшиеся с «коричневой чумой», совершали настоящие, тяжелые подвиги по сравнению с героями древних легенд, библейских мифов и сказок. Ассоциация со сказкой играет очень важную идейную роль, несет в себе глубокий философский смысл. Генетические, нравственно-философские свойства фольклора придают авторским словообразам специфически символический смысл. Содержащееся в фольклорных текстах эмоционально-семантическое начало, сливаясь с метафорической, философски «оснащенной» леоновской творческой мыслью, объединяются в едином эстетическом пространстве. Через эту традиционную форму народного мировоззрения роман наполняется идеями национального единства, подчиняется художественным законам, идущим от литературы минувших эпох.
Безусловно, литература повышает свою семиотичность за счет других видов искусства, таких как живопись, музыка, скульптура, архитектура и др. Семиотический подход расширяет эвристические возможности экфрасиса, позволяет понять нерасторжимую взаимосвязь человека и культуры.
«Нет сомнения, что “всемирная отзывчивость” как выражение “мирового оркестра” культурного творчества, много-голосицы людского духовного бытия <…> послужила в романистике писателя основой полифонии его произведений, сказалась на многохарактерности персонажей, с кем автор вступал в диалогические отношения. Именно в этом он был коституционно родствен Достоевскому» [Лысов, 2005: 15], — подчеркивает автор вступительной статьи к коллективной монографии, осмысляя традиции поэтики и универсальный характер леоновского художественного мира.
Художник редкого дарования, Леонов мастерски живописал не только эпоху, в которой жили, творили, боролись и побеждали его герои, но и глубоко знал и любил природу. Все его произведения — кладезь пейзажных зарисовок, поэто- му Леонова можно смело отнести к писателям-пейзажистам. Природа является одним из знаковых героев на протяжении всего леоновского творчества. Картины природы идеально вписываются в его тексты, закладывают основы многих сюжетов, являются важным средством раскрытия характеров персонажей, вносят в его прозу правду жизни и придают ей особый, характерный только для Леонова эмоциональный и художественный колорит. В романе «Русский лес» все пейзажные зарисовки крайне выразительны благодаря колоритному языку и неповторимой метафоричности. Они обладают самостоятельной художественной ценностью. Картины природы всегда связаны либо с сюжетной линией его произведений, либо с внутренним состоянием героев, своей красотой они оттеняют душевный мир героев при помощи эмоционально насыщенных пейзажей, складывающихся из множества изобразительных деталей.
В мире Леонова искусство образности основано на философской ассоциативности, переходах от живописания к обобщению, к тому типу повествования, которое сам художник называл «логарифмированием прозы» [Хрулев: 224]. В изучении леоновской поэтики эта переходность от конкретного к абстрактному, отмеченная исследователем, особенно важна. «Писатель варьирует эти переходы, — пишет известный лео-новед, — создает ощущение связи разных уровней и аспектов жизни» [Хрулев: 98].
В философски насыщенном образно-поэтическом мире Леонова большое значение приобретают идеи и темы, навеянные живописью. В романе «Русский лес» можно обнаружить широкий спектр аллюзий на те или иные произведения живописи — от простого упоминания названия картины или ее участия в сюжетной линии до раскрытия сюжета самого ее содержания. Например, название картины русского художника В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» упоминается в романе дважды. В первый раз — по прибытию Вихровых в Петербург к дяде Афанасию Вихрову, который «успел возвыситься до чрезвычайной должности коридорного в меблированных комнатах Д а р ь я л » (9; 139):
«Необходимо сказать про Афанасия, что это был не плоше Матвея великан в синей крапчатой рубахе навыпуск, под жилеткой, с тяжким взором и такой смолевой бородищей, что Иван Матвеич всю жизнь ждал случая разузнать, не с дяди ли знаменитый живописец писал мятежного старшину в своем Утре стрелецкой казни » (9; 140).
Второе упоминание названия картины встречается во время разговора Ивана Вихрова с Морщихиным о трудностях с материалами в работе над диссертацией:
« Кстати, как мне удалось доискаться, впереди той знаменитой расстрелянной процессии покойный дядька мой нес икону какого-то святителя в серебряном окладе: их пробили насквозь одной и той же пулей. Можете убедиться, что это был за богатырь… — Потом послышались шаги, и Поля догадалась, кого именно ее отец показал Морщихину на большой фотографии Утро стрелецкой казни , висевшей в простенке вихровского кабинета» (9; 448).
Сделаем уточнение, что события, представленные Суриковым, разворачиваются на Красной площади в Москве. Согласно задумке художника, важно было показать не сам процесс казни, а передать душевное состояние героев в эту страшную минуту.
Многочисленные пейзажные зарисовки неповторимой живописной и эмоциональной силы также можно считать экфрастическими. Природоописания у Леонова невероятно схожи с картинами таких русских художников, как Степан Писахов, который на протяжении всей жизни неустанно выражал на холстах свою любовь к русскому северу и его лесным просторам, и Иван Шишкин — легендарный русский художник-пейзажист. Именно тонкое ощущение поэзии леса роднит писателя и художников:
«…словно ведьма на празднике, стояла поодаль зловещая, вся в синих лохмотьях, разбитая громом ель; продольная трещина надсадно скрипела <…>. Постепенно жар сменился прохладой, а хвоя — листвой, уж позолоченной закатцем. Тени удлинялись, дорога назад была потеряна. Но повторялась счастливая Колумбова ошибка: вместо котомки с золотом ребята отыскали новый мир. Им открылся чистенький, ничем издали не примечательный овражек, без единой соринки или валежины, без единого цветка по теплой, как бы подстриженной траве, даже без птичьего щебета, словно и шуметь запрещено было в том месте. Вдруг необъяснимым холодом дохнуло в лицо, и волнение искателя подсказало ребятам, что перед ними — самое важное в округе, а может быть, и на всей земле, сокровище. <…> Они спустились и стояли со склоненными головами, как и подобает паломникам у великой святыни. <…> Это был всего лишь родничок» (9; 73–74).
Внимательное изучение этого отрывка позволяет сделать выводы о его тесной и органичной связи с картиной И. И. Шишкина «Ручей в лесу», выполненной в лучших традициях русской пейзажной живописи. «Отличным бойцом за русский лес» называет Ивана Шишкина главный герой Вихров в своей знаменитой лекции о русском лесе. Изображение ручья на картине художника и описание сцен у родника Леоновым являются знаковыми, образуют эмоциональный и композиционный центр. Образ родника, переданный художником слова, приобретает сюжетообразующую функцию, ведь все важные события в жизни главного героя разворачиваются именно у «источника жизни» (приобретение веры, отстаивание ее и возвращение к первоистокам). Родник — сердце русской земли, символ национальной и личной святыни, а также мерило нравственной чистоты героев романа. Невозможно не согласиться с исследователем, что Леонов опирается не столько на официальную культурную традицию (библейский текст, греческие мифы, вечные образы мировой литературы), «сколько на русскую национальную культуру, на простонародную ее основу» [Дуров: 100].
Кроме того, живописный экфрасис в романе Леонова — это не столько элемент художественного пространства, это, прежде всего, важная структурно-семантическая единица текста, раскрывающая философскую позицию писателя, а именно: тайны жизни, предназначение человека, трагедию природы и самой материи. «Философская интенциальность, — по верному заключению Л. П. Якимовой, — предстает как доминантное начало его повествовательной структуры и именно в этот философский контекст оказывается органически вписанной проблема судеб русского леса» [Якимова, 2011b: 155].
Леонид Леонов — один из феноменальных и парадоксальных русских писателей, отличительной чертой стиля которого является не только яркое живописание событий, но и невероятная музыкальность и мелодичность его произведений. Музыка — это часть жизни и творчества писателя.
Звуковой фон, сопровождающий героев в разные периоды жизни (шум вокзала, гул толпы, шелест листьев, шум леса в Пустошах, журчанье родника, пение птиц и др.) и отсылки к разного рода музыкальным произведениям («Каравай», который поют детишки во дворе московского дома; мерзляковская песня «Среди долины ровныя» о богатстве русского леса, о дубах; «пророческая» старинная песня о неизбежности гибели, которую слышит Сережа Вихров в вагонной теплушке; «Варшавянка» — революционная песня; «Лунная соната» Бетховена; серенада Брага; произведения Баха и др.) являются важными средствами, способствующими раскрытию психологического состояния героев романа, их характеров и поведения, а также представляют «авторский текст о бытии, выраженный через диалог автора романа с музыкальными высказываниями о бытии других художников» [Рыбальченко: 17].
Одним из ярких экфрастических фрагментов в романе является эпизод посещения органного концерта, в котором Леонов пытается передать психологическое состояние героев посредством музыки, представляющей собой некий мост между физическим и метафизическим мирами.
Знаменитый органист из Германии, родины Баха, дает концерт, во время которого играет лучшие баховские творения:
«Леночка наконец-то услыхала в действии загадочное, во всю стену, нагромождение певчего дерева и серебряных труб. В первом отделении исполняли фугу до-минор, соль-мажорную фантазию и четыре хоральные прелюдии Баха» (9; 339).
Леночку не интересовало, кто и зачем сочинил эту музыку, ее не увлекли пояснения Вихрова о принципах и условиях создания произведений органного искусства — она услышала в музыке себя. Перед ней распахнулся узнаваемый мир — создание «долговечной силы музыки»:
«Внимание Леночки привлекла вдруг запевшая тростинка над водой, и сквозь низкое ступенчатое гуденье можно было раз- глядеть, как бесконечно много их там… и потом вкрадчивый, звенящий ветер пронесся над головой так, что они наклонились, и вместе с ними запели дети, и к этому гимну, насквозь проникнутые порывом, присоединились окружающие стены, знаменитые овальные портреты вверху, и она сама, Леночка, вся до последней кровинки. Будто кто-то большой и скорбный прошел мимо нее в поисках главного, но не отыскал, и величаво развел руки от огорченья, и взглянул на набухшую синь над собой, но и там нигде не было. И тогда всё, дети и ветер, побежало по лугу наперегонки, и вздыбленное от любопытства облако в высоте потянулось за ними, к спокойному округлому озерку с отражениями кого-то, чье присутствие внушает блаженство и ужас, и тут круги от первых капель возникли и раздробили зеркальную гладь. И вскоре небо пролилось вниз, а дети и ветер стояли затихшие, в отвесных струях ливня, еще не понимая, зачем все это... А уже распускались цветы кругом, и стороной прошел первый, клыкастый, не вполне законченный зверь, но он никого не тронул, потому что тоже не знал пока, зачем он. Потом косой и дымчатый луч света пропорол сгущенный, безмерно душный воздух и упал на лицо Леночки, оставляя в ней дольку целительной прохлады» (9; 339–340).
Очевидно, что музыкальный экфрасис визуализирует звуковые образы: тростинка над водой, небо над озером, чье-то отражение в нем, клыкастый зверь, не знающий, зачем он создан, ветер и ливень, луч солнца и целительная прохлада. Пережитое Леночкой состояние, вызванное звуками музыки, является судьбоносным, толкает ее к выбору своего собственного жизненного пути. Она понимает, что нужно творить свою собственную жизнь, избавляться от чувства социальной вины, которое «съедало» ее многие годы.
В данном эпизоде обнаруживается разное восприятие музыки, столкновение взглядов, в котором проявлена и авторская музыкальная концепция. Ассоциации, чувства, переживания, вызванные прослушиванием произведений Баха, становятся средством характеристики героя, побуждают персонажа к внутреннему порыву, поиску себя, поступку самоопределения.
Музыкальные зарисовки — небольшие по объему, но крайне важные элементы раскрытия характера Грацианского. Мастерски введенные Леоновым и пронизывающие полотно
Аллюзивно-экфрастический роман Л. М. Леонова «Русский лес» 193 повествования романа, они способствуют выявлению отношений героя с окружающим миром, его самовосприятия. «Серенада Брага» («Серенада ангелов», или «Валахская легенда» итальянского композитора Гаетано Брага, популярного в XIX — нач. XX в.) впервые как прецедентный музыкальный образ включена А. П. Чеховым в повесть «Черный монах» (1894). Леонов опирался в своем творчестве на традиции Чехова, связывал с его именем понятие контекста, видел в нем «спрятанную координату, орудие дополнительного углубления и самого емкого измерения героя» [Леонов: 152].
Аллюзивно представленная романтическая музыка, столь любимая Грацианским, наделена в романе несколькими функциями. В художественной форме Леонов свел воедино музыку, литературу и психологию.
Во-первых, «Серенада Брага», с ее устремленностью в мир фантазии, в мистическую жизнь и даже уход от жизни, несет в себе негативно-иронический оттенок, служит сигналом полного краха и разочарования Грацианского в жизни.
Во всех сценах звучания серенады в романе сквозит несуразность, мешающая восприятию музыки с подлинным драматизмом. С долей иронии и насмешки Леонов пишет, что серенада звучит «всегда некстати». В первый раз — в атмосфере трактирного пиршества в студенческие годы Грацианского. Кроме того, Леонов намеренно использует антиэстети-ческое воздействие музыки, чтобы показать подчиненность и бессилие Грацианского перед обаянием, грацией, граничащей с беспомощностью, дамы Эммы с последующим разочарованием в ней. Здесь кроется начало конца для Грацианского.
Второй раз ироничность ситуации показана в эпизоде прихода посланника Чандвецкого в дом Грацианских в канун Нового года, когда Вихров отмечает, «что его приглашают на полагающуюся перед Серенадой Брага плотную новогоднюю закуску» (9; 640). И, наконец, высшая степень ироничности и драматизма проявляется в поведении и манерах Грацианского при непосредственном прослушивании вышеупомянутого музыкального произведения: «“О, боже мой!..” — сам себе говорил он иногда <…> и заводил Серенаду Брага, и ронял романтичную слезу, вызывая неизменное участие вертодоксов и друзей» (9; 680).
Отношение героя к «Серенаде ангелов» является важной особенностью раскрытия его характера и психологии. Грацианский — слушатель, а не исполнитель, подражатель, а не созидатель. Имея тесную связь с музыкальным искусством (владение игрой на скрипке), Грацианский боялся обнаружить личное несовершенство, тем самым лишая себя подлинного творчества. Романтическое начало сущности Грацианского приводит к отчуждению от реальности, страху перед ней и губительным для жизни последствиям. В этом заключается психологическая функция аллюзивно упомянутого писателем известного музыкального произведения.
Таким образом, с помощью анализа аллюзивности в романе «Русский лес» и раскрытия действительных значений ал-люзивно-экфрастических элементов и их роли в повествовательной структуре создается объективная и целостная картина экфрасиса в исследуемом произведении, позволяющая рассматривать его как сложное, многообразное и многофункциональное явление в наследии Л. М. Леонова.
Аллюзивно-экфрастический элемент в форме имени собственного, скрытой или явной цитаты в романе выполняет очень важную идеологическую функцию. В первую очередь, писатель использует его в качестве средства построения образа и усиления экспрессивности высказывания. Экфрасис помогает писателю кратко и лаконично выразить свое мнение. Кроме того, экфрасисы раздвигают смысловые границы леоновской прозы и осуществляют тесную связь с широким историко-культурным и мифологическим контекстом. Изучение живописного и музыкального экфрасиса, ссылок на творчество того или иного художника или композитора в рамках одного литературного произведения, в данном случае романа «Русский лес», представляется интересным и важным прежде всего с точки зрения проблемы понимания текста, его адекватного восприятия читателями, а также является источником порождения новых философских смыслов.
Список литературы Аллюзивно-экфрастический роман Л. М. Леонова "Русский лес"
- Афанасьева А. С. Романы Л. Леонова 20-х годов: мифопоэтика и натурфилософия // Русская литература XIX-XX вв.: поэтика мотива и аспекты лит. анализа: [сб. ст.] / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии. - Новосибирск: Изд-во Сибирского отд-ния Российской акад. наук, 2004. - С. 38-49.
- Блинова М. П. Экфрасис музыки в романе Й. Макьюна «Амстердам» // Современные тенденции развития науки и технологий. Материалы X Международной научно-практической конференции. - Белгород: АПНИ, 2016. - С. 7-11.
- Воронин В. С. Миражи истории в прозе раннего Л. Леонова // Своеобразие и мировое значение русской классической литературы (XIX - первая половина XX столетия). Идеалы, культурно-философский синтез, рецепция. - М.: ООО ИПЦ «Маска», 2017. - С. 163-182.
- Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе // Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума / под ред. Л. Геллера. - М.: МИК, 2002. - С. 5-22.
- Грдинич Н. Роман «Русский лес» Л. Леонова как роман идей // Наследие Л. М. Леонова и судьбы русской литературы. Материалы VII Международной конференции. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - С. 79-84.
- Дронова Е. М. Интертекстуальность и аллюзия: проблема соотношения // Язык, коммуникация и социальная среда. - Воронеж: ВГУ, 2004. - Вып. 3. - С. 92-96.
- Дуров А. А. Народно-трагическое в леоновской модели мира и человека // Поэтика Леонида Леонова и художественная картина мира в XX веке: Материалы междунар. конф., 20-21 июня 2001 г. - СПб.: Наука и техника, 2002. - С. 93-101.
- Дырдин А. А. В мире мысли и мифа. Роман Леонида Леонова «Пирамида» и христианский символизм. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 116 с.
- Ковалев В. А. Этюды о Леонове. - М.: Современник, 1978. - 410 с.
- Листван Ф. К вопросу об интертекстуальности: Аллюзия в романе Л. Леонова «Пирамида» // Наследие Л. М. Леонова и судьбы русской литературы. Материалы VII Международной научной конференции. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - С. 67-77.
- Листван Ф. Волшебная сказка в творчестве Леонида Леонова // Художественно-философские модели мироздания в творчестве Л. М. Леонова и в русской литературе XIX - начала XXI столетий: Материалы VIII Международной научной конференции, г. Ульяновск, 7-9 сентября 2011 г. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - С. 19-31.
- Лысов А. Г. О «всемирной отзывчивости» Леонида Леонова: соборный образ культуры // Век Леонида Леонова. Проблемы творчества. Воспоминания. - М.: ИМЛИ РАН, 2001. - C. 74-86.
- Лысов А. Г. «Голубь Фенея». К воспоминаниям о Леониде Леонове // Русская литература XIX-XX вв.: поэтика мотива и аспекты лит. анализа: [сб. ст.] / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии. - Новосибирск: Изд-во Сибирского отд-ния Российской акад. наук, 2004. - С. 28-37.
- Лысов А. Г. «После Леонова»: десять лет // Духовное завещание Леонида Леонова. Роман «Пирамида» с разных точек зрения. - Ульяновск; Новосибирск; Вильнюс, 2005. - 315 с.
- Овчаренко А. И. В кругу Леонида Леонова: Из записок 1968-1988 годов. - М.: [б. и.], 2002. - 294 с.
- Платошкина Г. И. Легенды и притчи в произведениях Леонида Леонова // Русская литература. - 1981. - № 2. - С. 45-57.
- Рыбальченко Т. Л. Знаки музыки в романе Л. Леонова "Русский лес" // Сибирский филологический журнал. - 2014. - № 4. - С. 16-24.
- Сухих С. И. Специфика конфликта в романе Л. Леонова "Русский лес" // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. - 2010. - № 6. - С. 323-329.
- Христенко И. С. К истории термина «аллюзия» // Вестник Московского ун-та. Серия 9. Филология. - М., 1992. - Вып. 6. - С. 38-44.
- Хрулев В. И. Художественное мышление Леонида Леонова. - 2-е изд. испр. и доп. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. - Ч. II. - 326 с.
- Якимова Л. П. Вводный эпизод как структурный элемент поэтики Леонида Леонова / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии. - Новосибирск: Изд-во Сибирского отд-ния Российской акад. наук, 2011. - 248 с. (а)
- Якимова Л. П. Герменевтические парадоксы романа Леонида Леонова «Русский лес» // Художественно-философские модели мироздания в творчестве Л. М. Леонова и в русской литературе XIX - начала XXI столетий: Материалы VIII Международной научной конференции. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - С. 139-173. (b)
- Якимова Л. П. Радетель русского леса // Сибирские огни. - 2011. - № 1. - С. 174-183 [Электронный ресурс]. - URL: http://magazines.russ.ru/sib/2011/1/ia18-pr.html (25.05.2018). (c)