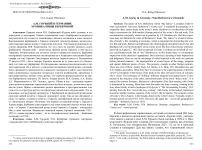А.М. Горький в Германии: хроника Нины Берберовой
Автор: Клинг Олег Алексеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
Природа книги Н.Н. Берберовой «Курсив мой» сложная: и литературная, и мемуарная. Однако «горьковский текст» Берберовой подчеркнуто документален. Он создан по дневниковым записям, сделанным в доме писателя. Воспоминания Берберовой о Горьком помогают реконструировать малоизученный немецкий период жизни и творчества писателя. Эта реконструкция была частично проведена В.Ф. Ходасевичем. Но этот опыт не умаляет ценность книги Берберовой. «Курсив мой» - своего рода хроника жизни Горького, в том числе в Германии, которая важна для летописи жизни и творчества писателя. Берберова подчеркивает хронологическое несовпадение ее и Ходасевича посещения Херинсдорфа, где жил Горький. Она впервые посетила Горького вместе с Ходасевичем 27 августа 1922 г. Но ее портрет Горького написан не от лица «мы» (я и Ходасевич), а от лица «я» (Берберова). В этой зарисовке сиюминутное впечатление от облика персонажа. Но в ней есть и наслоение позднейших впечатлений, суждений. Здесь проявляется преимущество словесного материала в работе над портретом перед живописным: наложение нескольких пластов изображения, временных и пространственных, разных точек зрения. Это свойство распространяется на другие берберовские портреты. Их много: Андрея Белого, И.А. Бунина, А.А. Блока, Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус, других. Общее в них - наложение первого зрительского восприятия героев своей книги на более поздние, личностного видения на чужое. Прием «сдвижения» разных временных и пространственных пластов есть и в структуре других, не портретных частей книги «Курсив мой». Это закономерно для мемуарной литературы. У Берберовой во временной организации описания первой встречи с Горьким доминирует вечер. Она не раз обозначает в книге это время, создавая в сюжете о Горьком своеобразный аналог цветаевского «Нездешнего вечера». По-иному, чем первый «нездешний вечер» с Горьким в Херинсдорфе, Берберова структурирует еще один немецкий отрезок жизни писателя - в Саарове. Семантический центр жизни Горького в Саарове - воскресный обед в доме писателя. Формально немецкий период Горького охватывает 1921-1923 гг., однако верхнюю планку - не по географическому принципу - Берберова поднимает до 1924 г.
А.м. горький, н.н. берберова, германия, эмиграция, "горьковский текст" берберовой, словесный портрет
Короткий адрес: https://sciup.org/149141246
IDR: 149141246 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-212
Текст научной статьи А.М. Горький в Германии: хроника Нины Берберовой
В «Биографическом справочнике», который составлен самой Н.Н. Берберовой и является органичной частью ее книги «Курсив мой», указывается: записи о жизни в доме А.М. Горького были сделаны в 1920-е гг. Природа книги «Курсив мой» сложная. Не в последнюю очередь, как отмечала А. Кузнецова, она литературная [Кузнецова 2021, 11], но не в меньшей степени и мемуарная. Для нас важно, однако, что «горьковский текст»
Берберовой подчеркнуто документален. В лаконичном разделе о Горьком в «Биографическом справочнике» подчеркивается: по дневниковым записям, сделанным в доме Горького, «были написаны три очерка, напечатанные в “Последних новостях” в июне 1936 г, сейчас же после смерти Горького...» [Берберова 2021, 619]. Важное авторское дополнение: «Эти три очерка почти без изменений включены теперь в мою книгу» [Берберова 2021, 619]. Тем самым воспоминания о Горьком помогают реконструировать малоизученный немецкий период писателя. Эта реконструкция была частично проведена по воспоминаниям В.Ф. Ходасевича: он «довольно объективно и полно осветил важные моменты эмигрантской жизни писателя. Оценки и суждения Ходасевича, его горьковский текст занимают центральное место в реконструкции судьбы Горького немецкого периода» [Клинг 2021, 177]. Но этот опыт ни в коей мере не умаляет ценность книги Берберовой «Курсив мой». Чтобы избежать упреков во вторичности своих воспоминаний о Горьком по отношению к мемуарам Ходасевича, с которым оба они жили в доме Горького, Берберова писала: «Когда Ходасевич писал свою статью о Горьком в конце 1930-х годов, он, конечно, с моего позволения, воспользовался и моими записями, и самими очерками. Потому возможны совпадения» [Берберова 2021, 619]. Можно назвать воспоминания Берберовой и Ходасевича о Горьком «двойными зеркалами» (О.С. Кудлай), в которых отражается то совпадая, то нет, их общий герой. Безусловно, воспоминания Берберовой своего рода хроника жизни Горького, в том числе в Германии, которая важна для Летописи жизни и творчества писателя. Она существенно ее дополняет. В «Летописи жизни и творчества А.М. Горького» (1959) многочисленные факты, собранные Ходасевичем, уместились в две строчки: «Август, начало... декабрь. Встречается в Герингсдорфе и Саарове с поэтом В.Ф. Ходасевичем» [Летопись... 1959, 288]. Берберова вообще не упоминается.
В книге «Курсив мой» напрямую перекликается с Ходасевичем своеобразная интродукция к очерку о Горьком. Это «легенда», которая «пришла... через Ходасевича. Фоном ее была огромная квартира Горького на Кронкверском проспекте в Петербурге» [Берберова 2021, 202]. Интродукция почти дословно совпадает с тем местом очерка Ходасевича, где описываются обстоятельства жизни Горького послереволюционного петербургского периода. Но дальше в реконструкции жизни Горького Берберова все же идет своим путем. Правда, Берберова в начале мемуарной главы «Товий и Ангел» использует «краткие записи Ходасевича» о берлинской литературной жизни [Берберова 2021, 184]. Затем приводит «отдельный к ним листок «Встречи с Белым» [Берберова 2021, 184-185]. Про Горького она берет оттуда лишь один факт: «В Берлине Ходасевича ждало письмо Горького. Он выехал к Горькому в Херингсдорф сейчас же, как приехал, и провел там два дня» [Берберова 2021, 184]. Берберова не сопровождала мужа. И ее воспоминания о Горьком тоже не следуют за ним, они начинаются в том же Херинсдорф, где 27 августа 1922 г. на вилле Ирмгард произошло ее знакомство с писателем. Берберова еще раз подчеркивает хронологическое несовпадение ее и Ходасевича первого посещения Хе-ринсдорфа: после приезда в Германию 30 июня 1922 г. [Берберова 2021, 184] там уже был Ходасевич. Она впервые посетила Горького вместе с Ходасевичем, как указано выше, 27 августа 1922 г. Но ее портрет Горького написан не от лица «мы» (я и Ходасевич), а от лица «я» (Берберова): «И вот: первые минуты в столовой, пронзительный взгляд голубых глаз, глухой, с покашливанием голос, движения рук - очень гладких, чистых и ровных (кто-то сказал, как у солдата, вышедшего из лазарета), весь его облик высокого, сутулого человека, с впалой грудью и прямыми ногами. Да, у него была снисходительная, не всегда нравившаяся улыбка, лицо, которое умело становиться злым (когда краснела шея и скулы двигались под кожей), у него была привычка смотреть поверх собеседника, когда бывал ему задан какой-нибудь острый или неприятный вопрос, барабанить пальцами по столу или, не слушая, напевать что-то. Все это было в нем, но, кроме этого, было еще и другое: природное очарование умного, не похожего на остальных людей человека, прожившего большую, трудную и замечательную жизнь. И в тот вечеря (курсив мой. - О.К.), конечно, видела только это очарование...» [Берберова 2021, 205].
В этой зарисовке с натуры сиюминутное впечатление от облика персонажа. Но в ней есть и наслоение позднейших впечатлений, суждений: про руки писателя («кто-то сказал, как у солдата, вышедшего из лазарета»), «не всегда нравившаяся улыбка», «лицо, которое умело становиться злым», «привычка смотреть поверх собеседника». Но в этой зарисовке на первый план выдвигается «природное очарование» Горького. Берберова «видит только это очарование» [Берберова 2021, 205]. Здесь проявляется преимущество словесного материала в работе над портретом перед живописным: наложение нескольких пластов изображения, временных и пространственных, разных точек зрения. Это свойство распространяется и на многочисленные другие берберовские портреты. Их много: Андрея Белого, И.А. Бунина, А.А. Блока, Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус, других. Общее в них - наложение первого зрительского восприятия героев своей книги на более поздние, личностного видения на чужое в том числе. Наиболее ярко это проявилось в описании знакомства с Мережковскими.
Прием «сдвижения» (А.А. Ахматова о «Заблудившемся трамвае Н.С. Гумилева) разных временных и пространственных планов есть и в структуре других, не портретных частей книги «Курсив мой». Это закономерно для мемуарной литературы. Потому в портретную часть врывается более позднее знание о Горьком, но тоже от своего «я»: «.. .я не знала еще, что многое из того, что говорится Горьким как бы для меня, на самом деле говорится всегда, при всякой новой встрече с незнакомым человеком, которого он хочет расположить к себе, что самый тон его разговора, даже движения, которыми он его сопровождает, - от его актерства, а не от непосредственного чувства к собеседнику» [Берберова 2021, 205-206]. Можно предположить, что от более позднего видения ядро преамбулы к очерку о Горьком (второе предложение в горьковском сюжете) мировоззренческое:

«Не разрыв интеллигенции с народом, но разрыв между двумя частями интеллигенции казался мне всегда для русской культуры роковым. Разрыв между интеллигенцией и народом в России был гораздо слабее, чем во многих других странах» [Берберова 2021, 204]. Берберова уверяет: «В первый вечер у Горького я поняла, что этот человек принадлежит к другой части интеллигенции, чем те люди, которых я знала до сих пор» [Берберова 2021, 205]. Трудно судить, действительно ли это понимание водораздела между автором и персонажем сложилось в первый вечер знакомства. Стоит обратить внимание на смену временной организации первого дня знакомства с писателем: «Чай сменился обедом, в тишине столовой мы сидели вчетвером: Горький, Ходасевич, художник И.Н. Ракицкий... и я» [Берберова 2021, 205]. Но у Берберовой во временной организации доминирует вечер: «О чем говорилось в тот вечер? Сначала - о Петербурге» [Берберова 2021, 206]. Горький, по свидетельству Берберовой, упоминал утро: «Как удачно вы приехали... сегодня утром все уехали, и Шаляпин, и Максим» [Берберова 2021, 206]. Обед переходит в вечер: «Но к концу обеда с этим было покончено. Разговор перешел на литературу, на современную литературу, на молодежь, на моих петербургских сверстников и наконец на меня. Как сотни начинающих, да еще, кроме стихов, ничего писать не умеющих, я должна была прочесть ему мои стихи» [Берберова 2021,206].
Берберова не раз обозначает время: вечер, создавая в сюжете о Горьком своеобразный аналог цветаевского «Нездешнего вечера», впервые опубликованного в парижских «Современных записках» (1936, №61), только более камерный - с четырьмя участниками. Но это камертон воспоминаний об ушедшем из жизни к тому времени писателя.
Берберова передает впечатление Горького от своих стихов: «Он слушал внимательно...», но тут же к сиюминутному, личностному добавляет обобщение: «.. .он всегда слушал внимательно, что бы ему ни читали, что бы ни рассказывали, - и запоминал на всю жизнь, таково было свойство его памяти. Стихи вообще он очень любил, во всяком случае, они трогали его до слез - и хорошие, и даже совсем не хорошие». И тут же приводит наказ Горького, обращенный к ней: «Старайтесь... не торопитесь печататься, учитесь...» [Берберова 2021, 206]. И снова соединение в облике Горького своего и чужого: «Он был всегда - и ко мне - доброжелателен: для него человек, решивший посвятить себя литературе, науке, искусству, был свят» [Берберова 2021, 206].
Реконструируется нездешний вечер: «Горничная, убрав со стола, ушла. За окном стемнело. Теперь Горький рассказывал. Много раз после этого вечера я слышала эти же самые рассказы о том же самом, рассказанные теми же словами таким же неопытным слушателям, какой была я тогда. Но, слушая Горького впервые, нельзя было не восхититься его даром... Часы показывали второй час ночи... Руки его лежали на столе, лицо с характерными открытыми ноздрями и висячими усами было поднято, голос, колеблясь, то удалялся от меня - и это значит, что дремота одолевает меня, то приближался ко мне - и это значит, что я широко открываю глаза, боюсь заснуть. Что делать! Морской воздух, путешествие, молодость делали то, что я с трудом удерживалась от того, чтобы не положить голову на стол.
Ему не надо было ставить вопросов. Подпершись одной рукой, другой шевеля перед собой, он говорил и курил; когда закуривал, то не гасил спичек, а складывал из них в пепельнице костер. Наконец он взглянул на меня пристально.
- Пора спать, - сказал он улыбаясь, - уведите поэтессу» [Берберова 2021,207-208].
Берберова завершает описание «нездешнего вечера»: «Художник Ра-кицкий, исполнявший в доме должность хозяйки за отсутствием таковой, отвел меня наверх... В этой комнате еще накануне ночевал Шаляпин, которого я до того видела всего два раза на сцене, в России, и мне казалось, что в воздухе еще витает его тень. Когда я осталась одна, я долго сидела на постели. Я слышала за стеной кашель Горького, его шаги, перелистывание страниц (он читал перед сном). Всякое суждение о том, что я видела и слышала, я откладывала на потом» [Берберова 2021, 208]. И эти суждения Берберова действительно отложила «на потом» - в свои мемуары.
По-иному, чем первый «нездешний вечер» с Горьким 27 августа 1922 г. в Херинедорфе, Берберова структурирует еще один немецкий отрезок жизни писателя - в Саарове. Берберова в стиле летописи пишет: «25 сентября 1922 года Горький переехал в Сааров, в полутора часах езды по железной дороге от Берлина, в сторону Франкфурта-на-Одере, а в начале ноября он уговорил и нас переехать туда. Мы поселились в двух комнатах в гостинице около вокзала» [Берберова 2021, 208]. Кстати, преамбула к описанию еще первого знакомства с Горьким - в ней, со слов Ходасевича, речь шла о квартире писателя на Кронверкской - связана и сюжетом в Саарове: «“Кронверкская” атмосфера, дух постоялого двора в доме Горького, возобновилась в Саарове, в тихом дачном месте, пустом зимой, на берегу большого озера... “Кронверкская” атмосфера возобновилась, правда, только по воскресеньям: уже с утренним поездом из Берлина начинали приезжать люди близкие и случайные, но преимущественно, конечно, так называемые “свои”, которых было не мало» [Берберова 2021,208]. Семантический центр жизни Горького в Саарове - воскресный обед в доме писателя.
«И вот накрывается стол на двенадцать человек, со всего дома сносятся стулья. М.И. Будберг секретарша и друг Горького, разливает суп» [Берберова 2021, 208]. Берберова прерывает текущий хронотоп своей зарисовки и помещает краткий экскурс в жизнь Будберг, который является своеобразной аннотацией, рекламой к ее книге «Железная женщина» (Нью-Йорк, Руссика: 1982). Но снова возвращается к текущему времени и пространству: «Итак: М.И. Будберг разливает суп. Разговор за столом шумный, каждый словно говорит для себя, никого не слушая. Мария Федоровна говорит, что клецки в супе несъедобны, и спрашивает, верю ли я в Бога. Семен Юшкевич, смотря вокруг себя грустными глазами, - о том, что все ни к чему, и скоро будет смерть, и пора о душе подумать. Андрей

Белый с напряженной улыбкой сверлящими глазами смотрит себе в тарелку - ему забыли дать ложку, и он молча ждет, когда кто-нибудь из домашних это заметит. Он ошеломлен шумом, хохотом на “молодом” конце стола и гробовым молчанием самого хозяина, который смотрит поверх всех, барабанит по столу пальцами и молчит - это значит, что он не в духе. Тут же сидят Ходасевич, Виктор Шкловский, Сумский (издатель “Эпохи”), Грже-бин, Ладыжников (старый друг Горького и его издатель тоже), дирижер и пианист Добровейн, другие гости. Только постепенно Горький оттаивает, и к концу обеда затевается уже стройный разговор, преимущественно говорит сам Горький, иногда говорит Ходасевич или Белый... Но Белый здесь не такой, как всегда, здесь его церемонная вежливость бывает доведена до крайних пределов, он соглашается со всеми, едва вникая, даже с Марией Федоровной в том, что курица пережарена. И сейчас же до слез смущается» [Берберова 2021, 210-211].
Себя Берберова не упоминает, хотя мы видим происходящее за столом ее глазами. Она возвращается к конкретному эпизоду с Белым («Но может быть, это был самый верный тон, тон Белого в разговорах с Горьким?») и добавляет обобщение вневременного характера: «Спорить с Горьким было трудно. Убедить его в чем-либо нельзя было уже потому, что он имел удивительную способность: не слушать того, что ему не нравилось, не отвечать, когда ему задавался вопрос, на который у него не было ответа. Он “делал глухое ухо”, как выражалась М.И. Будберг... он до такой степени делал это “глухое ухо”, что оставалось только замолчать. Иногда, впрочем, не “сделав глухого уха”, он с злым лицом, красный вставал и уходил к себе, в дверях напоследок роняя: - Нет, это не так. - И спор бывал окончен» [Берберова 2021, 211].
Прием, использованный в описании Будберг (сначала «живая» картинка с супом, потом экскурс в ее биографию), повторяется при передаче “кронверкской” атмосферы в описании других гостей горьковского дома. После Будберг идет, как ее называет Берберова, «вторая жена», на самом деле, гражданская жена Горького М.Ф. Андреева. Берберова хотела создать и написала мировой бестселлер, но почему-то не упомянула и сотой части фактов из ее жизни, которые могли потрясти мир. Интересно, что, передавая ее речь, писательница помечает курсивом слово «вилла» из ее лексикона. Не отсюда ли в том числе выросло название книги «Курсив мой»? С титулом «железной женщины» Будберг могла конкурировать первая жена Горького - Е.П. Пешкова. Но Берберова не педалировала эти темы. Только иронично прокомментировала: «Мария Федоровна не приезжала в те дни, когда к Горькому приезжала Екатерина Павловна - первая его жена и мать его сына. Она была совсем в другом роде. Приезжала она прямо из Москвы, из кремлевских приемных, заряженная всевозможными новостями. Тогда из кабинета Горького слышалось: “Владимир Ильич сказал... А Феликс Эдмундович на это ответил...” [Берберова 2021, 209].
И еще один парный контраст «двух жен»: «С Марией Федоровной приезжал П.П. Крючков, доверенное лицо Горького, что-то вроде фактотума;
позже Сталин доказал, что он был “врагом народа”, и расстрелял его после того, как Крючков во всем покаялся... С Екатериной Павловной приезжал некто Мих. Конст. Николаев, заведующий Международной книгой. Он говорил мало и больше играл в саду с собакой» [Берберова 2021, 209].
Формально немецкий период Горького охватывал 1921-1923 гг. Однако верхнюю планку - не по географическому принципу - можно поднять до 1924 г. Не случайно Берберова пишет: «Первая “немецкая” зима сменилась второй - хоть и в Чехии протекала она, но в самом немецком (курсив мой. - О.К.) ее углу, в мертвом, заколоченном не в сезон Мариен-баде. Мы поехали туда за Горьким из Праги» [Берберова 2021, 215]. Здесь Горький пишет «Дело Артамоновых», которые Берберова высоко ценила. Структурным центром этой, мариенбадской, части автор делает страсть к кинематографу: «Один раз в неделю, по субботам, за ужином, Горький делал хитрое лицо и осведомлялся, не слишком ли на дворе холодно. Это значило, что сегодня мы поедем в кинематограф. Сейчас же посылали за извозчиком - кинематограф был на другом конце города... и вот парные широкие сани стоят у крыльца гостиницы “Максхоф” (а не Саварин, как сказано в Краткой литературной энциклопедии), мы садимся - все семеро: М.И. Будберг и Горький на заднее сиденье, Ходасевич и Ракицкий на переднее, Н.А. (по прозванию Тимоша, жена Максима) и я - на колени, Максим - на козлы, рядом с кучером. Это называется “выезд пожарной команды” [Берберова 2021, 215-216].
Как свидетельствует Берберова, зимой 1923-1924 гг. Горький пишет «Дело Артамоновых». Создание романа, который мемуаристка считала одним из высших достижений писателя, оттесняло «все другое, и даже померк его интерес к собственному журналу (“Беседе”) - попытке сочетать эмигрантскую и советскую литературу, из которой ничего не вышло. Работа не давала Горькому увидеть, что, в сущности, он остается один на один с самим собой, никого не объединив. Он ждал визу в Италию. Она пришла весной... Горький переехал в Сорренто - последнее место его заграничного житья (отсюда в 1928 году он поехал в СССР, а 17 мая 1933 году переехал туда окончательно). Осенью 1924 года мы последовали за ним» [Берберова 2021, 216].
Так окончательно завершился немецкий период жизни и творчества Горького, который объективно и довольно полно реконструировала Н.П. Берберова.
Список литературы А.М. Горький в Германии: хроника Нины Берберовой
- Берберова Н.Н. Курсив мой. М.: Издательство АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2021, 683 с.
- Клинг О.А. Немецкий период А.М. Горького в реконструкции В.Ф. Ходасевича // Новый филологический вестник. 2021. № 3(58). С. 170-178.
- Кузнецова А. Ее "Курсив". // Берберова Н.Н. Курсив мой. М.: Издательство АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2021. С. 7-18.
- Летопись жизни и творчества А.М. Горького. Вып. 3. 1917-1929. М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. 767 с.