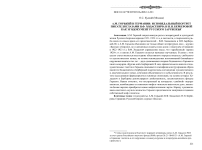А.М. Горький в Германии: исповедальный портрет писателя глазами В.Ф. Ходасевича и Н.Н. Берберовой как эгодокумент русского зарубежья
Автор: Кудлай Оксана Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
А.М. Горький сыграл важную роль в литературной и культурной жизни Русского Берлина периода 1921-1923 гг. и, в частности, в творческой судьбе одних из самых ярких его представителей - В.Ф. Ходасевича и Н.Н. Берберовой. Их с А.М. Горьким объединяло не только общее литературное дело - журнал «Беседа» в Берлине, но и жизненные сюжеты (они жили с писателем в Германии в 1922-1923 гг.). В.Ф. Ходасевич справедливо писал, что «зарубежный» период 1920-х гг. в жизни А.М. Горького остается наименее изученным. В связи с этим целью статьи является воссоздание объективного портрета писателя, свободного от идеологических клише, на основе исповедальных воспоминаний ближайшего окружения писателя тех лет - двух одноименных очерков Ходасевича о Горьком и книги мемуаров «Курсив мой» Берберовой. В ходе сравнительного анализа эгодокументальных текстов о Горьком описывается специфика конструирования образа писателя Ходасевичем и Берберовой посредством соотношения художественного и документального начал, сочетания объективности и субъективности. В результате исследования формулируются основные оппозиции, на основе которых Ходасевич и Берберова демонстрируют двойственность, неоднозначность фигуры Горького. Важно отметить, что построенный на контрастах «двойной» портрет писателя, освобождаясь от советского мифа о «писателе-властителе дум», писателе-босяке нередко приобретал новые мифологические черты. Наряду с развенчанием советского «культа личности» Горького представители эмиграции создавали собственный миф о писателе.
Эго-документы, а.м. горький, в.ф. ходасевич, н.н. берберова, германия, русский берлин, журнал "беседа"
Короткий адрес: https://sciup.org/149141247
IDR: 149141247 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-221
Текст научной статьи А.М. Горький в Германии: исповедальный портрет писателя глазами В.Ф. Ходасевича и Н.Н. Берберовой как эгодокумент русского зарубежья
Берлинское окружение A.M. Горького в 1921-1923 гг. было широким, но В.Ф. Ходасевич и Н.Н. Берберова занимали в нем особое место, так как они были не только литературными соратниками писателя за рубежом, но и жили с ним в Германии и затем в Италии. Ходасевич писал: «...мое с ним [с Горьким] знакомство длилось семь лет. Если сложить те месяцы, которые я прожил с ним под одною кровлей, то получится года полтора, и потому я имею основание думать, что хорошо знал его и довольно много знаю о нем» [Ходасевич 1997, IV, 155]. Столько же прожила с Горьким и Берберова, которой на момент первой встречи с писателем в Германии в 1922 г. был двадцать один год.
Несмотря на свидетельства о Горьком деятелей Русского Берлина, немецкий период в жизни и творчестве писателя до сих пор наименее изучен. В.Ф. Ходасевич писал: «...просматривая разные советские издания, в которых не прекращается очень детальное изучение не только творчества, но и биографии Горького, я убедился, что вся эпоха его пребывания за границей, начиная с 1921 года, либо обходится молчанием, либо, что еще хуже, дается в неверном освещении» [Ходасевич 1997, IV, 346]. В статье О.А. Клинга прослежено, как Ходасевич реконструировал немецкий период Горького [Клинг 2021]. В данной работе дана двойная оптика этой темы: главной целью является воссоздание объективного портрета писателя, не окрашенного политическими и идеологическими установками, через воспоминания о Горьком не только Ходасевича, но и Берберовой.
«Миф» о Горьком, который создавался и транслировался в Советской России, по мнению мемуаристов, не соответствует реальному образу писателя. В связи с тем, что «эта потаенная эпоха горьковской жизни» [Ходасевич 1997, IV, 346] прошла на глазах у Ходасевича и Берберовой, именно их воспоминания - «Курсив мой» Берберовой и два посмертных очерка Ходасевича о Горьком - позволяют наиболее полно и объективно восстановить портрет писателя тех лет.
Знакомство Горького и Ходасевича началось в 1918 г. в Петрограде и продолжалось до 18 апреля 1925 г, когда Ходасевич вместе с Берберовой покинули виллу Горького в Сорренто [Ходасевич 1997, IV, 155]. Берберова так подводила итоги периода тесного общения с Горьким: «Его жизнь и смерть были и есть для меня жизнь и смерть человека, с которым под одной крышей я прожила три года, которого видела здоровым, больным, веселым, злым, в его слабости и его силе» [Берберова 2021, 201]. Жизненные сюжеты переплетались с творческими, а общим и главным литературным делом для них в те годы был журнал «Беседа» в Берлине, к участию в котором Горький привлек Ходасевича, а тот - Берберову. Журнал был призван сочетать эмигрантскую и советскую литературу, быть связующим звеном между культурными процессами России и Европы. Его существование стало возможным именно благодаря авторитетной фигуре Горького (и за границей, и в Советской России), который пытался примирить реакционную интеллигенцию в эмиграции и новую, советскую. Ходасевич писал: «Редакция литературного отдела составилась из Горького, Андрея Белого и меня. Научный отдел, введенный по настоянию Горького, был поручен профессорам Брауну и Адлеру» [Ходасевич 1997, IV, 365]. Под прямым воздействием Горького началось активное участие поэта в эмигрантской печати, в литературной и культурной жизни Берлина. Берберова, в свою очередь, была переводчиком Горького (например, в переписке с Р. Ролланом) и также принимала активное участие в жизни «Беседы». В первом номере журнала были опубликованы ее стихи, перевод статьи Эл-ленса, в третьем номере - баллада Готфрида Бюргера «Ленора», которую до Берберовой переводили В.А. Жуковский и П.А. Катенин (см. [Беседа 1923-1925]). Этот факт свидетельствует о доверии Горького не только ху- дожественному вкусу Ходасевича, предложившего к публикации перевод, но и юной поэтессе. В письме Ходасевичу от 15 октября 1923 г. Горький напишет: «У меня к Berberovoi, кроме симпатии и доверие имеется, не потому только доверие, что у нее учитель хорош, а потому, что в детской душе ее чувствую и великую любовь к поэзии, и наличие таланта» [Письма Максима Горького... 1952,30, 195].
Ходасевич для Берберовой был проводником в «мир» Горького. Он познакомил поэтессу с Горьким в Германии в 1922 г, сформировал у нее образ писателя. Берберова вспоминает:
.. .он [Горький] вошел в мой круг мыслей сквозь две легенды. Первую я услышала еще в детстве: МХТ привез в Петербург «На дне». Я увидела фотографию курносого парня в косоворотке: был босяком, стал писателем. Вышел из народа. Знаменитый. <...>
Вторая легенда пришла ко мне через Ходасевича. Фоном ее была огромная квартира Горького на Кронверкском проспекте в Петербурге. Столько народу приходило туда ночевать (собственно - чай пить, но люди почему-то оставались там на многие годы), столько народу там жило, пило, ело, отогревалось (укрывалось?), что сломали стену и из двух квартир сделали одну. В одной комнате жила баронесса Будберг (тогда еще Закревская-Бенкендорф), в другой - случайный гость, зашедший на огонек, в третьей - племянница Ходасевича с мужем (художница), в четвертой - подруга художника Татлина, конструктивиста, в пятой гостил Герберт Уэллс, когда приезжал в Россию в 1920 году, в шестой, наконец, жил сам Горький. А в девятой или десятой останавливался Ходасевич, когда наезжал из Москвы [Берберова 2021, 202].
Именно поэтому очерки Ходасевича и Берберовой имеют схожую структуру: они построены на контрастах, оппозициях, сочетании объективного и субъективного. Берберова (вслед за поэтом) идет от заочно сформированного «мифа» к конструированию собственного образа Горького, к реальности, преодолевая стереотипы и даже развенчивая культ личности Горького. В воспоминаниях Берберовой и Ходасевича Горький предстает не как «властитель дум» или писатель-символ русской революции, а как живой человек, вечно думающий, сомневающийся и заражающий окружающих «полубезумным восторгом делания». Создание живого портрета, очищенного от идеологических клише, удалось мемуаристам за счет критического анализа и выгодного выстраивания оппозиций.
Ходасевич и Берберова сознательно дистанцируются от суждений о творчестве Горького. Так, «Курсив мой» открывается заданной оппозицией «Горький-писатель» и «Горький-человек»: «Как писателю Горькому не было места в моей жизни. Да и сейчас нет» [Берберова 2021, 202]. Ходасевич, вспоминая первые годы после знакомства с Горьким в России, пишет, что возникновение доверительных личных отношений при явном несходстве эстетических позиций определили характер его отношений с Горьким как «частный, житейский»: «...литературные дела возникали и

тогда, и впоследствии, но как бы на втором плане. Иначе и быть не могло, если принять во внимание разницу наших литературных мнений и возрастов» [Ходасевич 1997, IV, 152]. Очерк Берберовой о Горьком сопровождает собственная установка поэтессы, которая заключается в сознательной отстраненности от Горького-писателя. По прошествии лет Нина Берберова, приехав в СССР в сентябре 1989 г, на второй встрече в клубе МАИ на Литературном благотворительном вечере «Литфонда» не переменила мнения о Горьком-писателе. На вопрос «Расскажите о Ваших взаимоотношениях и встречах с Горьким» она ответила: «Горький - известный писатель в известные периоды своего творчества. Безусловно, он - человек XIX века. Пищи духовной от него я мало получила. “Клима Самгина” так и не смогла дочитать до конца. Но как человек - был замечательный, очень интересный» (стенограмма встречи предоставлена Е.Р Матевосян).
Двойственность Горького в глазах мемуаристов неразрывно связана и с расколом интеллигенции. Будучи одним из известнейших писателей, он был средоточием двух полюсов русской интеллигенции. Берберова пишет, что уже «в первый вечер у Горького» она поняла, что «этот человек принадлежит к другой части интеллигенции, чем те люди, которых она знала до сих пор» [Берберова 2021, 205]. Возможно, для мемуаристов он и был надеждой на примирение реакционной и революционной интеллигенции вплоть до 1924 г. Однако за эту уникальность Горький «поплатился», по словам поэтессы, «двойственностью» эстетических оценок. Несмотря на то, что человек искусства для Горького был «свят», Берберова не без иронии отмечала способность писателя сочетать в себе любовь к традиции в литературе и к «новым» советским писателям: «Любит ли он Гоголя? М-м-м, да, конечно... но он любит и Елпатьевского - обоих он считает “реалистами”, и потому их вполне можно сравнивать и даже одного предпочесть другому» [Берберова 2021, 205].
Следующая оппозиция портрета Горького - литературная «маска» и истинное «лицо» писателя. Они сочетались благодаря «нравоучительной скорлупе» [Берберова 2021, 226], в которую Горький «прятался» в неудобных ситуациях. Это проявлялось и в работе, и в общении с близким окружением: «Горького надо было выслушивать и молчать. Он, может быть, сам не считал свои мнения непогрешимыми, но что-то перерешать, что-то переоценивать он не хотел, да, вероятно, уже и не мог: тронешь одно, посыплется другое, и все здание рухнет, а тогда что? Пусть уж все останется, как было когда-то построено» [Берберова 2021, 211]. Эту «нравоучительную скорлупу» Ходасевич назовет «сладкой ложью»: «Он считал своим долгом стоять перед человечеством, перед «массами» в том образе и в той позе, которых от него эти массы ждали и требовали в обмен за свою любовь», - напишет поэт [Ходасевич 1997, IV, 174]. Не случайно Горький опасался «испортить биографию» - это сочетание в очерке Ходасевича приобрело «роль устойчивого определения» [Роговский 2018, 166]. Ходасевич убежден, что Горький - один из творцов мифа, создатель собственной «биографии»: «Часто, слишком часто приходилось ему самого себя ощущать некоей массовой иллюзией, частью того “золотого сна”, который однажды навеян и который разрушить он, Горький, уже не вправе» [Ходасевич 1997, IV, 179].
Выйти из «нравоучительной скорлупы» Горький позволил себе, по словам Берберовой, только за рубежом. Этот период поэтесса считает нравственным расцветом Горького-писателя:
Эти годы, между приездом его из России в Германию и «Артамоновыми», были лучшими во всей творческой истории Горького. Это был подъем всех его сил и ослабление его нравоучительного нажима. В Германии, в Чехии, в Италии, между 1921 и 1925 годом, он не поучал, он писал с максимумом свободы, равновесия и вдохновения, с минимумом оглядки на то, какую пользу будущему коммунизму принесут его писания [Берберова 2021, 220].
При этом Берберова, нарушая собственный принцип «дистанцирования» от Горького-писателя, довольно жестко оценивает его произведения, написанные вне зарубежного периода: «Весь этот период [двадцатые годы], несомненно, содержит вещи, которые будут жить, когда умрут его ранние и поздние писания» [Берберова 2021, 221]. Причины, связанные с «разрушением» скорлупы, поэтесса видит в свободе: живя на Западе, Горький «был свободен от российских политических впечатлений, потому что ему не диктовали и он был сам по себе» [Берберова 2021, 221].
Еще одна важная оппозиция в очерке Берберовой - «человек своего времени» и «человек нового времени». Если себя поэтесса относит к «человеку нового времени», то Горького его представления о литературе делают «человеком XIX века»: «В прозе они тоже мешали ему, делали его суждения сухими, но когда он говорил или писал о стихах, это часто бывало нестерпимо» [Берберова 2021, 207]. Будучи противопоставленными, эти понятия синтезируются в конце очерка не по близости эстетических воззрений, а по тем качествам, которые, по словам Берберовой, всегда восхищали ее в Горьком и которые были близки ей самой. В конце воспоминаний о Горьком поэтесса подробно описывает прощание с писателем:
В апреле 1925 года мы уехали. Накануне вечером я сказала ему, что самым главным в нем для меня была его «божественная электрическая энергия». «У Вячеслава Иванова, - засмеялась я, - она шла от Диониса. А у вас?»
-
- А у вас? - спросил он меня в ответ, не смеясь.
Я напомнила ему его собственное выражение, кажется, это было в 1884 году, он где-то разгружал баржу и, разгружая баржу, почувствовал «полубезумный восторг делания». Я сказала ему, что это я хорошо понимаю, но, смущаясь, опять засмеялась.
-
- Я смеюсь, - призналась я, когда он в ответ промолчал. - Но я это говорю совершенно серьезно.
-
- Я это чувствую, - сказал он, тронутый, и заговорил о другом [Берберова 2021,222].
Разрыв Горького с Ходасевичем и, соответственно, с Берберовой происходил постепенно на фоне неопределенности в связи с изданием журнала «Беседа». Он начался еще в Германии и окончательно обозначился в Италии. По мнению Ходасевича, он ощутил расхождение с Горьким после смерти Ленина, которую Горький воспринял очень болезненно. Ходасевич писал: «После смерти Ленина Горький по настоянию своего окружения пишет воспоминания о нем, нарушив тем самым свое обещание не печататься в СССР, пока не разрешат ввозить туда журнал “Беседа”» [Ходасевич, IV, 176]. В 1925 г. Ходасевич и Берберова уезжают в Париж: «...покидая Сорренто, я уже как-то не видел будущей своей встречи с Горьким. Так и случилось» [Ходасевич, IV, 371].
Общение Горького с Ходасевичем и Берберовой окончательно прекратится в августе 1925 г. О разрыве с ним Ходасевич позже напишет в письме М.М. Карповичу:
Да, ведь я Вам давно не писал. С тех пор у меня произошел разрыв с Горьким, чисто политический. Лично мы ничем друг друга не обидели. Но я просто в один прекрасный день перестал ему отвечать на письма. Я устал от его двуличности и лжи (политической!), устал его изобличать. А делать вид, будто не замечаю, - не могу. Это значило бы - лгать самому, двуличничать самому. Он же лгал мне в глаза бесстыдно. Будучи пойман, делал вид, будто и не слышит, и лгал сызнова. Отношения наши сводились к сцене из «На дне»:
Татарин: Э, э/ Зачем картам рукав совал?
Барон: А что же мне, в нос ее, что ли, сунуть?
Татарин - это я, барон - Горький. Но я такой игры не люблю» [Ходасевич, IV, 499].
Однако, несмотря на идеологические и политические разногласия с Горьким, впоследствии мемуаристы отзывались о писателе очень тепло. Это же можно сказать и о Горьком, который доверял Ходасевичу и ценил его: «...перед Ходасевичем он временами благоговел - закрывая глаза на его литературную далекость, даже чуждость. Он позволял ему говорить себе правду в глаза, и Ходасевич пользовался этим. Горький глубоко был привязан к нему, любил его как поэта и нуждался в нем как в друге» [Берберова 2021, 224]. Невзирая на разницу возрастов, литературной судьбы, эстетических представлений, Горький на протяжении нескольких лет был для Ходасевича и Берберовой «тихой пристанью» [Ходасевич 1997, IV, 480] и надеждой на примирение интеллигенции. Позже в письме Ю.И. Айхенвальду 28 октября 1926 г. поэт назовет своей «миссией» стремление поссорить Горького «с Москвой»: «Я все надеялся прочно поссорить его с Москвой. Это было бы полезно в глазах иностранцев. Иногда казалось, что вот-вот - и готово. Но в последнюю минуту он всегда шел на попятный» [Ходасевич 1997, IV, 504].
Стоит отметить, что разрыв сыграл не последнюю роль в последую- щем конструировании портрета Горького. Ходасевич, стремясь к объективности, ведет полемику со сложившимся образом Горького на родине, с «новыми» мифами о роскошной жизни писателя, которые сформировались уже в эмиграции, с «биографией», созданной самим Горьким, и, наконец, конструирует собственный, выгодный эмиграции миф о писателе. В очерке Берберовой на первый взгляд также отсутствует идеализация образа Горького. Однако наряду со стремлением к объективизации видна избирательность фактов, свидетельств и писем, представленных в мемуарах «Курсив мой».
Таким образом, воспоминания Берберовой и Ходасевича построены на контрастном развертывании образа Горького «от публичного к частному, которое отчетливее и подробнее представлено в повествовании и разрушает представление о Горьком как о влиятельной личности и мыслителе мирового масштаба» [Зименкова 2018, 195]. Сочетание объективности и субъективности, противопоставления дают читателю ценный материал о Горьком со стороны не только непосредственных участников описываемых событий, но и литераторов, которые пытались определить «феномен» Горького в культурной жизни Русского Берлина. Следует еще раз подчеркнуть, что двойной портрет писателя, представленный Ходасевичем и Берберовой, освобождаясь от стереотипов, тоже страдал определенной тенденциозностью.
В перспективе исследования жизни и творчества Горького немецкого периода стоит важная задача - изучение берлинского окружения писателя (М.И. Будберг, Андрей Белый, Н.И. Петровская, В.Б. Шкловский, Б.А. Пильняк, С.А. Есенин, П.П. Муратов и др.) для целостного воссоздания портрета Горького тех лет без идеологических клише.
Список литературы А.М. Горький в Германии: исповедальный портрет писателя глазами В.Ф. Ходасевича и Н.Н. Берберовой как эгодокумент русского зарубежья
- Берберова Н.Н. Курсив мой. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2021. 685 с.
- Беседа: журнал литературы и науки. Берлин: Эпоха, 1923-1925.
- Зименкова Н.И. Книга Н.Н. Берберовой "Курсив мой": миф о Горьком в структуре автобиографического жанра // Мировое значение творчества Горького. Горьковские чтения - 2018. Материалы XXXVIII Международной научной конференции. Нижний Новгород: БегемотНН, 2018. С. 198-202.
- Клинг O.A. Немецкий период А.М. Горького в реконструкции В.Ф. Ходасевича // Новый филологический вестник. 2021. № 3(58). С. 170-178.
- Письма Максима Горького к В.Ф. Ходасевичу // Новый журнал. Кн. 30. 1952. С. 189-202.
- Роговский А.А. Моделирование образа М. Горького в воспоминаниях В.Ф. Ходасевича // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2018. № 1(124). С. 162-168.
- Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Согласие, 1996-1997.