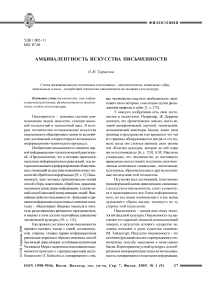Амбивалентность искусства письменности
Автор: Тарасова Ольга Игоревна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (9), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу позитивных и негативных - психологических, социальных образовательных и иных - воздействий технологии письменности на человека и его культуру.
Письменность, знак, информационная революция, фундаментальное принуждение, модель коммуникации
Короткий адрес: https://sciup.org/14974300
IDR: 14974300 | УДК: 87.66
Текст научной статьи Амбивалентность искусства письменности
Письменность – знаковая система коммуникации людей, искусство, ставшее массовой технологией и технологией масс. В истории человечества возникновение искусства письменности общепризнано одним из величайших достижений, которое открыло возможность информационно-технического прогресса.
Изобретение письменности считается первой информационно-технологической революцией. «Предполагается, что в истории произошло несколько информационных революций, под которыми понимается реформирование общественных отношений вследствие появления новых технологий обработки информации» [9, с. 5]. Письменность дала человеку принципиально новый способ сбора, накопления, обработки, хранения, освоения и трансляции информации, а также новый способ массовой коммуникации людей. Важнейшее свойство письменности – фиксация и хранение информации на различных внешних носителях – обеспечивает общение писателя и читателя, разъединенных временем и пространством, и именно в этом состоит величайшее завоевание человеческой культуры [10, с. 115].
Как правило, на технологию письменности принято смотреть только с одной, положительной, стороны. Однако первая информационная революция коренным образом изменила способ бытия всей цивилизации: устойчивая коэволюция Человека и Мира с момента использования письменности приходит к «прогрессирующей нестабильности» (Г. Бейтсон), и одновременно с тем, как человечество ощутило необходимость записывать свою историю, «оно пошло путем расходования природы и себя» [1, с. 275].
У каждого изобретения есть свои достоинства и недостатки. Например, Ж. Деррида полагает, что «фонетическое письмо, место великой метафизической, научной, технической, экономической авантюры Запада, имеет свои границы в пространстве и во времени и что эти его границы обнаруживаются как раз в тот момент, когда оно силится навязать свои законы тем областям культуры, которые до сей поры им не подчинялись» [6, с. 124]. А М. Маклюэн утверждает, что человечество до настоящего времени не смогло понять и осознать многочисленные негативные социальные, психические, культурные, образовательные и другие негативные последствия этой технологии.
Не умаляя всех достижений, позитивных трансформаций жизни цивилизации, связанных с искусством письменности, стоит усомниться в правомерности все более информационного, но все менее понимающего и все менее думающего образа жизни, заглянуть по ту сторону этой технологии.
Письменность – основа всех иных технологий западной культуры. Письменность осуществляет тот скрытый, опасный, неосмысленный поворот, в результате которого «существо человека попадает в руки существа техники» (М. Хайдеггер). Искусство письменности – это источник фундаментального принуждения к техническому способу мышления и исчислению бытия. В пространстве устной культуры, до изобретения и интериоризации технологии письменности, одновременно и носителем информации, и инструментом обработки информации был человеческий мозг. Письменность дифференцирует синкретический процесс мышления на «носителя информации» (функция памяти) и на «обработку информации» (феномен понимания). История письменности становится предысторией развития современной информатики и историей совершенствования новых технических средств связи. А человек в результате технического порабощения оказывается подверженным опасной болезни – «бегству от мышления» (М. Хайдеггер): он утрачивает способность думать, понимать, осознавать, а его сознание превращается в имитацию сознания.
Интериоризация письменности в культуру сопровождалась ощутимыми потерями, которые очень остро ощущались до той поры, пока человечество не привыкло воспринимать технический тип коммуникации с фиксированным текстом как норму, пока письменность, рукопись, книга не вошли в быт и не стали столь же обыденными явлениями, как человеческая речь [10, с. 115]. Иначе говоря, до тех пор, пока письменность и производные от нее формы культуры не стали восприниматься как естественные и эталонные.
Ю.М. Лотман, сопоставляя феномены устной и письменной речи, отмечает, что устная речь органически включается в синкретизм поведения, тяготеет к недискретности и континуумной структуре. В отличие от нее письменная речь дискретна и линейна, она – результат искусственного перевода многоплановой системы устной речи в структуру чисто словесного, последовательного текста. «Письменная форма речи – результат ряда искусственных и целенаправленных усилий для создания особого упорядоченного языка, призванного играть в общей системе культуры метаязыковую роль. Именно для такой роли он и удобен. Как средство непосредственной коммуникации между двумя непосредственно данными коммуникантами он громоздок, неудобен и исключительно неэкономен» [7, с. 327–328].
М. Хайдеггер и П.А. Флоренский говорят о свойственном устности «онтологическом единстве слуха и речи», или о «слышащей со-бытийности», о «слышащем со-присутствии», которое нарушается и разрушается при помощи технической коммуникации. Технология письменности дифференцирует одновременную со-бытийность так же, как и дву- единую способность речи и слуха. В пространстве культуры формируется не только письменная речь как эталон мета-коммуникации, но и система опосредования, техническая модель коммуникации (словами Р. Барта, «паразитарная форма опосредования»), медиум, который, во-первых, лишает человека «непосредственного бытия в мире в присутствии трансценденции», во-вторых, сам становится новой системой производства смыслов. Считается, что появление печатной книги было главным поворотом в нашей цивилизации не только вследствие содержания, которое она переносит от поколения к поколению (идеологическое, информационное, научное и т. д.), сколько в результате фундаментального принуждения к систематизации, которое она оказывает в силу самой своей технической сущности [4, с. 160].
Когда письменность, создавая цивилизованный и технический тип человека, начинает доминировать над устностью, когда в европейской науке появляются понятия «культура» и «цивилизация», когда утверждается пренебрежительное и снисходительное отношение к вне и бесписьменным культурам и цивилизациям, – именно в это время происходит так называемая письменная переоценка ценностей. Ю.М. Лотман отмечает, что, выполняя метаязыковую роль, та или иная коммуникативная система начинает занимать в сознании коллектива особое место: ей приписываются черты универсальной модели, и остальные сферы культуры начинают преобразовываться по ее образу и подобию. Те же их аспекты, которые с трудом поддаются такой трансформации или не поддаются ей совсем, объявляются незначимыми или вовсе несуществующими. Именно такую трансформацию в культурном сознании письменной эпохи переживает устная речь: ее начинают воспринимать как испорченный вариант письменной и осмыслять сквозь призму последней [7, с. 328].
Когда превращение устной ментальности в письменную достигает определенного уровня, то фундаментальное принуждение к искусственному технологическому способу мышления и миропонимания становится «естественным», «врожденным» и незаметным для доминирующего типа мышления. Поэтому и Маклюэн, и Бодрийяр неоднократно подчеркивают, что воздействие технологии письменности, последствия технологий «не позволяют себя видеть на уровне мнений и понятий, но искажают непрерывно и бессознательно воспринимаемые отношения и модели» [4, с. 160].
Идея письменности – это идея технического принципа коммуникации. Письменная речь (отстраненная от синкретизма и одновременности человеческого поведения) – это техническая модель коммуникации, или опосредованный тип коммуникации, который может быть как с техническим воспроизводящим устройством, так и без него. Переход от устности к письменности, связанный с неизбежным упрощением семиотической структуры культуры (Ю.М. Лотман), приводит к появлению неизвестного устной культуре «неравенства в творчестве» и одновременно к письменному типу равенства перед знаком и потребительской стоимостью.
При переходе к письменной коммуникации одновременность слышащего со-присутствия меняется на письменную дистанционную трансляцию готовых сообщений об истине как результате чужого умственного усилия. Письменностью впервые создается структура «безадресной речи» (А.И. Пигалев). Технологическая ситуация без-ответности и без-ответственности описывается моделью: передатчик (кодировщик) – сообщение – приемник (декодер). С этой моделью связана вся современная теория коммуникации. Бодрийяр указывает, что этой базовой формулой коммуникации выражен весь социальный обмен, которым всегда и везде управляет абстракция кода, вынужденная рациональность и терроризм разделений. Масс-медийная система может изобретать различные имитации «слышащего со-присутствия» как технически опосредованного единства слуха и речи в феномене одновременности, создавать иллюзию диалога и подлинного человеческого общения. Но иллюзия технической обратимости этой формулы коммуникации не имеет ничего общего с человеческой взаимностью.
По мнению Бодрийяра, современные системы массовой коммуникации при помощи feedback и саморегуляции уже включают в себя эти ставшие ненужными метасистемы контроля. Они научились управлять тем, что их отрицает, как дополнительной переменной. В каком-то смысле они реализуют идеал того, что можно назвать децентрализованным тоталитаризмом.
На уровне, более близком к практике, медиа прекрасно умеют задействовать формальную «обратимость» схем (почта читателей, телефонный звонок слушателей, опросы и т. д.), не оставляя никакого места для ответа, никак не меняя распределение ролей [3, с. 256].
Иными словами, устранить онтологические недостатки коммуникации технического типа, повысить ее диалогичность принципиально невозможно. Система может изобретать различные варианты и комбинации обратимости, но при этом вся фундаментальная структура коммуникации, вся операциональная форма медиа, воплощающая принцип потребления как «социальный запрет на взаимность», остается неизменной.
Отмечаемая Ю.М. Лотманом негативная тенденция к умственному потребительству неизбежно трансформируется в ситуацию «the medium is the message» («средство есть сообщение»), когда медиа при обессмысливании самостоятельной человеческой мыследеятельности становится новой формой производства смыслов. Масс-медийная модель задает готовые информационно-образные структуры и открывает возможность неограниченного идеологического, образно-мировоззренческого масс-манипулирова-ния в соответствии с модальностью социотехни-ческой системы. Контент любых медиа – это пользователь медиа. Люди, в ситуации «бегства от мышления», стали контентом медиа. Каждое средство транслирует не информационное содержание, а все новые формы людей и культур, чьи качества пригодны для медиа.
Кроме этого, письменность осуществляет так называемую аналитическую диссоциацию чувств (М. Маклюэн), расщепление одновременного, многогранного, недифференцированного единства всех форм опыта и переход к доминированию обособленного визуального восприятия мира. В результате процесса аналитической диссоциации чувств множество органически взаимодействующих пространств и времен сводится к одному-единственному качеству – визуальность. Следовательно, меняются рамки восприятия так, что из «феноменального поля восприятия могут исчезать (то есть делаться невоспринимаемыми) некоторые объекты и даже целые области, тогда как другие объекты и области, прежде невоспринимае-мые, выходят на первый план. Иначе говоря, происходит фрейминг (обрамление) феноменального поля восприятия, причем границы этого поля остаются подвижными и могут смещаться при перегруппировке чувств» [8, с. 39– 40]. Оптикоцентризм как обособленное визуальное мировосприятие и мировоззрение предопределяет пассивность человеческой мысли и человеческого сознания. Пассивность обособленного визуального мировосприятия неизбежно превращается в пассивность нетворческого, а затем и потребительского отношения к миру.
Логика обособленного визуального опыта с течением времени атрофирует интегративные способности мышления. Сокращенное восприятие мира неизбежно приводит к его упрощенному пониманию. Поэтому в рамках письменной цивилизации на основе обособленной визуальности, когда письменность становится «официальным» механизмом преемственности культуры, формируется соответствующая письменности система образования, основанная на информационно-репродуктивной модели, система массового, количественного развития технического интеллекта, формирующая искусственный технократи-чески-потребительский тип мышления.
В известных работах М. Маклюэна «Галактика Гутенберга» и «Понимание медиа» за кажущейся простотой идей и публицистичностью изложения содержится анализ фундаментального принуждения со стороны технологии письменности в силу ее технической сущности, раскрывается процесс искажения сущности человека и его культуры в результате ин-териоризации технологий письменности. Среди важнейших моментов концепции Маклюэна необходимо выделить следующее.
Величие изобретения алфавита состоит не в создании знаков. Оно заключается в принятии чисто алфавитной системы, где каждому бессмысленному звуку соответствует только один бессмысленный знак. Именно фонетический алфавит приводит к разрыву мировосприятия между глазом и ухом, между семиотическим значением и визуальным кодом, и поэтому только фонетическое письмо создает условия для перехода человека из мира родственных чувств и связей в бесчувственный цивилизованный мир социальной атомизации.
Фонетический алфавит является интенсификацией и расширением зрительной функ- ции и значительно уменьшает в любой письменной культуре роль других чувств: слуха, осязания и вкуса. Этого не происходит в таких, например, культурах, как китайская, где применяется иероглифическое письмо, что позволяет им сохранять в глубинах своего опыта тот богатый запас образного восприятия, который в цивилизованных культурах, пользующихся фонетическим алфавитом, обычно подвержен деградации.
Фонетический алфавит является технологией, ставшей средством создания «цивилизованного человека», то есть атомизирован-ных, обособленных друг от друга индивидов, равных перед письменным правовым кодексом. В отличие от устной культуры, где действие и реакция одновременны, фонетическая культура наделяет людей средствами подавления их чувств и эмоций при включении в действие. Действовать, ни на что не реагируя и не вовлекаясь, – специфическое достижение западного письменного человека.
Свойственное всем алфавитам уникальное отделение внешнего вида и звучания от семиотического и вербального содержания сделало их самой радикальной технологией упрощения и гомогенизации культур. Разделение внешнего вида, звучания и значения, присущее фонетическому алфавиту, распространяется также на многочисленные социальные и психологические последствия. Поэтому у грамотного человека происходит колоссальное расщепление образной, эмоциональной и чувственной жизни.
Только алфавитные культуры овладели связными линейными последовательностями как всепроникающими формами психической и социальной организации. Секрет западной власти над человеком и природой состоял в разбиении любого рода опыта на единообразные элементы с целью убыстрения действия и убыстрения формы (то есть в прикладном познании). Алфавит создал метод трансформации и контроля посредством превращения всех ситуаций в единообразные и непрерывные. Эта процедура, отлично проявившая себя на грекоримской стадии, приобрела еще большую интенсивность с рождением единообразия и повторяемости изобретения Гутенберга.
Основными характеристиками письменной культуры в эпоху книгопечатания становится
«линейность, гомогенность, воспроизводимость» (М. Маклюэн). Человек устной ментальности сохраняет целостность, интегральность, динамический синкретизм мировосприятия. Гипертрофированное развитие технического интеллекта является следствием аналитической диссоциации чувств и необратимой трансформации целостного мировидения в обособленное (визуальное, частичное, одностороннее) мировосприятие. Наука – доминирующая форма общественного сознания Нового времени – отказалась от человеческих чувств: от осязания, обоняния, слуха, даже в сущности от зрения, потому что в зрении наука признала объективным только восприятие, взаиморасположение элементов зрительного поля [2, с. 240]. Как отмечает М. Ше-лер, «всякая нацеленная на господство позитивная наука отключает и особенную чувственную и моторную организацию земного человека, но ни в коей мере не саму витальную организацию познавательного субъекта и его волю к господству вообще » [11, с. 45].
Диссоциация чувств как фундаментальное принуждение существом техники приводит к ситуации неестественного визуального уклона, к представляющему мышлению и созданию искусственной среды обитания. Вполне возможно, что при дальнейшем ужесточении неестественного визуального уклона «нам придется научиться жить среди несенсорной информации и возникающих из нее мыслимых, но невоспри-нимаемых концепций физики. Перед нами стоит вопрос: в какой мере мозг человека способен справиться с концепциями, чуждыми опыту, полученному с помощью органов чувств? Наше будущее зависит от того, каким будет ответ на этот вопрос» [5, с. 194]. Иными словами, вопрос в том, сможет ли выжить человек в искусственной виртуальной безбытийной реальности, противоречащей феномену человека.
Поэтому при анализе искусства письменности необходимо учитывать ее амбивалентность, не только позитивные стороны этой технологии, но и связанный с ней процесс фундаментального систематического принуждения, который реализуется и в каждой культуре, освоившей технологии письменности, и в каждом образованном человеческом сознании.
Список литературы Амбивалентность искусства письменности
- Бибихин, В. В. Слово и событие/В. В. Бибихин. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 280 с.
- Бибихин, В. В. Язык философии/В. В. Бибихин. М.: Языки славянской культуры, 2002. 416 с.
- Бодрийяр, Ж. К критике политической экономии знака/Ж. Бодрийяр. М.: Акад. проект, 2007. 335 с.
- Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структура/Ж. Бодрийяр. М.: Культурная революция: Республика, 2006. 269 с.
- Грегори, Р. Л. Разумный глаз/Р. Л. Грегори. М.: Едиториал УРСС, 2003. 240 с.
- Деррида, Ж. О грамматологии/Ж. Деррида. М.: Изд-во «Ad Marginem», 2000. 520 с.
- Лотман, Ю. М. Устная речь в историко-культурной перспективе/Ю. М. Лотман//История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПб, 2002. С. 327-328.
- Пигалев, А. И. Человек и проблема реальности/А. И. Пигалев//Человек в современных философских концепциях: материалы IV Междунар. конф., г. Волгоград, 28-31 мая 2007 г. В 4 т. Т. 1. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. С. 36-44.
- Рейман, Л. Д. Информационное общество и роль телекоммуникаций в его становлении/Л. Д. Рейман//Вопросы философии. 2001. № 3. С. 3-9.
- Чистов, К. В. Специфика фольклора в свете теории информации/К. В. Чистов//Вопросы философии. 1972. № 6. С. 108-118.
- Шелер, М. Избранные произведения/М. Шелер. М.: Гнозис, 1994. 490 с.