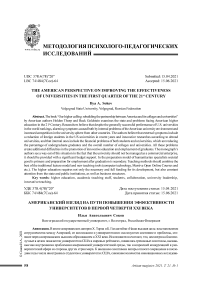Американский взгляд на пути повышения эффективности университетов в первой четверти XXI века
Автор: Соков Илья Анатольевич
Журнал: Artium Magister @artium
Рубрика: Методология психолого-педагогических исследований
Статья в выпуске: 21, 2021 года.
Бесплатный доступ
В книге американских авторов Х. Торпа и Б. Голдштейна «Наша высшая цель: восстановление сотрудничества между Америкой, ее колледжами и университетами» исследуются состояние и проблемы, стоящие перед американским высшим образованием в XXI века. Исследователи считают, что, несмотря на благополучные в целом показатели университетов США в мировых рейтингах, появились тревожные симптомы, вызванные как внутренними проблемами американской университетской среды, так и возросшей конкуренцией в университетской сфере со стороны других стран мира. К внешним симптомам авторы относят сокращение в последние годы числа иностранных студентов в университетах США, снижение количества инновационных исследований и полученных результатов по сравнению с зарубежными университетами, к внутренним - рост финансовых проблем как у студентов, так и учебных заведений, которые снижают процент студентов, окончивших бакалавриат, и сокращают общее количество колледжей и университетов. Все это создает дополнительные сложности в продвижении инновационного образования и трудоустройства выпускников. Выход из сложившейся ситуации авторы монографии видят в признании, что университет не должен управляться как коммерческое предприятие, ему должна быть оказана существенная бюджетная поддержка. В модели подготовки специалистов гуманитарного направления первичным является социальная польза, а вторичным - подготовка к занятости после окончания университета. Методики обучения должны совмещать все лучшее, что дает традиционная модель: лекции и новые инструменты преподавания (компьютерные технологии, MOOC’s и др.). Высшее образование требует не только необходимого и полного финансирования для своего развития, но и постоянного к себе внимания со стороны государственных и общественных институтов, а также бизнес-структур.
Высшее образование, профессорско-преподавательский состав, студенты, сотрудничество, университетское лидерство, инновационное обучение
Короткий адрес: https://sciup.org/149139379
IDR: 149139379 | УДК: 378.4(78)”20”
Текст научной статьи Американский взгляд на пути повышения эффективности университетов в первой четверти XXI века
В 2010 г. ректором Вашингтонского университета в Сент-Луисе Х.Г. Торпом и профессором экономического факультета университета Северной Каролины в Чапел-Хилл Б. Голдштейном была опубликована монография «Двигатели инноваций: предпринимательский университет в двадцать первом столетии» [11], в которой авторами выдвигалась идея о том, что уклон профессионального высшего образования в США в сторону подготовки предпринимателей создаст возможность решить многие вызовы наступившего XXI века. Cо временем стало ясно, что университетская проблема намного сложнее: в высшем образовании Соединенных Штатов идут многочисленные процессы и действуют различные факторы экономического, социального и культурного порядка, препятствующие развитию американской системы высшего образования. В конце 2018 г. этими же авторами была опубликована вторая книга «Наша высшая цель: восстановление сотрудничества между Америкой, ее колледжами и университетами» [12], в которой, по мнению рецензента, более глубоко освещены проблемы современного высшего образования США.
Методы
Вышеобозначенная книга состоит из введения и 12 глав, где анализируются проблемы, тормозящие развитие высшего образования в Соединенных Штатах. Решение всех рассматриваемых проблем авторами видится через восстановление тесного сотрудничества между всеми субъектами американского выс- шего образования: студентами, профессорско-преподавательским составом и административным персоналом, финансовыми спонсорами университетов, представителями бизнеса и предпринимательства, федеральными и местными властями. Безусловно, широкий анализ многочисленных факторов, влияющих на развитие университетов, делает книгу не только содержательной, но и актуальной. Сами же авторы не понаслышке знакомы с проблемами высшего образования США: Б. Голдштейн (1948 г. рождения) не одно десятилетие преподавал в университете. Х. Торп (1964 г. рождения) в 43 года стал ректором университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.
Содержание первой главы кратко информирует читателя о достижениях системы американского высшего образования, которая позволила американским университетам находиться в рейтинге пятнадцати из двадцати лучших университетов мира [12, p. 9], иметь большое количество лауреатов Нобелевской премии и патентов на открытия и изобретения в мире. На примерах из истории американского образования авторы поясняют сложившиеся особенности системы образования США.
В следующей главе авторы раскрывают все проблемы американского высшего образования, которые сводят к трем взаимосвязанным категориям: 1) демографии; 2) финансам; 3) технологиям обучения [12, p. 20]. Прежде всего, это проблема, ведущая к сокращению общего числа студентов и, соответственно, выпускников. Авторы утверждают, что в 2017 г. общее количество студентов во всех колледжах и университетах сокращалось уже шестой год подряд, и в то же время фактически ускорилось уменьшение регистрации студентов на первый курс. Это проблема связана с национальным долговым обязательством студенчества более чем в 1 трлн долл. США (далее – долл.) [12, p. 18–19] и социальными изменениями, происшедшими в их среде. Динамика долгового обязательства студентов была проанализирована в работе Р. Гейгера и Д.Е. Хеллера [6, p. 20].
Результаты и их обсуждение
По данным авторов, социальные изменения заключаются в том, что 28 % студентов имеют детей, 60 % живут за пределами кампуса, 62 % работают полный или неполный рабочий день и 38 % могут отдавать учебному дню свое время только частично [12, p. 19]. При этом значительное влияние оказывают иммиграционные и расовые изменения, произошедшие в американском обществе за последнее время. По этим же данным, только 59 % белых студентов заканчивают колледж в течение шести лет, эта доля снижается до 47 % для латиноамериканцев, 40 % для афроамериканцев и 39 % для индейцев [12, p. 23]. Хотя не белых студентов с каждым годом становится больше [8, p. 118].
Статистические показатели говорят о том, что доступность получения высшего образования в США в новом веке снижается. На это же указывают и другие исследователи [8, p. 118; 9]. Авторы исследования приводят цифры, которые подтверждают этот тезис: элитные колледжи заканчивают приблизительно 90% студентов; показатель избранных колледжей (Selective Colleges) – 70 %; уровень для четырехлетних коммерческих колледжей составляет 27 % [12, p. 54]. Главной причиной такого положения, как считают авторы, является возросшее финансовое бремя, связанное с обучением, для студентов. Они сравнивают затраты на учебу в 1980/81 учебном году с 2016/17 учебным годом. Ранее средняя ежегодная стоимость обучения в частном четырехлетнем колледже составляла – 5 594 долл., а в государственном – 2 251 долл., сейчас, соответственно, 45 385 и 20 092 долл. [12, p. 54]. Причем, регистрируясь для обучения в государственном университете за пределами штата проживания, абитуриент полу- чает только частичную финансовую поддержку и поэтому вынужден оплачивать обучение за счет собственных средств или банковского кредита [7, p. 102]. Здесь следует отметить, что 8–9-кратное увеличение стоимости обучения за прошедший 35-летний период с конца ХХ в. в меньшей степени связано с ростом финансирования самого процесса обучения, а в большей степени с тем, что денежные средства идут на финансирование более комфортного проживания в кампусах, на создание мест отдыха, финансирование студенческих клубов и спортивных команд, предоставление других многочисленных услуг, что учитывается в различных рейтингах университетов, но мало влияет на повышение процента выпускников, окончивших колледж или университет. Кроме того, колледжи часто имеют скрытые затраты, связанные с общественной жизнью и внеклассной деятельностью, которые богатые студенты оплачивают достаточно легко [12, p. 58]. По состоянию на 2015 г. национальный долг американских студентов за обучение составил 1,2 трлн долл. [12, p. 55].
Решение долговой проблемы (глава 4) авторами видится в снижении финансового бремени для студентов за счет увеличения финансирования образования в федеральном и штатных бюджетах, более широкого привлечения корпоративного финансирования будущими работодателями, увеличения финансирования образовательными фондами и т. д. Это значит, что в этом вопросе превалирует классический традиционный подход, решение которого зависит от восстановления сотрудничества в области образования между властями, бизнесом и университетами.
Кроме того, американских студентов сопровождает культурный миф о престижности окончания обучения из небольшого списка известных и элитных университетов [4, p. 182], хотя в жизнеописаниях М. Цукерберга и Б. Гейтса редко опускаются детали того, что они бросили Гарвард. Выпускники колледжей стремятся получить магистерское образование в исследовательском университете, что уже само по себе предполагает в дальнейшем получение хорошего рабочего места.
Связанной проблемой с доступностью высшего образования являются ожидания студентов, что степень бакалавра приведет их к хорошей работе и безопасному финансовому будущему. И здесь обнаруживаются разные цели у студентов и университетов. Первые надеются получить работу по окончании вуза и надежное финансовое будущее «с хорошим домом и существованием не от зарплаты до зарплаты» [12, p. 120], вторые – стремятся менять свои учебные планы, чтобы их выпускники соответствовали быстро изменяющимся требованиям рынка труда. Для выпускника американского университета, говорят авторы, проблема заключается даже не в получении первой работы, а в получении места, где можно построить карьеру, поэтому выпускник в начале своего пути может поменять до десяти рабочих мест. Быстрые изменения в требованиях к рабочей силе и в характере самой работы усиливают поговорку о том, что «высшее образование готовит студентов к работе, которая еще не существует» [12, p. 122].
Такой подход в обучении позволяет давать студентам «мягкие навыки» (Soft Skills), которые не держат выпускников в системе старых знаний, позволяя им решать практические задачи нестандартно, что хорошо оценивается работодателями. Из этого авторы делают вывод, что в XXI в. для студентов более важным является не получение большого количества по объему знаний, а освоение принципов получения нового знания и разнообразных методов и подходов.
Второй комплекс проблем заключен в самих образовательных учреждениях США. Это, во-первых, постоянное повышение стоимости образования. Авторы приводят данные, говорящие о том, что с 1997 г. средняя стоимость обучения за пределами штата в государственных университетах увеличилась на 194 %, в государственных университетах в пределах штата – на 237 %, а в частных университетах – на 157 %, что намного превышает уровень инфляции в США [12, p. 23]. Более предметно эта проблема рассматривается в работах других американских исследователей [6, p. 20; 10, p. 59–63].
Во-вторых, это неспособность посредством традиционной лекции адекватно обучить всем навыкам. Современная учебная программа колледжа должна сочетать традиционную курсовую работу по определенной дисциплине с междисциплинарными проблемными курсами, которые более точно соответствуют реальным мировым проблемам [12, p. 123]. Здесь следует заметить, что национальная дискуссия о том, какой должна быть современная учебная программа практически завершена. Проведенные за последние десятилетия лонгитюдные исследования показали, что высокоэффективные образовательные практики должны использоваться в каждом сегменте существующего обучения: очного, смешанного и онлайн-обучения [8, p. 130].
В-третьих, снижению уровня университетского образования способствует увлечение так называемыми «Массовыми открытыми онлайн-курсами – МООК» (Massive Open Online Courses – MOOC’s), которые впервые были введены в 2008 году. Главным недостатком MOOК следует считать отсутствие приемлемого способа оценки полученных знаний выпускниками, попадающими на рынок труда [12, p. 27]. Как пишут авторы, более чем десятилетний американский опыт применения MOOК показал, что смешанные классы, которые сочетают онлайн-обучение фактическому материалу с упражнениями и проектами в классе, предназначенными для применения усвоенного материала, приводят к лучшему результату, чем онлайн-обучение или обучение в одиночку [12, p. 29]. Они также поясняют, что «причины успеха смешанного обучения ясны. Материал организуется в определенные модули продолжительностью не более пяти минут и сопровождается вопросами, призванными укрепить материал и определить, понимает ли его студент. Эту комбинацию иногда называют «перевернутый класс» (Flipped Classroom) [12, p. 30]. Между тем, форму смешанного обучения многие американские и отечественные специалисты не поддерживают [1, с. 174–199; 2, с. 173–197; 3, p. 59– 63; 5, p. 400; 13].
В третьей главе Х. Торп и Б. Голдштейн анализируют важность принятия определенной стратегии по выходу из кризиса каждого из университетских учреждений. Они указывают на общие трудности в выработке эффективной стратегии обучения внутри университета, связанные с длительным циклом воспроизводства получаемого продукта (знаний и компетенций выпускника) и объективной за- держкой для проведения необходимой корректировки, сопротивлением ученых и профессорско-преподавательского состава новым идеям, постоянной конкуренцией среди подразделений университета [12, p. 34]. Созданию эффективной стратегии мешает «институциональный изоморфизм»1 университетских учреждений в системе американского образования. Авторы указывают на то, что в крупных исследовательских университетах разработка общей стратегии особенно трудна, поскольку они в основном фактически являются несколькими учреждениями, действующими под одним зонтиком [12, p. 38].
В большинстве университетских учреждений Америки считают, что у них есть жизнеспособная бизнес-модель на следующие пять лет. Такой подход минимизирует инакомыслие среди преподавателей и выпускников, тем самым откладывая неизбежность будущего кризиса (снижение доходов и новые затраты) [12, p. 40].
В главе 5 обсуждается роль профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) в создании уникального и устойчивого университета. Ожидается, что они возьмут на себя «ответственность за общественное благо в обмен на необычно высокий уровень свободы и автономии» [12, p. 60]. По мнению авторов монографии, проблема с ППС в первую очередь заключается в увеличении разрыва между имеющими постоянную штатную должность (Tenured) и частично занятыми преподавателями (Nontenured) на неполной ставке или определенном контрактном сроке. Последних не только недооценивают, им и недоплачивают, сокращают время на контакт со студентами, что отражается на качестве обучения. Кроме того, временный контракт не дает им экономическую безопасность и интеллектуальную свободу в преподавании и проведении научных исследований [12, p. 70]. Решение проблемы заключается в изменении организационных подходов к обучению. Но необходимым внесениям мешают действия нескольких факторов: привычка к установившимся традиционным методам обучения со стороны ППС, дополнительные финансовые затраты на новые инструменты преподавания (компьютерные технологии, MOOК и др.), непостоянные штатные должности. Однако все уровни ППС должны участвовать в обучении студентов в течение учебного года и желательно преподавать в летних школах. При этом давать студентам навыки, действующие в реальном мире, такие как сотрудничество, тимбилдинг и критическое мышление [12, p. 63].
Авторы монографии также указывают на то, что американская система найма ППС на один год или по контракту на 5 лет не способствует внедрению высокоэффективных образовательных практик. Кандидатами на должности ППС обычно являются выпускники аспирантуры, где они провели 4–10 лет, и специалисты пост-докторского обучения, которое длится 2–3 года. При этом их начальная заработная плата колеблется от 60 тыс. долл. США в гуманитарных, от 80 тыс. долл. в исследовательских университетах и до 150 тыс. долл. в экономических и бизнес-шко-лах [12, p. 70]. Поэтому лучшие из них не стремятся закрепиться в образовании.
Далее в главе 6 авторами обсуждается принятый в последнее время некоторыми американскими университетами для достижения лидерства корпоративный стиль управления. В образовательном сообществе, которое объединяет университет, особенно важно развитие согласия, обозначаемое термином «negotiate», имеющем в том числе и значение «достигать самого высокого результата». В американском университете исторически сложились конкурентные отношения, непростая структура и система управления образовательным учреждением. В качестве примеров Х. Торп и Б. Голдштейн приводят разгоревшиеся дискуссии о внедрении MOOК, сторонники которых утверждали о революционном перевороте и его внедрении в высшее образование. Время и последующие события показали, что система MOOК была только частью большего движения за изменение традиционного метода обучения [12, p. 74].
В США система управления университетами как частными, так и государственными достаточно сложная. Если согласований по управлению в государственных университетах меньше, то все ректоры университетов штатов прямо или косвенно служат своим легислатурам. Роль попечителей государственных и частных университетов также различна. В частных университетах, как правило, коми- тет по назначениям предлагает новых попечителей, и в большинстве случаев ректор является членом комитета по назначениям, гарантируя связь между внутренним руководством и внешним руководящим органом. Попечители государственных университетов назначаются политиками, часто в обмен на поддержку избирательной кампании и сбор политических средств. Ректор почти не играет никакой роли в выборе этих попечителей и часто впервые встречается с новыми попечителями после их назначения [12, p. 78].
У попечителей есть две формальные роли: первая связана с внутренними аудитами и потенциальными судебными исками, вторая заключается в том, что они являются главными спонсорами. В отдельных университетах они входят в правление. Фактически, в последнее десятилетие исследовательские университеты стараются привлечь внимание опекунов к образованию выпускников и проводимым ими исследованиям [12, p. 80–81].
Как бы то ни было, в настоящее время основная проблема эффективного управления университетом, по мнению авторов исследования, заключается в «отсутствии взаимодействия» (Lack of Engagement) между президентом, правлением, попечителями, властью и избирательными округами штатов, которое выражается в недостаточности выработки эффективной стратегии для университета; в ограниченном микроуправлении (Micromanagement) университетским руководством всего комплекса учебного процесса; в неспособности решения неприятной проблемы с помощью «раскрытия карт» (Put the Skunk on the Table) – другими словами «лучше “поднять телефон и высказать проблемы прежде, чем они создадут кризис”» [12, p. 87–88].
Отдельная седьмая глава посвящена академической медицине 2, которую авторы называют как «слона-то я и не приметил» (The Elephant in the Room 3). Характеризуя академическую медицину, они пишут, что только 147 университетов в Соединенных Штатах имеют медицинские школы, но почти каждый колледж и университет поставляет таланты и идеи в американскую медицинскую систему [12, p. 89]. Медицинские школы 4 значительно отличаются от других университетов, потому что это многопрофильные учреждения, где не только обучают студентов, но и проводят клинические испытания и имеют медицинскую практику внутри или за пределами университета. Самым известным примером является университет Питтсбурга, где преподаватели медицинской школы получают две зарплаты: одну от медицинской школы, а другую от выполнения плана практики факультета, который находится в медицинском центре университета [12, p. 92].
Соответственно, и финансирование медицинских университетов различно. В любой форме взаимодействие между университетом и медицинским центром важно, потому что клиническая прибыль больницы является значительным источником дохода для медицинской школы, хотя сумма и процесс могут сильно варьироваться. В некоторых учреждениях определенная часть прибыли больницы возвращается в медицинскую школу; в других – медицинская школа должна запрашивать трансферты у системы здравоохранения в течение года [12, p. 92].
Авторы монографии подчеркивают, что медицинская школа в составе университета – дополнительная проблема для его руководства в части ее финансирования, хотя и она имеет свои плюсы, которые они обозначили, используя старую американскую шутку 5. Государственное финансирование медицинских исследований составляет 40 центов к доллару от общего финансирования. Ассоциация американских медицинских колледжей (AAMC) оценивает, что научные медицинские центры предоставляют пятьдесят три цента дополнительного финансирования на каждый доллар внешнего финансирования по исследованиям [12, p. 94].
Другой проблемой медицинских центров и университетов являются нетерпеливые ожидания общественности в получении клинических результатов. Так как в них проводятся в большей степени фундаментальные исследования, то возникает необходимость в их продвижении от лабораторного стола до больничной койки, которую может осуществить так называемая «трансляционная медицина»6, а эта область обычно упоминается как «внедренческая наука».
Между тем проблемы, связанные с управлением научной медициной, перекрываются общественным и экономическим благом, которое она приносит. Медицина – двигатель деловой активности, роста валового внутреннего продукта государства. Все это обеспечивается лидерством научной медицины в высшем образовании.
Восьмая глава повествует о взаимосвязи региональных экономик и расположенных на этой территории университетов и колледжей. Авторы указывают, что «около семи тысяч колледжей и университетов в Соединенных Штатах предоставили работу 4,1 млн человек осенью 2014 г., и этот сегмент увеличился на 1,6 млн новых рабочих мест между 1989 и 2014 годами. Расходы на высшее образование в Соединенных Штатах составили 517 млрд долл., которые были потрачены на зарплаты, товары и услуги в течение 2013– 2014 учебного года» [12, p. 98].
Хотя основная цель университетов – образование и создание новых знаний, экономическое воздействие крупных исследовательских университетов хорошо известно. Так, «выпускники Массачусетского технологического института создали 30 000 активных компаний, в которых работают 4,6 млн человек, приносящих доход в размере 1,9 трлн долл., что эквивалентно десятой по величине экономике в мире. Выпускники Гарварда были ответственны за создание 146 000 компаний, 20,4 млн рабочих мест и 3,9 трлн долл. в качестве дохода. Годовой доход от компаний, основанных выпускниками Стэнфорда, оценивается в 2,7 трлн долл., при этом 18 000 калифорнийских компаний производят товаров и услуг на 1,27 трлн долл. и нанимают 3 млн человек. Фактически можно утверждать, что 62 исследовательских университета, входящих в Ассоциацию американских университетов, являются одними из самых мощных и надежных генераторов экономического роста в экономике США» [12, p. 99].
Авторы также подтверждают экономическую роль некрупных университетов, расположенных в небольших городках и сельских районах, для региональных экономик, приводя в тексте многочисленные примеры, а также отмечают, что вновь созданные компании, внедряющие инновационный продукт университетов, несмотря на непродолжительный срок своего существования (до трех лет), ежегодно создают 1,5 млн рабочих мест. Во время «Ве- ликой рецессии» (Great Recession 7) новые компании были единственным источником положительного чистого роста занятости; старые фирмы теряли больше рабочих мест, чем создавали [12, p. 101].
Далее в своем исследовании Х. Торп и Б. Голдштейн сформулировали и раскрыли методы экономического развития американских университетов и практическое использование созданных ими инноваций, среди которых: разработка экономического развития и политической поддержки университета, рациональная политика передачи технологий за пределы университета, управление конфликтами интересов, преодоление пропасти между наукой и коммерциализацией, установление реалистических ожиданий.
Девятая глава включает рассуждения авторов о необходимости объединения в университетах фундаментальных исследований с предпринимательством и о поиске баланса между достойными целями открытия новых знаний и новых предприятий, которые создают рабочие места и экономическое развитие, что является важной частью восстановления сотрудничества. По мнению авторов, это действительно существенная проблема американского высшего образования, которая должна решаться через правильный подход университетов, чтобы охватить инновации и предпринимательство, но не за счет других важных университетских приоритетов [12, p. 109]. Безусловно, фундаментальные исследования должны оставаться приоритетом в силу необходимости получения новых знаний, которые нужно сопровождать прикладными исследованиями для их практического использования через предпринимательство. Поэтому авторы считают, что студенты должны получать в большей степени прикладные знания и участвовать в прикладных исследованиях, нацеленных на решение проблем реального мира. Для этого в учебных планах необходимо закладывать развитие предпринимательского мышления у студентов, которое дает им возможность понять, как базовые знания работают в более широком мире, а обучение предпринимательскому мышлению как полезной привычке ума для студентов XXI в. не должно ограничиваться бизнес-школой [12, p. 113].
Это же касается и гуманитарного образования, ведь оно: «Как привычка ума, которая пригодится практически в любой сфере жизни.... и как определенная практика, которая может быть применена к различным проблемам и возможностям» [12, p. 114, 116]. Кроме того, авторы считают, что гуманитарное образование – это идеальная подготовка к инновационному мышлению, которое требует навыков предпринимательства в широком смысле. Причем, продолжают авторы, когда инновации и предпринимательство определяются в широком смысле как способ мышления, который может быть применен практически к любой проблеме, тогда значительные изменения во всей учебной программе могут иметь место, не угрожая идеалам традиционного гуманитарного образования [12, p. 117].
В следующей главе авторы обсуждают связь между образованием и последующей работой выпускников. Они утверждают, что сегодняшние студенты колледжа хотят прежде всего знать, на что они потратят четыре года жизни, заплатив за четыре года образования, и найдут ли они работу, дающую «хороший дом и жизнь не от зарплаты до зарплаты» [12, p. 120]. Поэтому запись идет в первую очередь на курсы, связанные с бизнесом, здравоохранением, журналистикой, то есть с теми областями, которые дают навыки и опыт, полезные в реальном мире. Статистика показывает, что только 2–2,8 % выпускников этих направлений не имеют работы, тогда как 5– 7 % выпускников гуманитарных направлений были безработными в течение 6 месяцев после окончания вуза [12, p. 121].
Особенность американского трудоустройства выпускников университетов заключается не в длительности первоначального периода нахождения работы, а в нахождении места, где им можно начать свою трудовую карьеру, но для этого приходится сменить до двадцати мест [12, p. 122]. Второй особенностью трудоустройства являются требования работодателя к поступающему как «пожизненному ученику» (Lifelong Learner) и поэтому преимущество получают легко обучающиеся претенденты.
Одиннадцатая глава посвящена формированию диалога между университетской средой и общественностью, чтобы сформировать необходимые принципы сотрудничества в условиях вызовов XXI века. Авторы признают, что такой диалог активно ведется по всей стране, но пока в нем высказываются претензии и неудовлетворенность каждой из сторон. По мнению Х. Торпа и Б. Голдштейна, необходимо всеми сторонами диалога выработать общепринятые цели для основных миссий обучения и исследований, а не использовать существующие «тангенциальные цели»8, такие как «усилия в инновациях и предпринимательстве, выполнение новых норм федерального права, удовлетворение студенческих проблем о программах… обеспечение здравой информационной технологии» [12, p. 137]. Для этого университет должен быть прозрачным со всеми его заинтересованными лицами во всех иногда противоречивых ситуациях, которые им были сделаны, а общественность должна слышать голоса руководства, ППС и студенчества.
При этом авторы считают, что университеты сделали недостаточно, чтобы их услышали. Они должны шире рассказать о той важной работе, которая продолжается внутри их стен. «Именно поэтому очень много отчетов об успешных исследованиях становятся неожиданностью для внешних заинтересованных лиц» [12, p. 139].
В последней главе авторы монографии отмечают, что процесс восстановления сотрудничества в США идет полным ходом и не проходит дня, чтобы они сами не были вовлечены в обсуждение проблем высшего образования. Они понимают сложность общественного диалога, но все же дают некоторые рекомендации для отдельных категорий участников обсуждения университетских проблем, которые заключается в следующем: 1) невмешательство попечителей и академических чиновников в мелочи организации обучения; 2) возможность ректору подбирать собственную команду; 3) понимание, что ректор прежде всего преподаватель, а уже потом администратор; 4) сбор средств для университета должен соответствовать главным приоритетам, что является, безусловно, лучшим способом влиять на будущее учреждения; 5) проведение исследований – это основной метод обучения; 6) создание эффективного учебного плана – всегда залог успеха, ведом- ственная политика распределения ресурсов должна быть направлена на эффективность профессиональной подготовки студентов; 7) близость преподавателей и администраторов университетов к студентам, потому что они лучшие послы для учреждения, поскольку вскоре станут постоянными членами сообщества выпускников, спонсорами и высокопоставленными чиновниками; 8) полная возможность студентов перед поступлением познакомиться не только с прайс-листом обучения, но и полными условиями жизни в университетском городке, особенностями учебного плана и перспективами получения работы после окончания обучения; 9) понимание студентами, что большая часть познания идет вне классной комнаты: на общественных лекциях, концертах, художественных выставках и театрах, а также в лабораториях и на иных практиках. Так как только небольшая доля студентов принимает активное участие в данных мероприятиях, есть необходимость воссоединения выпускников с обучающимися студентами, потому что многие проблемы университета вытекают из этого разъединения; все ППС в течение срока пребывания должны быть вознаграждены возможностью проведения своих исследований и публикации своих результатов, потому что это ключ к успеху (в том числе и университета); профессорско-преподавательский состав должен активно участвовать в жизни университетского сообщества; рост числа частично занятых преподавателей и изолированное образование выпускника создает плохие перспективы для аспирантов. Решение состоит в том, чтобы упрочить перспективы получения работы для аспирантов с целью получения научных результатов в целом для университета.
Понятно, что это не полный перечень мер, необходимых для восстановления сотрудничества между университетами и американским обществом, но становятся понятны предположения авторов монографии по поводу того, что эти меры должны быть комплексными, потому что на вопрос: «Если студенты не являются клиентами, то кто же клиенты для университетов?» они ответили: «Американская общественность: фактически каждый американец прямо или косвенно связан с нашей системой высшего образования» [12, p. 149].
Заключение
Рецензируемая монография была опубликована в 2018 г., а написана еще раньше. Многие проблемы американского высшего образования, рассмотренные в монографии, касаются и отечественной высшей школы. Однако, изучая американский опыт, мы можем не повторять их ошибок и заблуждений, особенно в области инновационного образования.
Прошедший 2020 г., – год пандемии коронавируса COVID-19 – перевернул у нас в России и за рубежом многие представления об инновациях в образовании. Сейчас полученный опыт осмысляется и у нас, и в США. Но, несмотря на прошедшее время, книга не потеряла своей актуальности и основного посыла, что в решении проблем высшего образования должны быть заинтересованы все государственные и общественные институты, бизнес-структуры. Высшее образование требует постоянного к себе внимания.
Список литературы Американский взгляд на пути повышения эффективности университетов в первой четверти XXI века
- Рощина, Я. М. Спрос на массовые открытые онлайн-курсы (MOOC): опыт российского образования / Я. М. Рощина, С. Ю. Рощин, В. Н. Рудаков // Вопросы образования. – 2018. – № 1. – С. 174–199. – DOI: https://doi.org/10.17323/1814-9545-2018-1-174-199.
- Семенова, Т. В. Рынок массовых открытых онлайн-курсов: перспективы для России / Т. В. Семенова, К. А. Вилкова, И. А. Щеглова // Вопросы образования. – 2018. – № 2. – С. 173–197. – DOI: https://doi.org/10.17323/1814-9545-2018-2-173-197.
- Третьяков, В. С. Открытые онлайн-курсы как инструмент модернизации образовательной деятельности в вузе / В. С. Третьяков, В. А. Ларионова // Высшее образование в России. – 2016. – № 7. – С. 55–66.
- Bruni, F. Where You Go Is Not Who You’ll Be: An Antidote to the College Admissions Mania / F. Bruni. – New York : Hachette Book Group, 2016. – 272 p.
- Cole, J. R. Toward a More Perfect University / J. R. Cole. – New York : Public Affairs, 2016. – 432 p.
- Geiger, R. Financial Trends in Higher Education: The United States / R. Geiger, D. E. Heller // Peking University Education Review. Working Paper. – 2011. – № 6. – Electronic text data. – Mode of access: https://ed.psu.edu/cshe/working-papers/wp-6 (date of access: 30 December 2020). – Title from screen.
- Grawe, N. Demographics and the Demand for Higher Education / N. Grawe. – Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2017. – 192 p.
- Keyek-Franssen, D. Practices for Student Success: From Face-to-Face to At-Scale and Back / D. Keyek-Franssen // Educational Studies Moscow. – 2018. – № 4. – P. 116–138. – DOI: https://doi.org/10.17323/1814-9545-2018-4-116-138.
- Peterson, J. Saddle Up: 7 Trends Coming in 2018 / J. Peterson, L. Rudgers // Inside Higher Ed. – 2018. – Electronic text data. – Mode of access: https://www.insidehighered.com/views/2018/01/02/predictionshigher-education-coming-year-opinion (date of access: 30 December 2020). – Title from screen.
- Rosovsky, H. Research Universities: American Exceptionalism? / H. Rosovsky // Carnegie Reporter. – 2014. – P. 59–63. – DOI: https://doi.org/10.6017/ihe.2014.76.5519.
- Thorp, H. H. Engines of Innovation: The Entrepreneurial University in the Twenty-First Century / H. H. Thorp, B. Goldstein. – Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2010. – 184 p.
- Thorp, H. H. Our Higher Calling: Rebuilding the Partnership Between America and its Colleges and Universities. – Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2018. – 288 p.
- Wieseltier, L. The Unschooled / L. Wieseltier // The New Republic. – Electronic text data. – Mode of access: https://newrepublic.com/article/111376/theunschooled (date of access: 30 December 2020). – Title from screen.