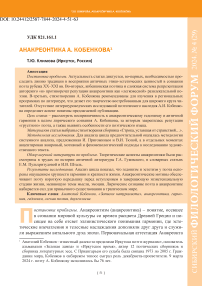Анакреонтика А. Кобенкова
Автор: Климова Т.Ю.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Современное литературоведение: идеология и поэтика
Статья в выпуске: 4 (29), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Актуальность статьи диктуется, во-первых, необходимостью проследить линию традиции в восприятии античных этико-эстетических ценностей в сознании поэта рубежа ХХ-ХХI вв. Во-вторых, кобенковская поэтика и сложная система репрезентации авторского «я» противоречат репутации анакреонтики как «легковесной» развлекательной поэзии. В-третьих, стихотворения А. Кобенкова рекомендованы для изучения в региональных программах по литературе, что делает его творчество востребованным для широкого круга читателей. Отсутствие литературоведческих исследований поэтического наследия А.И. Кобенкова определяет аспект новизны предлагаемой публикации. Цель статьи - рассмотреть восприимчивость к анакреонтическому гедонизму и античной гармонии в целом лирического сознания А. Кобенкова, за которым закрепилась репутация «грустного» поэта, а также выявить особенности его поэтического языка. Материалом статьи выбраны стихотворения сборника «Строка, уставшая от странствий…». Методология исследования. Для анализа цикла предпочтительной оказалась методология системного анализа, предложенная И. Пригожиным и В.И. Тюпой, а в отдельных моментах акцентирован жанровый, мотивный и феноменологический подходы к исследованию художественного текста. Обзор научной литературы по проблеме. Теоретические аспекты анакреонтики были рассмотрены в трудах по истории античной литературы Г.А. Гуковского, в словарных статьях Е.М. Пульхритудовой и И.В. Шталь. Результаты исследования. Анализ цикла показал, что гедонизм и эстетизм у поэта оспорены ощущением хрупкости гармонии и краткости жизни. Анакреонтические мотивы обеспечивают поэту короткую передышку перед вступлением в завершающую экзистенциальную стадию жизни, меняющую темы мысли, эмоции. Лирическое сознание поэта в анакреонтике набирается сил для привычного существования в трагическом мире.
Анатолий кобенков, «записки натуралиста», анакреонтика, гармония, гедонизм, легкая поэзия, двухголосие
Короткий адрес: https://sciup.org/144163256
IDR: 144163256 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.24412/2587-7844-2024-4-51-63
Текст научной статьи Анакреонтика А. Кобенкова
П остановка проблемы. Анакреонтизм (анакреонтика) – понятие, осевшее в сознании мировой культуры со времен расцвета Древней Греции и носящее на себе отсвет эллинистического понимания гармонии, где эстетические впечатления и телесные наслаждения дополняли друг друга и служили выражением витального духа эпохи. Первоначальная аттестация Анакреонта
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)
как «классика любовной, эротической поэзии» [Гиленсон, 2001, с. 143] и даже «символа игрового, изящного веселого эротизма» (А. Ф. Лосев) [Цит. по: История греческой литературы, 1946, c. 143] вышла из узких рамок исключительно эротической и застольной тематики, поскольку позднее за анакреонтикой закрепилась репутация «легкой жизнерадостной лирики», которая после смерти поэта была унаследована европейской литературой Ренессанса и Просвещения и оказала заметное влияние на поэзию вагантов-голиардов, П. Ронсара, В. Шекспира, Р. Бернса, П. Беранже. Вместе с тем в 1970-е гг. популярность анакреонтики уже стала нуждаться в оправдании: И.В. Шталь подчеркивала, что «радостно-спокойное светлое мировосприятие» Анакреонта не имеет ничего общего с беспечной легкостью и нарочитой бездумностью литературы упадка» [Шталь, 1974, с. 15], а Б.А. Гиленсон настаивал на том, что Анакреонт не был просто легкомысленным поэтом [Гиленсон, 2001, с. 144], иначе он не смог бы оставить заметного следа в мировой поэзии. Это тем более очевидно, что в отечественной поэзии анакреонтические стихи писали такие серьезные представители искусства поэзии, как М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, К.Н. Батюшков, В.В. Капнист и А.С. Пушкин.
Параллельно с анакреонтикой литературоведческие источники фиксируют также термин «легкая поэзия», соотнося его с французской поэтической традицией конца XVIII – начала XIX в. В русской лирике в ряду корифеев «легкой поэзии» названы И.Ф. Богданович с его «игровой и трогательной историей любви Амура и Психеи» в «Душеньке», К.Н. Батюшков и вновь А.С. Пушкин. В статье Е.М. Пульхритудовой в качестве заслуг легкой поэзии перед словесностью акцентирована ее роль в освобождении литературного языка от «архаизмов и напыщенного многословия» [Пульхритудова, 1987, с. 177]. Очевидно, в этих словарных определениях речь идет о той же анакреонтике, но с учетом коррекции отношения к феномену «легкости». В новом понимании анакреонтика и «легкая поэзия» утратили репутацию bagatelle и получили идеальное выражение в словосочетании «изящная словесность» с ее чуткостью к совершенному – форме, звучанию, образному строю. Набор мотивов, соответствующих гедонистической установке анакреонтической лирики, – «земные радости, вино, любовь, – реже политическое свободомыслие» [Анакреонтическая поэзия…, 1987, с. 23] – органичен для лирического сознания как такового, поскольку в мировосприятии приоритетны душа, зрачок и особый слух, а сама лирика есть «объяснение в поэтической любви» (Н. Глазков).
Цель статьи – выяснить, какие ценности анакреонтики актуальны для поэзии негалантного века и какое место они занимают в мироощущении и словаре поэта А. Кобенкова, где концепты печали, грусти встречаются чаще, чем восклицательный знак.
Материал ом статьи явились стихотворения сборника «Строка, уставшая от странствий…», и в частности цикл «Записки натуралиста», в котором ориентация на античную традицию вербализована отсылкой к имени Анакреонта и поддержана общей атмосферой цикла.
Методология исследования. Для анализа цикла предпочтительной оказалась методология системного анализа, предложенная И. Пригожиным и В.И. Тюпой, а в отдельных моментах акцентирован жанровый, мотивный и феноменологический подходы к исследованию художественного текста.
Обзор научной литературы по проблеме. Теоретические аспекты анакреонтики были рассмотрены в трудах по истории античной литературы Г.А. Гуковского [Гуковский, 2001], в словарных статьях Е.М. Пульхритудова [см. Пульхритудова, 1987, с. 177] и И.В. Шталь [Шталь, 1974, с. 15]. Метрический диапазон анакреонтики и античную просодию изучали К.Ю. Лаппо-Данилевский [Лаппо-Дани-левский, 2019], M.L. West [West , 1986]. «Запискам» как жанру посвящена статья монографии «Поэтика незавершенного» [Феномен незавершенного, 2019]. А по творчеству А. Кобенкова в «Сибирских огнях» опубликовано несколько историко-биографических статей, которые не имеют прямого отношения к заявленной проблематике.
Результаты исследования. По складу души А. Кобенков - поэт негромкий: тишина в его стихе ощущается как музыка и обязательное условие гармоничной жизни («Ни реки, ни птицы, ни волки…», «Лист легко и торжественно…», «Бабушка очки искала тихо...» и т.д.). Музей Кобенкова, как его мыслил автор, - самый тихий на свете музей («До чего же я жил бестолково.») [Кобенков, 2003, с. 56]2. Поэт намеренно уходит от монументальных тем, идеологии и гражданского пафоса - всего того, что делает поэзию рупором эпохи, и уже этим близок Анакреонту, предпочитавшему любовные «доблести» воинским. Место А. Кобенкова в том русле отечественной традиции, где формировалась тихая, онтологическая, медитативная лирика. Поэт откровенно предпочитает Сократу думающему Орфея поющего. Разгульно-веселых вакхических или неодиоисийских эмоций поэту хватало в жизни: и такое вытворял с собой / что писать об этом некрасиво («Письмо, которое не будет отправлено») [с. 58], поэтому у него вакхичен… орфеен и земляничен любой человек «лучащийся», а не горящий («Из наставлений Варваре») [с. 410-411]. Безусловно, лирическому герою Кобенкова привычно выпить с дворником «Столичной», но не от тяги к буйному веселью, а от грусти («Стихи про осень и про дворника») или за Пушкина, / за старый сад, за Анну Керн («Тетрадь из Михайловского») [c. 32], а рюмка у поэта – не сосуд для обильных возлияний, а повод для метафорических сближений. Так появляются «пушистые рюмки волнушек» [c. 36] с розовой росой и «рюмка тишины» [c. 120].
Сборник «Строка, уставшая от странствий…» (2003) стал и поводом для выделения анакреонтических мотивов и объяснением причин их появления. В «Истории греческой литературы» под редакцией С.И. Соболевского сообщается, что Анакреонт как поэт странствующий не был привязан к какой-либо конкретной местности. Уставшая от странствий душа поэта Кобенкова запросила отдохновения. Как известно, болящий дух врачует песнопенье… (Е. Баратынский),
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)
и в связи с этим анакреонтика Кобенкова дает повод рассмотреть Все, что надобно, – / под рукой, / рядышком, / при душе … («Спасибо лесу…») [c. 187].
Структура цикла. Цикл «Записки натуралиста»3 состоит из предисловия и 8 стихотворений. Выбранный автором жанровый код «записок» не характерен для поэзии в целом и для творчества А. Кобенкова, не имеет жанровой памяти и скорее соответствует задачам мемуаристики. Фиксация индивидуального поэтического опыта в форме «записок» обеспечивает интимность переживаний в непубличном слове, «фрагментарность, персонализированность и процессуаль-ность» [Савкина, 2013, с. 338].
Поэтическое слово, напротив, предназначено для публичного существования, тщательно отбирается и проверяется на совместимость с окружением. На этом контрасте и построены «Записки натуралиста».
Восемь озаглавленных мгновений жизни оживают в памяти по закону ассоциаций, а не логики, поэтому читать их можно в любой очередности. Заключающее цикл стихотворение под названием «Последняя страница» не содержит в себе ничего итогового ни по смыслу, ни по интонации. Речь прервалась не по причине исчерпанности темы, а из-за внезапной смерти ее носителя. Правда, сила поэтической инерции выносит поэта еще к одному крохотному циклу - «Капельки жизни. Записки незнакомца», который в сборнике «Строка, уставшая от странствий…» следует сразу после «Записок натуралиста».
Как представляется, выбор «записок» обусловлен импульсом к поиску новых способов репрезентации «я», не сумевшего с годами склониться к «суровой прозе»: поздно / менять друзей, переходить на прозу / и превращать ладони в кулаки («К музе с кузнечиком») [с. 175]. В данном случае речь идет о выборе маски, опосредующей авторское слово. В предисловии к циклу задача авторского самораскрытия доверена некоему Константину Ивановичу Земнухову, бухгалтеру на пенсии, соседу по дому, по балкону и, главное, по стихам. Прозаическая часть служит метадискурсом, поясняющим содержание цикла, но существует автономно от него.
Полный набор участников коммуникации: сосед-публикатор, имплицитный автор, который в завершающем стихотворении цикла становится эксплицитным, обретая имя поэта Кобенкова, - знаком по пушкинским «Повестям Белкина». Реконструирована и сама ситуация: Земнухов после смерти завещал стихи соседу Кобенкову.
Выбор профессии Земнухова столь же значим, как тематика и атмосфера цикла: для поэта бухгалтерия - занятие, полярное творчеству, - конкретное и непоэтичное, как для обывателей поэт - воплощение праздной жизни, поэтому бухгалтер и поэт изначально заявлены как оппоненты.
Записки, названные «странными, несовершенными», для публикатора представляют «не научный, а человеческий интерес» [с. 115] и обеспечивают циклу двухголосость. Несовпадение точек зрения Земнухова и Кобенкова намечается уже в предисловии, где публикатор отказывает соседу в статусе ученого-натуралиста, приводя в свидетели управдома Марию Петровну Ковалеву. Внутри цикла Земнухов симметрично отказывает Кобенкову в статусе поэта. Извиняясь в предисловии перед читателями за соседство неумелых записок Земнухова со своими «совершенными стихами», автор-публикатор демонстрирует иронию, сокращающую дистанцию между случайным, необязательным обращением к рифмам и стихами, ставшими профессией и судьбой. Это же обстоятельство свидетельствует о периферийной позиции героя с фамилией автора: преобладающая оптика приписана другому «я» – маске. Вместе с тем доверие к автору-публикатору расшатывает, например, упрек Земнухову, увидевшему у стрекозы всего два крылышка вместо шести. На самом деле их четыре, но поэтическое зрение соседа-натуралиста оказывается точным: стрекозу он рассматривает в профиль. В итоге двухголосия в цикле получился симбиоз прозаического и поэтического, биографического и свободной фантазии, натурализма и образного обобщения.
Анакреонтические мотивы как формулы идентичности. Сложная организация структуры «Записок…» и наличие нескольких «голосов» заставляют искать идентификационные коды разных «я», их доминантные формулы.
Анакреонтика в цикле заявляет о себе на нескольких уровнях. На тематическом – имя Анакреона (в старинной записи имени, как у М. Ломоносова и А. Пушкина) непосредственно вводится с образом стрекозы. Здесь звучит и оценка поэзии жизнелюбивого грека:
Но для меня важны два крылышка, две маленьких строки легчайшие, под стать Анакреону («Стрекоза») [с. 117].
Мерцающая легкость крыльев насекомого поддержана игрой алого, бледно-зеленого вперегонки с сиреневым и синим цветами, что указывает на яркий солнечный день. Техника разделения цвета, изменчивость окутанных воздухом (а потому плывущих, нечетких) очертаний вибрирующих крыльев стрекозы передаются импрессионистской поэтикой: произвольной композицией стихотворения, изменчивостью света, особым ощущением быстротекущего времени. А интерпретация зрительных впечатлений подчиняет смысловое – «оптическому» [Ревалд, 1959].
Свободная строфика, лесенка, программирующая неторопливый ритм чтения, анжамбеман («виной тому глаза / навыкате»), богатая ассонансная (горбата / аристократа) и внутренняя рифмы («умны и холодны») становятся поэтическим вкладом в категорию «легкости».
На уровне хронотопа уголок, что «при душе», выдержан в традициях классической идиллии: строке, уставшей от странствий, умам натруженным [с. 121],
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)
наконец, поэту Кобенкову, кому и с музами невесело живется, / и с прочими, / и очень не поется… [с. 126], жизненно необходима «рюмка тишины», персональная Аркадия с ее завсегдатаями – жуками, бабочками, кузнечиками, сверчками и цикадами… Пространство в цикле безлюдно, память дозволяет впустить туда только избранных.
В первых двух стихотворениях цикла аранжируется музыкальная партитура райских кущ – их аура, эфир. Так, песня жука создается в стихотворении 19-кратным дублированием фонемы [ж]. Это заставляет натуралиста размышлять о природе звука, который в его понимании рожден сопротивлением воздуха крыльям жука: «воздух возражает» их чужеродной тяжеловесности. Благодаря метаме-тафорической инверсии (у Кобенкова физические усилия совершает не жук, а эфир), воздух демонстрирует свою свободную волю.
Образ эфира во втором стихотворении по контрасту воссоздается беззвучным дрожанием крылышек репейницы – воздушных, / напудренных, беспечных, непослушных / ветрам и расстояньям, и перу [с. 116]. Невесомость крыльев репейницы служит метафорой поэзии и звучит в унисон с ее трактовкой в Античности: «Поэт – это существо легкое, крылатое и священное» (Платон. Ion 534b) [Цит. по: Лосев, 2000, с. 486].
Шифр метаморфозы – перо поэта, бывшее крылатым в пору, когда оно было еще птицей. Сама легкость репейницы – желаемая форма стиха. Рядом с бабочкой перо поэта ощущает свою неповоротливость. Бессильный исправить это, лирический субъект переходит с репейницей на «вы».
Хронотоп в стихотворении «Цикада» достраивает идиллические фрагменты цикла до целостной концепции мира. В посредники здесь призван общепризнанный эксперт Paradiso и Inferno, «стратег превращений и скрещиваний» [Мандельштам, 1987, с. 108] – Данте. На эмоционально-психологическом уровне один из полюсов мира воспроизводит картину Рая:
А на холмах, с кузнечиком играя, овечка травкой набивала рот.
И Дант подумал:
«Это будет Раем», – и обмакнул в чернильницу перо… [с. 121].
Ад, соответственно, формируется вычитанием всего, что образует Рай: вместе с дневным светом уходят из кадра овечка, холмы, смолкает кузнечик. И только лукавая цикада продолжает воспевать тюрьму ночи, как только что воспевала день. Этого предательства и не выносит Данте. О. Мандельштам в «Разговоре о Данте» уподобил цикаду цитате: «Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает» [Мандельштам, 1987, с. 113]. Двойственная природа цикады подчеркнута и в словарях символов, где она означает циклическую периодичность света и тьмы» [Купер, 1995, с. 365], а также является эмблемой чудовища Тифона. Муки и страдания Ада, таким образом, спрятаны в глубину культурного подтекста: здесь душа задыхается от тяжести фальшивой песни:
Все, что осталось, – песенка цикады о том, что лето, что тюрьма светла…
И Дант подумал:
«Это будет Адом», – страницы Рая сбросив со стола… [с. 122].
Свойственная анакреонтике легкость содержания, воздушность формы, живописность и музыкальность звучания сохраняются в остальных четырех стихотворениях цикла. Специфику им придает фиксация блуждающей идентичности лирической маски: профессия и душа Земнухова спорят друг с другом: задача соблюдения правил формальной роли ученого (я – энтомолог) сталкивается с задачей воспроизведения гармонии звука, образа и рифмы (я – поэт).
Б. Корман утверждал, что лирический сюжет представляет собой «последовательность однородных прямо-оценочных суждений субъекта» [Корман, 1992, c.185]. При наличии героя в лирике неизбежна ситуация ценностной множественности. Но Земнухова назвать полноценным субъектом ценностно-речевой деятельности нельзя, поскольку эта маска сидит неплотно. Как энтомолог он апеллирует к Карлу Линнею, Фабру, Марчелло Мальпиги и к Яну Сваммердаму. Эту составляющую личности передает имитация неумелого стиха: прозаизмы, попытка создания необязательного в лирике сюжета с диалогами, шероховатости рифмы, нарушение смысловой последовательности и сам факт рифмованного описания насекомых в стиле Н.А. Холодковского. С этой же ипостасью «я» в цикле связан мотив работы: … оставил я занятья / с древнейшими ; давно мой микроскоп / ослеп от паутины ; новый опыт / из-за тебя стал старым ; Мои пинцеты ржавчина грызет …; увяли / мои сачки …; как ученый я погиб ; Моя работа бешено стирала / все, что мешало сбору матерьяла ; Моя работа сделала меня / счастливейшим … [с. 118–119].
Но у Кобенкова между человеком мыслящим и человеком чувствующим нет пропасти. Так, статус натуралиста обусловил появление в энтомологическом цикле таинственной Маргариты. Ассоциативная механика прозрачна: ученый-исследователь – Фауст – Маргарита.
Как поэт Земнухов слагает свои песни бабочкам, цикадам, кузнечикам, беспокоится о создании условий для пенья сверчка, признается в любви Маргарите, но не вполне доверяет себе как поэту.
В стихотворении «Однажды ночью после работы» размежевание между двумя ипостасями «я» достигает апогея: Пускай спешат поэты, / а ты не торопись [с. 123]. К разрешению спора приглашен кузнечик, который является эмблемой поэзии у Кобенкова – его «музы с кузнечиком». Вызванный с нарушением
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)
естественного течения времени кузнечик в цикле возвращает натуралиста в ипостась поэта поучительным монологом:
Чем меньше нас, тем меньше тайн у вас,
А вы без тайны склонны к вымиранью.
Когда сладчайший таинства туман тебя покинет, все тебя покинут [с. 124].
С помощью кузнечика происходит интуитивное озарение истиной: звезда, тьма, женщина – великие тайны, и вмешиваться в них пинцетами, микроскопами катастрофично для мира. Нестандартная метафора Заусенцы лбов / моих коллег, разбросанных по свету [с. 125] разоблачает сосредоточенность ученых на задачах расколдовать чудо знанием.
Это стихотворение цикла демонстрирует свойственный анакреонтике отказ от рифмы (у вас / туман) и лексические повторы (меньше / меньше; покинет / покинут), на что указывал Г.А. Гуковский [Гуковский, 2001, с. 118; 142; 147].
Этическая манифестация в этом стихотворении опережает эстетическую, но заканчивается сюжет декларацией любви – той самой, которую воспевают поэты: я вспомнил про любовь, / зачем-то уподобившись поэтам … [с. 125].
Следовательно, Земнухов находит себя в ипостаси поэта. И хотя в предисловии заявлено, что, вопреки желанию Константина Ивановича, поэт-публикатор в его записках ничего не правит, подлинная идентичность маски уточняется за пределами личности Земнухова. Во-первых, это проясняется в образном строе цикла. К примеру, кузнечики («Хочу, чтобы меня любила ты…»; «Деревня»; «Послание друзьям»; «В зеленом доме женщина жила…»; «Тонко-тонко пахнет подорожник…»), бабочки («Первые танцы в солдатском клубе») и сверчки («Жизнь моя городская…») давно получили прописку в поэтическом мире поэта Кобенкова (не Земнухова!).
Во-вторых, не оставляет сомнений и поэтика многоточий – безусловный экслибрис синтаксиса Кобенкова. Каждое стихотворение цикла, сборника (как, впрочем, и абсолютное большинство стихотворений в других сборниках) заканчивается этой интонационно-смысловой дорожкой. Многоточия разрежают стихотворения посредине и перетекают даже в названия его сборников: «Строка, уставшая от странствий…» (2003), «Однажды досказать…» (2008). Стихи с этим знаком воспринимаются как фрагмент размышлений, остановленное мгновение протекающей жизни или как подключение к давно начатому разговору. Строка набирает разбег, но лирический сюжет обрывается, и недосказанная мысль перетекает в многоточие. Здесь уместно говорить о складе сознания, которое обнаруживает онтологическую невозможность высказать заключительное, завершающее слово о мире, как и его принципиальную невысказываемость, невыразимость. Хлебников прибегал в этих ситуациях к зауми, символисты использовали символы. У Кобенкова эту роль выполняют многоточия.
Многоточие становится особой формой коммуникации [Поэтика незавершенного, 2019, с. 348]: знак сигналит об онтологической неукорененности души, выводит к ситуациям, не знающим типовых решений, к концепции жизни без закрепленных форм и затвердевших истин, активизирует воображение, оформляет элегическую модальность высказывания, направляет ассоциации, углубляет семантическую насыщенность текста:
… мы много пережили, мы ссорились, на пальцах ворожили…
Она любила, кажется, меня…
А та – что мне казалось – я любил,
Так и осталась просто Маргаритой – прекрасной, мне б хотелось – позабытой, но не могу… [с. 120].
В многоточиях приведенного выше отрывка, в частности, заключено воспоминание, предположение, а в последнем многоточии спрессована поэтическая запись переживания неизжитого чувства.
Многоточия в целом обогащают разнообразие отраженных в цикле вариантов художественного времени: дискретное время припоминания и импрессионистское остановленное (пойманное) мгновение обогащаются процессуальным временем: время длится в многоточиях за пределами текста. Словесная живопись с налетом романтизма на «идиллическом безлюдье» [Ревалд, 1959] обнаруживает неотделимость от медитации.
Еще одна особенность синтаксиса проявляется в строении завершающих стихотворения фраз, которые начинаются с союзов и, а, но: «И если б кто разжал плотнейший воздух…»; «И потому сверчок мой не поет…»; «И Дант подумал…».
В-четвертых, поэт вполне классической ориентации пренебрегает геометрией строфы. Его рваная строфика создает ту самую легкость восприятия, которая ценилась древними греками в поэзии.
Наконец, отметим также стяженные формы слов, например, «в здраве» – в составе цикла, «багул» – за его пределами.
Выводы. Таким образом, вопреки артикулированным установкам предисловия к циклу, Земнухов не вытесняет поэта Кобенкова. Квазидневниковость, не-проявленная адресованность и имитация спонтанности содержат в себе установку обобщить частные впечатления до целостной картины бытия, что знакомо по другим стихам поэта. Анакреонтика Кобенкова – аорта в кровеносной системе любви к жизни. Образный строй в «Записках натуралиста» передает нежность к хрустальной гармонии мира, страх за возможность его исчезновения. Поэт передвигается на цыпочках, устраивается на краешке, говорит вполголоса, создавая свои символические притчи о тайнах мира в режиме легкого касания… Бесспорно, поэзия эта легкая, воздушная, но вовсе не беззаботная.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)
Телесная составляющая анакреонтики не акцентирована вовсе, и хотя чувственное не исчезает из поэзии, оно обретает приметы христианского целомудрия.
С психологической точки зрения весь цикл «Записки натуралиста» и другие вкрапления анакреонтики в стихотворениях сборника «Строка, уставшая от странствий…» обеспечивают поэту короткую передышку перед вступлением в завершающую экзистенциальную стадию жизни, меняющую темы мысли, эмоции… Поэт чувствует пределы, и шаги его опыта ощущаются как «шаги боли» («Переауки пса…») [Кобенков, 2008, с. 142]. Лирическое сознание набирается сил для привычного существования в трагическом мире.
Список литературы Анакреонтика А. Кобенкова
- Анакреонтическая поэзия // Литературный энциклопедический словарь / под ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 23.
- Гиленсон Б.А. История античной литературы: учеб. пособ. для студ. филол. фак-в пед. вузов: в 2 кн. М.: Флинта: Наука, 2001. Кн. 1: Древняя Греция. 416 с.
- Гуковский Г.А. Об анакреонтической оде // Г.А. Гуковский. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века / общ. ред. и вступ. ст. В.М. Живова. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 117-156.
- История греческой литературы / под ред. С.И. Соболевского и др. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. Т. 1. 534 с.
- Кобенков А.И. Строка, уставшая от странствий.: Стихи разных лет. Иркутск: Издатель Сапронов, 2003. 432 с.
- Кобенков А.И. Однажды досказать.: Последние стихотворения. Иркутск: Издатель Сапронов; Владивосток: Рубеж, 2008. 448 с.
- Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1992. 236 с.
- Купер Дж. Цикада // Дж. Купер. Энциклопедия символов. М.: Золотой век, 1995. Кн. IV. 402 с.
- Лаппо-Данилевский К. Ю. «Анакреонтические оды» и «анакреонтические стихи» в русской поэзии XVIII века // Литературный факт. 2019. № 1 (11). С.384-402.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2000. Т.2. 846 с.
- Мандельштам О.Э. Разговор о Данте // О.Э. Мандельштам. Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987. С. 108-152.
- Поэтика незавершенного // Феномен незавершенного: монография / под общ. ред. Т.А. Снигиревой и А.В. Подчиненова. 2-е изд., испр. и доп. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 670 с. [Электронный ресурс]. URL: https://elar. mfu.ru/bitstream/10995/66587/1/978-5-7996-2470-5_2019.pdf (дата обращения: 20.04.2023).
- Пульхритудова Е.М. Легкая поэзия // Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. М.: Сов. энциклопедия, 1987. 752 с.
- Ревалд Дж. История импрессионизма. М.; Л: Искусство, 1959 [Электронный ресурс]. URL: https://imwerden.de/pdf/rewald_istoriya_impressionisma_1959. pdf (дата обращения: 20.04.2023).
- Савкина И.Л. Записки как «деперсонализированный дневник»: документально-художественный потенциал жанра // Вопросы литературы, 2013. № 1 (янв.-февр.) C. 337-354.
- Шталь И. Анакреонтизм // Словарь литературоведческих терминов / ред.-сост. Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. М.: Просвещение, 1974. 509 с.
- West M. L. Introduction to Greek Metre. Oxford: Clarendon Press, 1987. 91 p. [Электронный ресурс]. URL: https://archive.org/details/west-1987-introduction-to-greek-metre/page/16/mode/2up (дата обращения: 15.11.2024).