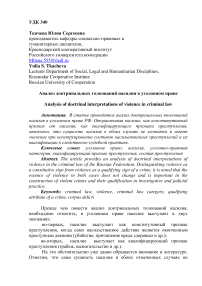Анализ доктринальных толкований насилия в уголовном праве
Автор: Ткачева Ю.С.
Журнал: НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СОВРЕМЕННОСТЬ/SCIENCES. EDUCATION. ТHE PRESENT.
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье приводится анализ доктринальных толкований насилия в уголовном праве РФ. Отграничивая насилие, как конститутивный признак от насилия, как квалифицирующего признака преступления, отмечено, что сущность насилия в обоих случаях не меняется и имеет значение при конструировании составов насильственных преступлений и их квалификации в следственно-судебной практике.
Короткий адрес: https://sciup.org/14126240
IDR: 14126240
Текст статьи Анализ доктринальных толкований насилия в уголовном праве
Прежде чем повести анализ доктринальных толкований насилия, необходимо отметить, в уголовном праве насилие выступает в двух значениях:
во-первых, насилие выступает как конститутивный признак преступления, когда само насильственное действие является оконченным преступным деяниям (убийство, причинение вреда здоровью и др.);
во-вторых, насилие выступает как квалифицирующий признак преступления (грабеж, вымогательство и др.).
На это обстоятельство уже давно обращается внимание в литературе. Отметим, что сама сущность насилия в обоих отмеченных случаях не меняется и имеет значение при конструировании составов насильственных преступлений и их квалификации в следственно-судебной практике.
Много внимания исследованию насилию как уголовно-правовой категории уделяет профессор Л.Д. Гаухман, который определяет насилие как «общественно опасное, противоправное воздействие на организм человека, совершенное против его воли»[1]. Как нам представляется, здесь неоднозначной является такая характеристика насилия, как общественная опасность; во всяком случае, эта характеристика (общественная опасность), на наш взгляд, должна увязываться с позицией о том, является ли насилие само по себе деянием или способом совершения деяния - во втором случае вряд ли правильно говорить об общественной опасности насилия в юридическом смысле, поскольку, например, угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, которая может быть квалифицирующим признаком грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), сама по себе как вид психического насилия, не представляет общественной опасности (согласно ст. 119 УК РФ общественно опасной является угроза причинения только тяжкого вреда здоровью, и, разумеется, угроза убийством).
П. Г. Пономарев и А. Н. Ильяшенко полагают, что насильственным преступлением следует считать деяние, «совершаемое путем противоправного непосредственного воздействия на организм, органы и ткани потерпевшего или путем реальной угрозы такого воздействия, оказывающего противодейственное влияние на его психику»[2].
Представляется, однако, что термин «воздействие» в данном случае не имеет достаточной определенности.
По мнению Л.М. Щербаковой, «в правотворческой и в правоприменительной практике необходимо определять понятие «насилие», прежде всего, исходя из социальной обусловленности данного феномена, который подлежит уголовно-правовому обозначению и запрещению в его наиболее острых реально существующих проявлениях ... Насилие, в уголовно-правовом аспекте - это умышленное, общественно опасное, противоправное физическое или психическое воздействие на другого человека, совершаемое вопреки или помимо воли последнего, представляющее опасность для общественных отношений, обеспечивающих гарантированное Конституцией РФ право граждан на личную неприкосновенность (в физическом и духовном смысле).
Насилие в криминологии является более широким понятием, охватывающим множество видов поведения, в которых насилие выступает как наиболее угрожающий способ общественно опасного поведения, чаще преступного, но иногда и неурегулированного уголовным законом[3]. Здесь, как нам представляется, понятие «насилие» дается с излишне большим количеством признаков, в результате чего некоторым образом затеняется сущность насилия как уголовно-правовой категории. Так, такая характеристика, как «опасность для общественных отношений» во взаимосвязи с нарушением конституционных прав потерпевшего является ненужной, поскольку любое преступление представляет опасность для общества, что совершенно четко определено в законодательной дефиниции преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ).
Довольно обширное определение уголовно-правовому насилию дает Е.А. Писаревская: «Это - умышленное общественно опасное противоправное физическое или психическое воздействие на другого человека своей силой или путем использования различных предметов, средств, орудий, механизмов, животных, совершаемое вопреки или помимо его воли, способное причинить вред правам и законным интересам человека, общества и государства или причинившее вред данным интересам»[4]. Поскольку в данном случае, дается попытка сформулировать обобщенное понятие насилия (а мы рассматриваем именно такой случай), то указание на физические и психическое насилие в приведенном определении не диктуется необходимостью. Не совсем ясно, далее, что автор подразумевает под «своей силой». Не совсем удачным нам представляется также использование термина «человек», поскольку в данном контексте понятие «человек» представляется слишком широким и, соответственно, выражение «воздействие на человека» также страдает недостаточной определенностью.
Е. В. Безручко указывает на то, что «понятие «насилие» должно увязываться с такими последствиями, как вред здоровью (легкий, средней тяжести, тяжкий) потерпевшего, ограничение его личной свободы, нанесение побоев, причем, речь, в данном случае, идет только о фактически причиненном вреде»[5]. Здесь заслуживает внимания мысль о том, что необходимо обозначать последствия, к которым может привести применение насилия. Вместе с тем, на наш взгляд, нужно иметь в виду, что не всегда насилие при совершении преступления приводит только лишь к причинению вреда здоровью указанных степеней.
Согласно другой точке зрения, выраженной О. Р. Афанасьевой, насилие в уголовном праве России представляет собой «внешнее (со стороны другого человека), умышленное, противоправное воздействие виновного на физическую и психическую природу потерпевшего лица, способное причинить психическую травму, смерть, а также - привести к ограничению его волеизъявления»[6]. Представляется, что в этом определении указание на «физическую и психическую природу» не оправданно, учитывая неопределенность для уголовного права вообще такого термина, тем более, что примененная словесная форма дает основание для предположения, что физическая и психическая природа не потерпевшего, а иного лица, неодинакова, в то время как такая природа одна и та же для любого человека.
Следующая позиция, которую мы хотим рассмотреть, связывается с насилием как проявлением физической силы (мускульной силы виновного в совершении преступления) либо насилием, осуществляемым посредством оружия или предметов преступления, отравляющих веществ и т.д.) во взаимосвязи с нарушением физической неприкосновенности потерпевшего, к которому применяется насилие, а также с угрозами такого насилия.
Так, Л.Л. Кругликов полагает, что «насилие есть физическое воздействие (причинение вреда здоровью, удары, толчки, запирание и т.п.), а также - угроза применения только физического воздействия»[7]. Этот автор обращает внимание на то, что «угроза физического воздействия выражается в запугивании потерпевшего, причем, только физическим насилием, в связи с чем, например, угроза разглашения сведений, позорящих потерпевшего и причиняющих вред его чести и достоинству, равно как угроза уничтожения имущества не могут расцениваться как насилие»[8].
Это довольно спорное суждение, которое также следует увязывать с тем, чем является насилие - самостоятельным уголовно наказуемым деянием или только лишь способом совершения преступления, или и тем, и другим. В частности, Н.А. Неклюдов полагает, что «под понятие «насилие» следует подводить противозаконные действия, не влекущие за собой смерти, увечий, побоев, расстройства здоровья, то есть, действия, не имеющие признаков других преступлений, поскольку иное означало бы нести дважды ответственность за такие действия … насилие есть принудительные действия над личностью, которые заставляют потерпевшего переносить то, чего он не желает либо совершить против своей воли что-либо»[9]. Этот ученый определяет насилие как конститутивный признак общественно опасного деяния, самим актом совершения которого это насилие собственно и охватывается.
Однако при таком подходе остается без ответа вопрос: В чем, собственно, объективируется насилие, если все основные его формы уже являются либо самостоятельным преступлением (например, убийство, телесные повреждения и др.), либо признаком состава другого преступления (например, разбой, вымогательство, изнасилование и др.)? И еще вопрос здесь же: Если, например, причинение телесных повреждений (вреда здоровью) не относить к насилию, как это вытекает из указанного подхода, то тогда что относить к насилию? Представляется, что в данном случае имеет место неоправданное усложнение понятия данной категории уголовного права.
По мнению Л.С. Белогриц-Котляровского, «насилие представляет собой преступную деятельность, которая в своем элементном составе осуществляется как физической силой, так и угрозой ее применения»[10]. По мнению Н.С. Таганцева, «насилие есть средство совершения преступления, при этом насилие может быть как физическим насилием, так и психическим насилием»[11]. Такой подход, если иметь в виду исходную общую позицию, напротив, слишком упрощен. И.Я. Фойницкий пишет о том, что следует выделять следующие признаки насилия:
«во-первых, это противозаконность насилия, поскольку речь идет о преступлении;
во-вторых, насилие связывается с употреблением силы против личности вопреки ее воле;
в третьих, при насилии отсутствует переход в иное преступное деяние, иначе оно наказывалось бы как последнее.
Таким образом, насилие - это не переходящее в иное преступное деяние умышленное противозаконное применение физической силы против личности потерпевшего»[12].
Здесь, по аналогии с комментарием позиции Н.А. Неклюдова, трудно согласиться с тем, что насилие может быть объективировано только в самостоятельном преступлении, за пределами которого насильственные действия (в том же разбое) не могут считаться насилием. Этот же ученый полагает, что насилие следует классифицировать как физическое или психическое, при этом делается уточнение о том, что «насилие должно быть учинено только над лицом, поскольку насилие над вещами, если оно не переходит в посягательство над личностью, данным понятием насилия не обнимается»[13].
Представляет интерес точка зрения В.Д. Набокова, который, комментируя нормы Уложения 1903 г., отмечал, что «признаки насилия, определенные в этом законе, несовершенны, поскольку имеет место тавтология»[14] (в данном случае, имеется в виду, что насилие , согласно Уложению, характеризуется действиями насильственного характера - авт.), и, соответственно, криминалист полагает, что «насильственное действие следует понимать как умышленное противозаконное применение физической силы к потерпевшему от преступления, причиняющее неприятное физическое ощущение или боль»[15].
Более конкретное содержание в это понятие вкладывал Ф.Лист, по мнению которого, «насилие следует связывать с применением значительной силы для преодоления значительного сопротивления»[16]. И далее следует важная оговорка: «безразлично, пришлось ли преодолевать сопротивление человеческого тела, или какого-либо предмета ... насилие всегда бывает противоправным воздействием на материю и/или на волю потерпевшего»[17].
Как нам представляется, в этих рассуждениях затронут важный элемент для понимания насилия как уголовно-правовой категории, а именно, речь идет о применении «значительной силы». Тем самым , именно это ученый впервые обозначил вопрос о грани, которая отграничивает насилие от ненасилия при внешне схожих насильственных действиях. Например, человека (потерпевшего) можно толкнуть руками с разными последствиями -так, что он может упасть и получить тяжелую травму; упасть без последствий; не упасть совсем; не ощутить вообще никаких болевых ощущений, если толчок будет легким, на уровне прикосновения. Но во всех случаях внешне будет иметь место сходное движение рук лица, осуществившего такой толчок. В каком случае имеет место насилие, имеющее значение для уголовного права, а в каком случае нет оснований говорить об уголовно-правовых отношениях? Ф.Лист предлагает формулу -«значительная сила».
Конечно, это - оценочное понятие, но оно должно быть, так как указанная грань обязательно должна быть обозначена (по аналогии с институтом малозначительности, предусмотренной в ч. 2 ст. 14 УК РФ, позволяющим отграничить общественно опасное деяние от общественно неопасного деяния). Отметим, что мы не можем одновременно согласиться с данным подходом в части того, что насилие следует связывать с «преодолением значительного сопротивления», поскольку при насилии не всегда потерпевшими оказывается сопротивление, и преступник, применяя насилие, может не встретить никакого сопротивления (например, если потерпевший болен, является несовершеннолетним, пожилым человеком, находится в шоке и т.д.).