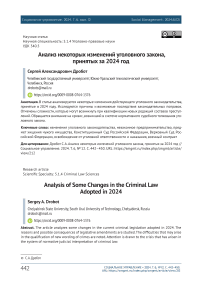Анализ некоторых изменений уголовного закона, принятых за 2024 год
Автор: Дробот С. А.
Журнал: СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: Т. 6, вып. 12, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются некоторые изменения действующего уголовного законодательства, принятые в 2024 году. Исследуются причины и возможные последствия законодательных поправок. Отмечены сложности, которые могут возникнуть при квалификации новых редакций составов преступлений. Обращается внимание на кризис, возникший в системе нормативного судебного толкования уголовного закона.
Изменения уголовного законодательства, незаконное предпринимательство, предмет хищения чужого имущества, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, освобождение от уголовной ответственности и наказания, военный контракт
Короткий адрес: https://sciup.org/14132742
IDR: 14132742 | УДК: 340.5
Текст статьи Анализ некоторых изменений уголовного закона, принятых за 2024 год
За период с 1 ноября 2023 года по 30 октября 2024 года было принято значительное количество поправок, вносящих изменения в уголовный закон. Эти поправки можно разделить на три группы:
-
1) поправки, связанные с адаптацией уголовного закона к меняющимся социальноэкономическим условиям;
-
2) поправки, направленные на пересмотр некоторых положений уголовного закона;
-
3) поправки чрезвычайного характера, вызванные особыми политическими условиями, в которых находится РФ.
Первая группа поправок уголовного законодательства имеет вполне ординарный характер, то есть отражает текущие процессы, происходящие в социально-экономической системе РФ. Изменения происходят постоянно, поэтому уголовный закон должен учитывать меняющиеся экономическую ситуацию (например, инфляцию), потребности судебной практики и т. п. Такие поправки вносятся в уголовное законодательство по мере необходимости и имеют текущий характер. Так, законодатель пересмотрел в сторону увеличения суммы крупного и особо крупного размера стоимости предмета преступления в примечаниях к ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» и к ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»1. В данном случае законодатель, резко увеличив стоимость предмета преступления (в диспозиции ст. 165 УК РФ — стоимость увеличена в четыре раза), сократил сферу применения указанных норм уголовного закона.
Таким образом, законодатель разгружает правоприменительную систему, заменяя уголовную ответственность другими видами юридической ответственности (административной, гражданской и т. д.). Такого типа изменения коснулись и примечаний к ст. 170.2 УК РФ и к ст. 171.5 УК РФ2. Законодатель учитывает, что рубль дешевеет, и не стремится излишне расширять сферу действия некоторых норм за счет естественного при инфляции возрастания объема имущества, в отношении которого совершаются экономические и смежные с ними преступления.
Также к первой группе следует отнести внесенные в УК РФ поправки иного свойства, например, уточнение содержания нормы. Так, в ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» законодатель внёс новые квалифицирующие признаки, такие как вовлечение в преступную группу, вовлечение в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и вовлечение в совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести3. Нельзя сказать, что указанные ранее действия были не преступными, в данном случае законодатель сферу действия ст. 150 УК РФ не расширил, но усилил уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления при наличии обозначенных отягчающих признаков. Здесь явно учитываются реальная практика применения ст. 150 УК РФ и запросы правоохранителей.
К такому же типу поправок УК РФ нужно отнести и изменения в ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»1. В данном случае законодатель исключил одну из характеристик нежелательной организации—«неправительственная». Да, в данном случае законодатель расширил зону действия нормы, однако при этом коренного смысла норма не меняет. Ограничение нежелательных организаций только неправительственными структурами было явно излишним, возможно предполагалось, что сотрудничество с государственными структурами должно было квалифицироваться как государственная измена или как иное сотрудничество на конфиденциальной основе (ст. 275.1 УК РФ). Очевидно, что реальная правоприменительная практика показала ошибочность указанного предположения, соответственно и правоприменитель, и законодатель пришли к выводу о том, что реализация ст. 284.1 УК РФ более удобно и уместна. Такую идею законодатель и воплотил.
Вторая группа поправок изменила некоторые положения УК РФ, которые уже давно присутствуют в уголовном законе, и практика применения которых сложилась. Указанные изменения затрагивают и складывающуюся правоприменительную практику. К сожалению, такого рода изменения не всегда представляются удачными. Так, законодатель изменил ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», удалив из неё признак дохода2. В предыдущей редакции основной состав незаконного предпринимательства рассматривался как материально-формальный, то есть предполагающий альтернативный момент окончания преступления: или по правилам формального состава, или по правилам материального состава. С учетом произошедших изменений состав незаконного предпринимательства стал полностью материальным. Более того, если обратиться к сотрудникам структур, отвечающих за противодействие экономическим преступлениям, становится очевидным, что чаще всего вменение ст. 171 УК РФ осуществлялось через установление признака дохода — таким образом, реализовывался формальный вариант состава незаконного предпринимательства.
Возникает резонный вопрос о том, как повлияет изменение редакции ч. 1 ст. 171 УК РФ на правоприменительную практику. Как представляется, такое влияние будет отрицательным. Не случайно правоприменители предпочитали доказывать признак дохода. Этот признак имел конкретные параметры и мог быть установлен на основе изъятых бухгалтерских отчетов, объемов реализуемого имущества, показаний свидетелей и соучастников и иных фактах. Признак дохода был понятен и вполне доказуем.
С признаком ущерба ситуация иная. Во-первых, для признака ущерба требуется потерпевший. А кто это будет? Незаконное предпринимательство — это не преступление против собственности, оно не предполагает завладения чужим имуществом. Во-вторых, в чем именно заключается ущерб, в утрате имущества, в упущенной выгоде или и в том и другом? Никакого реального ответа на этот вопрос нет. Сама ст. 171 УК РФ пояснений относительно того, что считать ущербом, не содержит. Специализированное постановление Пленума Верховного Суда РФ3 никаких разъяснений также не предлагает. В данном случае Верховный Суд РФ просто уклонился от своих обязанностей, связанных с формированием стабильной судебной практики. Что остается? Только доктрина отечественного уголовного права. С теоретической точки зрения — это вред, причиненный потерпевшему незаконной предпринимательской деятельностью, причем потерпевшим может выступать как личность, как организация, так и государство в целом. При этом на уровне научного толкования признака ущерба в ст. 171 УК РФ в качестве варианта ущерба предлагается понимать неуплаченные лицензионные сборы и налоги. В каком-то смысле эта позиция находит поддержку и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве», где в п. 16 прямо говорится о том, что неуплаченные налоги и иные сборы с доходов, полученных в ходе незаконной предпринимательской деятельности, охватываются составом ст. 171 УК РФ. Сама позиция Верховного Суда РФ выглядит странной, так как предполагается, что лицо обязано платить налоги с дохода, который считается незаконным. При этом в данном пункте указывается, что всё имущество, полученное в ходе всего периода незаконной предпринимательской деятельности, подлежит обращению в доход государства (в данном случае реализуется так называемая процессуальная конфискация). Выглядит как логический абсурд. При этом можно «закрыть глаза» не некоторые странности и согласится с тем, что неуплата налогов и лицензионных сборов — это ущерб.
Однако данный ущерб может быть причинен только государству, а как быть с личностью и организацией? Здесь о реальном ущербе можно говорить, только если незаконное предпринимательство сочетается с другими преступлениями (например, ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В таких случаях часто крайне затруднительно установить четкий размер ущерба [1, с. 178]. Кроме того, очевидно возникнет сложность в установлении причинной связи: нужно доказать, что вред наступил именно из-за того, что лицо ненадлежащим образом оформило свой предпринимательский статус. В целом отказ от признака дохода в ст. 171 УК РФ значительно усложняет вменение незаконного предпринимательства, т. к. норма становится малоэффективной. Причина такого решения законодателя понятна, он продолжает тренд на либерализацию сферы предпринимательства [2]. Только в этом случае может быть стоило вообще декриминализировать незаконное предпринимательство?
Другим изменением редакции уголовного закона стало введение законодателем п. 5 примечания к ст. 158 УК РФ1. Данное законодательное решение не являлось инициативой законодателя, а было выполнением предписания Конституционного Суда РФ, изложенного в постановлении «По делу о проверке конституционности пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Тихоокеанского флотского военного суда»2. Исходя из сказанного, становится очевидным, что новый п. 5 примечания к ст. 158 УК РФ должен пониматься исходя из положений указанного постановления Конституционного Суда РФ.
Итак, в п. 5 примечания к ст. 158 УК РФ содержится запрет на включение в предмет хищения суммы денежных средств, уплаченных налоговым агентом в качестве налога, если предметом хищения выступал доход, облагаемый налогом. При первичном изучении положений п. 5 складывается неоднозначное восприятие того, что хотел сказать законодатель; ситуация становится более понятной, когда обращаешься к соответствующему решению Конституционного Суда РФ. В Конституционный Суд РФ с запросом обратился один из военных судов РФ с ходатайством о разъяснении конституционности понятия хищения, изложенного в п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ. Данный суд рассматривал уголовное дело по обвинению лица в хищении имущества военной организации через завышение размера денежного содержания путем предоставления подложного документа. На основании этого документа военная часть начислила военнослужащему денежное вознаграждение, на которое он в действительности не имел права, и кроме того, выполняя обязанности налогового агента, военная часть удержала из начисленной суммы часть средств, перечислив их в качестве налога в федеральный бюджет. Суть сложности заключался в том, что не понятно, в каком размере определять предмет хищения, всю начисленную сумму или только выданную «на руки» (то есть за минусом удержанных налогов). Конституционный Суд РФ, приняв запрос, рассмотрел сложившуюся ситуацию и пришел к следующим выводам.
-
1. Предмет хищения и ущерб при хищении категории связанные, но не идентичные.
-
2. К предмету хищения следует относить лишь то имущество, которое виновный мог контролировать и за счет этого удовлетворять свою корыстную цель.
-
3. Предоставление имущества какому-либо лицу должно входить в преступный умысел лица.
К этой аргументации можно также добавить, что раз налог был уплачен ошибочно, то он будет возвращен организации. Собственно говоря, на сумму налога ущерба и не будет.
Исходя из сказанного, Конституционный Суд РФ приходит к правильному выводу о том, что уплаченный с незаконного дохода налог не может рассматриваться как предмет хищения. Кроме того, Конституционный Суд РФ указал, что по вопросам включения в предмет хищения уплаченных налогов складывается разнонаправленная судебная практика. На основании этого, Конституционный Суд РФ принял решение обязать федерального законодателя принять поправки в уголовный закон, устраняющие неоднозначное толкование предмета хищения. Так и появился новый п. 5 в примечании к ст. 158 УКРФ.
В данном случае хотелось бы обозначить несколько моментов. Так, принимая свое решение, Конституционный Суд РФ осуществил систематическое толкование положений уголовного закона в сфере категории хищения чужого имущества, и сделал это имея в виду устранение различного понимания категории хищения чужого имущества. Однако толкование основных положений отраслевого законодательства и унификация судебной практики — это полномочия и компетенция Верховного Суда РФ (конкретно — Пленума Верховного Суда РФ). Вопросы конституционности положений п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ выглядят достаточно искусственно и спорно. Представляется, что в данном случае Конституционный Суд РФ присвоил себе полномочия Верховного Суда РФ. Другим моментом выступает позиция самого военного суда. Суд, рассматривая уголовное дело по существу, руководствуется законом и своим внутренним убеждением. Что мешало суду исполнить свою обязанность осуществить казуальное официальное толкование уголовного закона? Какие такие вопросы разрешал Конституционный Суд РФ, который не смог бы разрешить военный суд? Все рассуждения Конституционного Суда РФ соответствовали уже существующей концепции хищения чужого имущества, всеми этими знаниями обладает любой выпускник юридического вуза. В данном случае очевидно, что военный суд переложил свои обязанности на Конституционный Суд РФ, как на «старшего брата», что в свою очередь порождает сомнения в компетентности и профессионализме судей военного суда, рассматривавших данное уголовное дело. Конституционный Суд РФ в данной ситуации, вероятно, исходил из лучших побуждений, но нарушение принципов единства судебной системы РФ не может не иметь негативных последствий. И последний момент. Для чего было необходимо использовать в сложившейся ситуации законодательный инструмент? Сам Конституционный Суд РФ в своей аргументации пользовался положениями о хищении чужого имущества, указанными в п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ, и сделал свои выводы, опираясь на них.
Таким образом, понятия хищения чужого имущества, описанного в УК РФ, вполне достаточно, сложность лишь в понимании некоторых признаков, что устраняется через разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Новый п. 5 указанного примечания, собственно, к понятию хищения ничего не добавляет, а только усложняет норму и делает её более казуистичной. Возможно, Конституционный Суд РФ должен был адресовать свое требование Верховному Суду РФ, а не законодателю?
К третьей группе следует отнести законодательные правки, вызванные проведением Специальной военной операции. Проведение СВО уже потребовало активно использовать уголовно-правовые средства для обеспечения внешней и внутренней безопасности РФ, что привело к появлению некоторых новых норм УК РФ (например, ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации») и изменению содержания уже существовавших ранее (например, ст. 275 УК РФ «Государственная измена»). Поэтому законодательное реагирование на потребности СВО не является чем-то новым или неожиданным.
Самым печальным фактом при проведении военных действий является то, что происходят потери личного состава вооруженных сил (погибшие, раненые). Избежать этого процесса, к сожалению, невозможно, поэтому важнейшим вопросом является комплектование пополнения для
Вооруженных Сил РФ, ведущих боевые действия на территориях, вошедших в состав РФ. Для этого применяются различные, в том числе неординарные меры. Так, лицам, преступившим уголовный закон и причинившим вред обществу, может быть предложено загладить причиненный вред через участие в боевых действиях. Опыт реализации подобной идеи в рамках СВО у нашей страны уже есть, но реализовывался он с помощью юридически неординарных мер1.
Признавая указанный опыт эффективным, законодатель решил перевести его на юридически ординарную основу. Таким образом, уголовный закон пополнился двумя новыми нормами: ст. 78.1 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключением в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы, а равно в связи с прохождением военной службы в указанные периоды или время» и ст. 80.2 УК РФ «Освобождение от наказания в связи с прохождением военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время»2.
Данные нормы предусматривают возможность прекратить отношения уголовной ответственности, возникших в связи с совершением преступления, на основании заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. В ст. 78.1 УК РФ предусматривается полное освобождение от уголовной ответственности, если лицо участвовало в боевых действиях и было освобождено от военной службы (по утрате здоровья, по достижении предельного возраста военной службы или прекращения военных действий) или получило государственную награду. Важно отметить, что вновь введенная норма содержит новое общее основание освобождения от уголовной ответственности. При этом данное основание считается не реабилитирующим, то есть не отменяющим общеправовые последствия совершения преступления (например, запрет на государственную службу). По своей юридической природе указанное основание освобождения от уголовной ответственности ближе всего к деятельному раскаянию, то есть лицо, виновное в совершении преступления, как бы заглаживает вред, причиненный им обществу.
В ст. 80.2 УК РФ предусматривается освобождение лица от отбывания наказания также в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Здесь следует обратить внимание на то, что по факту заключения указанного контракта осуждение считается условным. Таким образом, с точки зрения теории отечественного уголовного права в ст. 80.2 УК РФ предусматривается новый вид условного освобождения от наказания, причем условность прямо проговаривается в ч. 1 ст. 80.2 УК РФ. На основании положений данной нормы осужденный полностью (и уже окончательно) освобождается от наказания, если во время его участия в боевых действиях наступят те же события, что и при освобождении от уголовной ответственности. Важно учесть, что ст. 80.2 УК РФ предусматривает освобождение от любого наказания, но с учетом того, какой вариант «искупления грехов» предлагает эта норма, речь, скорее всего, идет именно о лишении свободы. Важно отметить, что норма не содержит изъятий видов наказания, поэтому лицо может быть освобождено и от пожизненного лишения свободы.
В данном случае решение законодателя крайне спорно. Назначая пожизненное лишение свободы, суд исходит из того, что преступник в принципе не может никогда находится в обществе, среди людей. Не случайно в первоначальной редакции УК РФ это наказание было альтернативой смертной казни. Можно ли считать, что участие в боевых действиях в принципе может нивелировать, загладить вред, причиненный этим лицом? Лишение свободы на определенный срок предполагает, что по отбытии наказания цели наказания будут достигнуты. Пожизненное лишение свободы предусмотрено как бессрочное наказание, то есть, исходя из общественной опасности содеянного и личности самого преступника, эти цели недостижимы. Не случайно освобождение от этого вида наказания считается исключительным случаем и условно-досрочно никто не был освобожден судом от его отбывания. Возможно, следовало бы предусмотреть особую процедуру освобождения от пожизненного лишения свободы в рамках ст. 80.2 УК РФ, например, через замену более мягким видом наказания. Представляется, что в данном случае законодатель должен учесть особенность пожизненного лишения свободы как вида наказания.
Обобщая положения, закрепленные в ст. 78.1 УК РФ и ст. 80.2 УК РФ, необходимо обратить внимание на то, что указанные основания освобождения от уголовной ответственности и наказания требуют применения специально процедуры, которая включает в себя:
-
а) обращение лица в структуры Вооруженных Сил РФ с просьбой заключить с ним контракт о прохождении военной службы;
-
б) заключение такого контракта;
-
в) передача лица структурам Вооруженных Сил РФ (при этом и контроль за поведением лица будет возлагаться на командование воинской части).
Такая процедура означает, что заключение контракта для Вооруженных Сил РФ не является обязанностью, соответственно выбираются лишь те лица, которые «интересны» для участия в боевых действиях. В этом смысле ч. 1 ст. 78.1 УК РФ предусматривает возможность освобождать от уголовной ответственности по ходатайству воинской части лицо, уже участвующее в боевых действиях в качестве военнослужащего и совершившего преступление. Здесь очевидно прослеживается идея, что «интересы боевых действий» превыше всего.
Как уже ранее отмечалось, у нашей страны был опыт привлечения «оступившихся» к участию в военных действиях. Особую известность приобрели так называемые «штрафные роты» в период 1941-1943 гг. Важно отметить, что активное участие в Великой Отечественной войне лиц с криминальным прошлым не привело к эффективному исправлению этих лиц. После окончания войны многие продолжили свои криминальные «похождения» и вновь оказались в местах лишения свободы1. Есть ли основания предполагать, что СВО даст иные результаты? Весьма сомнительно. Боевые действия в принципе плохо влияют на психику2, а для лиц с криминальными наклонностями это отрицательное воздействие многократно больше.
Если обратить внимание на то, по каким нормам привлеченные к уголовной ответственности не могут быть освобождены в соответствии со ст. 78.1 УК РФ и ст. 80.2 УК РФ, то видно, что это не убийства, не причинение вреда здоровью, не разбой и не хулиганство. Лица, совершающие такого типа преступления, уже очевидно антисоциальны, а в ходе боевых действий к травме психики у них добавится военный опыт. Возрастает ли общественная опасность таких лиц? Ответ несомненен — да. Есть надежда, что кто-то пересмотрит свои взгляды на жизнь, многие погибнут в боях, но кто-то в реальности воспользуется ст. 78.1 УК РФ и ст. 80.2 УК РФ и по окончании СВО получит «свободу». Есть ли опасность того, что в перспективе страна получит резкое ухудшение криминальной обстановки? Несомненно.
Наша страна уже переживала «время 90-х» с его криминальным разгулом, и вряд ли кому-то хочется повторения подобного. Вряд ли руководство страны не понимает опасности ситуации, здесь срабатывает принцип «из двух зол выбирают меньшее». Военные действия, не бывают без потерь и жертв, поэтому для победного завершения СВО требуются новые бойцы. И если не использовать контрактников, тогда надо проводить общую мобилизацию, что еще более деструктивно для общества, чем привлечение к боевым действиям уголовников. Не случайно ст. 78.1 УК РФ и ст. 80.2 УК РФ появились только в марте 2024 года, то есть через два года после начала СВО. Решение явно трудное и вынужденное. Необходимо обратить внимание всех правоохранительных и иных заинтересованных структур на то, что нужно предпринимать превентивные меры для защиты населения и страны в целом от резкого роста преступности. В данном случае уместно использовать и научные разработки (в первую очередь криминологического характера), и возможности медицины, социальной адаптации и т. п. Взрывной рост преступности (особенно насильственной) не должен быть допущен.
Заключение
Законотворческая деятельность — это последовательная деятельность, связанная с использованием уголовно-правовых средств для решения важнейших задач, стоящих перед обществом. Особенность инструментария уголовного закона позволяет решать вопросы не только охранительного и предупредительного характера, но и иные, которые в сферу уголовного закона не входят.
В этом смысле важнейшее место для формирования единой правоприменительной практики занимают нормативные акты, содержащие официальной толкование уголовного закона. Система таких актов толкования в современных условиях явно переживает кризис, который пока еще не очевиден, но он есть. Законодательная и правоприменительная система нуждается в пересмотре конструкции данной системы с обязательным определением органа, который должен отвечать за формирование правоприменительной практики. Сейчас ясного ответа на этот вопрос нет.