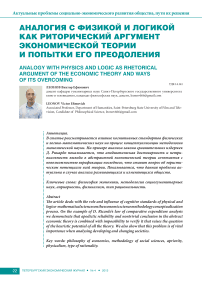Аналогия с физикой и логикой как риторический аргумент экономической теории и попытки его преодоления
Автор: Леонов Виктор Ефимович
Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal
Рубрика: Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения
Статья в выпуске: 4 (4), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается влияние когнитивных стандартов физических и логико-математических наук на процесс концептуализации методологии экономической науки. На примере анализа закона сравнительных издержек Д. Рикардо показывается, что аподиктическая достоверность и нетри виальность вывода в абстрактной экономической теории сочетается с невозможностью верификации последнего, что ставит вопрос об эвристи ческом потенциале всей теории. Показывается, что данная проблема ак туальна в случае анализа развивающихся и изменяющихся обществ.
Философия экономики, методология социогуманитарных наук, априорность, физикализм, тип рациональности
Короткий адрес: https://sciup.org/140128822
IDR: 140128822
Текст научной статьи Аналогия с физикой и логикой как риторический аргумент экономической теории и попытки его преодоления
The article deals with the role and influence of cognitive standards of physical and logico-mathematical sciences on the economic science methodology conceptualization process. On the example of D. Ricardo’s law of comparative expenditure analysis we demonstrate that apodictic reliability and nontrivial conclusion in the abstract economic theory is combined with impossibility to verify it that raises the question of the heuristic potential of all the theory. We also show that this problem is of vital importance when analysing developing and changing societies.
Отличительной особенностью европейской модели культуры является чрезвычайно высокая оценка рационального умозрительного знания. В методологическом плане это нашло выражение в становлении и развитии логики и математики как универсальных способов познания мира. В силу этого отнюдь не случайным является то, что в рамках этой культуры рангом высшей степени достоверности и убедительности обладают интерсубъективные аподиктические суждения-тавтологии. Большой вклад в становление именно такого стандарта достоверности был сделан в античной и европейской эпистемологии. В частности, в связи с разработкой Платоном теории «идей», концепцией «cogito» Декарта, теорией априорных суждений Канта, дистинкцией логического и психологического Гуссерлем. Наряду с рациональным и умозрительным, выражаемом с помощью понятий, также существует и так называемое «неявное» знание. Неявное знание – это навыки, умения, привычки, стереотипы и практики какой-либо деятельности. С точки зрения физиологии высшей нервной деятельности – это системы условных рефлексов. С позиции гносеологически значимых характеристик неявное знание чаще всего определяется через отрицание как: не формализируемое, не вербализируе-мое, не интерсубъективное.
Человеческие культуры, их специфика и отличие друг от друга во многом определяются тем, что они являются такими системами навыков и практик. Плохо концептуализируемый и в полной мере неинтерсубъективный мир практик и традиций соответствующей культуры часто именно в силу этого и предстает перед мыслителем, который определяет и оценивает действительность в соответствии со стандартами рациональной транссубъективности, как нечто не вполне определенное, не ясное и не имеющее четко очерченного значения.
Гносеологически заданная дистинкция между неявным опытом стереотипов и практик и хорошо формализованным умозрительным и рациональным знанием находит свое дальнейшее естественное выражение в несравнимо лучшей пригодности к операцио- нализации и масштабируемости последнего по сравнению с первым. На абстрактно теоретическом уровне принципиальное различие между умозрительно рациональным знанием и системой навыков хорошо показал Ж. Пиаже. Согласно последнему, наиболее характерной особенностью интеллекта является его обратимость, которая проявляется в том, что последний «может сконструировать гипотезы, затем их отстранить и вернуться к исходной точке, пройти путь и повторить его в обратном направлении, не меняя при этом используемых понятий» [1, c. 20]. Примером такой способности интеллекта является логическая и математическая операция транзитивности, так как здесь хорошо видно, как мысль без ущерба для своего содержания может двигаться как в одну, так и в обратную сторону. По сравнению с интеллектом навык – гораздо менее эффективная способность, так как он нетранзитивен. В частности, моторный навык действует только в одном направлении, и, допустим, умение осуществлять движение в другом направлении означает приобретение нового навыка.
Несмотря на столь выгодное отличие, практический успех к видам деятельности, которые целиком и полностью основаны на рационально умозрительных принципах, приходит достаточно поздно. Практическая реализация этого происходит лишь в Новое время и первоначально выражается в создании классической механики с ее абстрактными законами движения. Позднее возникают технические науки, теоретическое и, в силу этого, масштабируемое знание которых приходит на смену во многом случайно-эмпирическим, отрывочным и рутинным навыкам ремесленной деятельности прошлого. Естественно, что деятельность на основе последних гораздо менее эффективна в экономическом смысле и у нее гораздо более низкий потенциал для развития. По словам Д. Моки-ра, «при отсутствии понимания того, как и почему работает данная технология, дальнейшие усовершенствования быстро приведут к уменьшению отдачи» [2, c. 35].
Очевидный успех в реализации рационально-умозрительной установки применительно к изучению природы и в связи с созданием теоретических основ техники оказал заметное влияние на характер проблематики и методологию социально-гуманитарных исследований. Это влияние нашло свое наиболее явное выражение в социологии, особенно в начальный момент ее развития. Идея проекта, предложенного А. Сен-Симоном и О. Контом, состояла в том, чтобы применить к исследованию общества тот же принцип, который получил развитие в области естественных и технических наук, и реорганизовать общество по образцу организации производства в промышленности. Эта идея была подвергнута критике Ф. Хайеком, который указал на непонимание сторонниками социальной инженерии методологических особенностей социальных исследований, обвинив последних в зависимости от стандартов объективистских наук и «рабском подражании языку и методам науки» [3, c. 14]. Основной недостаток данного проекта состоял в том, что последний достаточно трудно было согласовать с такой важной чертой поведения человека, как стремление к реализации собственных интересов.
Политическая экономия, будучи альтернативным проектом исследования социального мира, в этом смысле изначально была гораздо более реалистичной и более внимательной к особенностям человеческой природы. Предложенная А. Смитом метафора «невидимой руки» в качестве средства достижения гармонии и благосостояния в обществе посредством реализации каждым собственного интереса впоследствии была концептуализирована в рамках теории предельной полезности, согласно которой спрос и потребности определяют характер производства, а не наоборот, в теории рассеянного знания и гносеологической функции цены Хайека. Если использовать терминологию современной философии науки, то можно сказать, что проект политической экономии в отличие от социологического проекта всегда был эндогенно синергетическим, так как в своей основе содержал принцип самоорганизации в виде непреднамеренного упорядочивания отдельных интересов средствами механизмов рынка.
Одновременно с этим, экономическая наука не избежала влияния физикалистской парадигмы, что было особенно заметно в начальный период ее развития. Влияние физики и методологических постулатов такой абстрактной науки, как геометрия наук, нашло здесь особую форму выражения в виде подчеркнутого внимания и постоянной актуализации темы объективности и линейного характера тех зависимостей и отношений, которые составляют предмет этой науки. Вершиной такого понимания стала концепция «экономического закона» как объективной вневременной устойчивой и повторяющейся связи между явлениями, а также представление об исключительно дедуктивном характере экономической теории. Например, по мнению такого систематизатора классической доктрины политической экономии, как Дж. С. Милль, политическая экономия является «по существу абстрактной наукой, а ее метод – … метод a priori» [4, c. 60]. Достаточно характерны взгляды другого систематизатора классической доктрины – Дж. Кернса, который прямо утверждал, что «политическая экономия должна быть такой же наукой, как астрономия, механика, химия и физиология» [5, c. 12]. Наличие логически безупречного характера вывода в экономических теоремах как теориях дедуктивного типа позволяет говорить об особом эпистемологическом статусе чистой экономической теории, которую можно рассматривать в качестве особой разновидности априорного знания, обладающего таким же уровнем достоверности, как априорные суждения чистого естествознания, арифметики и геометрии в версии Канта. На такой характер экономического знания указал, в частности, Л. Мизес, прямо говоривший о том, что экономическая теория – это априорное знание, в силу чего «все теоремы экономической теории необходимо действительны во всех случаях, когда даны все сделанные допущения» [6, c. 66].
Простым и ясным примером указанных особенностей чистой экономической теории, который наглядно демонстрирует эвристический потенциал последней в виде неочевидных и даже противоречащих здравому смыс- лу выводов, является закон сравнительных издержек Д. Рикардо. В формулировке автора закон звучит так: «При системе полной свободы торговли каждая страна … затрачивает свой капитал и труд на такие отрасли промышленности, которые доставляют ей наибольшие выгоды. Это преследование индивидуальной выгоды самым удивительным образом связано с общим благом всех» [7, c. 116]. Чтобы разъяснить свою мысль, Рикардо рассматривает пример, который по смыслу аналогичен следующему. Предположим, необходимо решить, выгодно или нет международное разделение труда и свобода торговли между двумя странами, в одной из которых производительность труда во всех отраслях выше, чем в другой. Допустим, существуют только два товара, «А» и «Б», причем производительность за час в первой стране («страна 1») составляет: А = 40, Б = 60. Во второй же стране («страна 2») производительность за то же время выше: А = 50, Б = 75. Спрашивается, какая стратегия является более выгодной для каждой из стран: производить оба товара самостоятельно либо же сконцентрироваться на производстве какого-то одного товара, соответственно, покупая второй товар у другой страны. На первый взгляд может показаться, что стране 2 международное разделение труда не выгодно, так как она сама производит любой товар с меньшими издержками, чем страна 1. Действительно, для страны 2 производить товар Б вроде бы более выгодно самой, чем покупать его в стране 1, ибо 75 больше, чем 60. Рикардо предлагает взглянуть на эту ситуацию иначе. Если каждая страна самостоятельно производит оба товара, то суммарное количество благ, которое будет произведено в каждой из стран определяется следующей формулой: страна 1 (А = 40 + Б = 60) + страна 2 (А = 50 + Б = 75) = 225. В случае же специализации каждой страны на производстве только одного товара (страна 2 сосредотачивается на производстве только товара Б, а страна 1 только товара А) общая сумма произведенных благ будет определяться по такой формуле: страна 1 (А = 40 × 2) + страна 2 (Б = 75 × × 2) = 230. Очевидно, что во втором случае общая сумма произведенных благ больше, чем в первом. На основании этого Рикардо и делает вывод, что специализация и международное разделение труда выгодно.
Приведенные вычисления с формальной точки зрения являются примером априорных суждений и именно про такой тип знания Й. Шумпетер сказал, что «существует класс экономических теорем, являющихся, по сути дела, логическими … нормами» [8, c. 20]. Очевидная эвристичность нетривиальных выводов дедуктивной экономической теории имеет и обратную строну, которая связана с проблемой оценки фактического значения изначально безупречных умозрительных рассуждений. Дело в том, что логически корректные выводы из экономических теорем очень опосредованно связаны с практикой хозяйственной деятельности, в силу чего практические попытки реализации последних могут сопровождаться как ростом, так и уменьшением уровня общественного благосостояния. В частности, опираясь на данные, которые получены в результате анализа действия закона сравнительных издержек, можно сделать два взаимоисключающих вывода. В случае первого вывода (этот вывод тождественен позиции самого Рикардо) проведенный расчет можно понимать как теоретическое обоснование и доказательство целесообразности международного разделения труда и специализации. Но также можно предположить и иную интерпретацию и, соответственно, другой вариант развития событий. Одним из возможных следствий вступления страны 1 в систему международного разделения труда со страной 2 является то, что первая страна, сосредоточившись на производстве товара А, не развернет у себя производство товара Б именно потому, что с точки зрения возможного объема потребления такая стратегия для нее невыгодна. Закон сравнительных издержек поэтому не только доказывает выгоду от международной торговли, но, как это ни парадоксально, может способствовать лучшему пониманию того, почему в условиях открытой торговли высокоразвитые промышленные и менее развитые страны, которые занимаются сельскохозяйственным производством или добычей ископаемых, постоянно остаются на прежних относительных позициях, демонстрируя, соответственно, более высокий и более низкий уровни развития.
По мнению Д. Дальтона, следствием интеграции изначально высоко- и низко-развитых стран может быть феномен вырождающихся изменений, роста без развития последних, который находит выражение в росте валового национального продукта за счет увеличения продажи урожаев и труда, а не за счет структурных изменений в экономике, технологии и культуре, которые необходимы для долговременного и непрерывного роста [9, c. 146]. Результатом действия схожего механизма Ф. Бродель объясняет феномен рефеодализации в Восточной Европе после XV века, который, по его мнению, в определенной степени был связан с развитием капитализма в Западной Европе, так как «с начала XVI в. конъюнктура … обрекала Восточную Европу на участь колониальную – участь производителя сырья» [10, c. 259]. В силу того, что безупречность логического следования в априорных экономических моделях сочетается с неприменимостью к последним процедур верификации и фальсификации как стандартных приемов оценки научного знания, вполне естественно возникает вопрос об их эпистемологическом статусе. Д. Макклоски, задаваясь этим вопросом, приходит к выводу, что модели – это метафоры, использование которых порой позволяет лучше понять сложные черты социальной действительности. Проблема в том, что экономисты «очень любят свои метафоры, … приписывая им «позитивный» и «объективный» статусы» [11, c. 413].
Следует заметить, что трудности, связанные с попытками согласовать абстрактный мир равновесных и линейных экономических моделей с наблюдаемым фактом изменений и существенного различия в развитии разных народов и регионов, в настоящее время привели к попыткам пересмотра и уточнения предметной области экономических исследований посредством отказа от рассмотрения экономических явлений как простых линейных зависимостей и включения в сферу анализа политико-институциональных, социокультурных и психолого- антропологических факторов. В частности, П. Дэвид на примере истории клавиатуры QWERTY попытался показать механизм закрепления в условиях рыночной экономики неоптимальной технологии ввиду случайности первоначального выбора, в результате чего «конкурентные силы быстро загнали отрасль в рамки стандартов, закрепляющих господство неэффективной системы» [12, c. 149]. Описывая то, как случайно образовавшийся круг положительной обратной связи может сделать практически невозможным переход к более эффективным технологиям, Дэвид по существу предлагает учитывать в рамках экономического анализа историческое измерение или, как он выражается, «зависимость от пути развития». Тема зависимости от пути развития в виде трансляции экономически неэффективных, но исторически обусловленных социально-политических институтов находится в центре внимания Д. Норта, который рассматривает причины разительной несхожести путей и результатов экономического развития сначала Англии и Испании, а затем Северной и Южной Америк. По его мнению, такое различие не может быть объяснено в рамках неоклассической модели, которая описывает выпуск в экономике как функцию от количества и цен затраченных ресурсов – земли, труда, капитала и предпринимательских способностей. По словам Норта, «такая формулировка если не является ошибочной, то, во всяком случае, серьезно запутывает дело, поскольку если бы выпуск в экономике определялся только этим, все страны были бы богаты» [13, c. 78]. Для того чтобы объяснить различие, необходимо учитывать функцию государства по защите правопорядка и, прежде всего, то, как определены права собственности. Г. Кларк, задаваясь вопросом о том, почему промышленная революция первоначально произошла в Англии, а не в Китае или Японии, пытается дать ответ, привлекая антропологические и социокультурные данные. По его мнению, в Англии вследствие острого дефицита земель и менее продуктивной сельскохозяйственной технологии действие мальтузианских законов ощущалось значительно жестче, чем в Китае и Японии, и, одновременно, демографическая система в этих странах обеспечивала меньшее репродуктивное преимущество для богатых людей, чем в Англии. Вследствие этого в японском и китайском обществах не было такого большого количества выходцев из богатых слоев общества, которые в силу своей избыточности должны были спускаться на более низкие ступени социальной иерархии, принося с собой нравы и культуру среднего класса. Поэтому, как пишет Кларк, «можно предположить, что преимущества Англии заключались в быстром культурном, а возможно и генетическом распростране- нии ценностей экономически успешного слоя по всему обществу в 1200–1800 годах» [14, c. 375].
Как представляется, отказ от жестких стандартов классической рациональности с ее простыми механически подобными моделями линейных зависимостей и априорным дедуктивным выводом из четырех или пяти исходных посылок в сторону понимания социально-экономических процессов как более сложных явлений, которое предполагает учет и анализ случайных, исторически и культурно обусловленных факторов, является позитивным сдвигом в области социогуманитарных исследований, в том числе и экономических.
Список литературы Аналогия с физикой и логикой как риторический аргумент экономической теории и попытки его преодоления
- Пиаже Ж. Психология интеллекта/Жан Пиаже. СПб.: Питер, 2003.
- Мокир Д. Дары Афины. Исторические истоки экономики знаний. М.: Издательство Института Гайдара, 2012.
- Хайек Ф. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблениях разумом. М.: ОГИ, 2003.
- Милль Дж. С. Об определении предмета политической экономии и о методе исследования, свойственном ей//Философия экономики. М.: Из-во Института Гайдара, 2012.
- Кернс Дж. Логический метод политической экономии. М.: Книжный дом «Либроком», 2012.
- Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. Челябинск: Социум, 2005.
- Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения//Избранное: В 3 т. Т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955.
- Шумпетер Й. История экономического анализа. В 3 т. Т. 1. СПб.: Экономическая школа, 2001.
- Шрадер Х. Экономическая антропология. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 1999.
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т. 2. Игры обмена. М.: Прогресс, 1988.
- Макклоски Д. Риторика этой экономической науки//Философия экономики. М.: Издательство Института Гайдара, 2012.
- Дэвид П. Клио и экономическая история QWERTY//Истоки: из опыта изучения экономики как структуры и процесса. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007.
- Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение//THESIS. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. Альманах. Вып. 2. М.: Начала-пресс, 1993.
- Кларк Г. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира. М.: Издательство Института Гайдара, 2012.