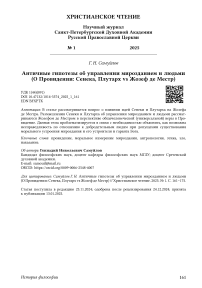Античные гипотезы об управлении мирозданием и людьми (о провидении: Сенека, Плутарх vs Жозеф де Местр)
Автор: Самуйлов Г.Н.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о влиянии идей Сенеки и Плутарха на Жозефа де Местра. Размышления Сенеки и Плутарха об управлении мирозданием и людьми рассматриваются Жозефом де Местром в перспективе общечеловеческой (универсальной) веры в Провидение. Данная тема проблематизируется в связи с необходимостью объяснить, как возможна несправедливость по отношению к добродетельным людям при допущении существования морального устроения мироздания и его устроителя и гаранта Бога.
Провидение, моральное измерение мироздания, антропология, этика, зло, наказание
Короткий адрес: https://sciup.org/140309268
IDR: 140309268 | УДК: 1(44)(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_161
Текст научной статьи Античные гипотезы об управлении мирозданием и людьми (о провидении: Сенека, Плутарх vs Жозеф де Местр)
В интеллектуальной истории Европы Жозеф де Местр (1753–1921) занимает видное и прочное место в качестве идеолога консерватизма. Интерес к творчеству савойского аристократа не иссякает уже третье столетие. Проводятся научные семинары, конференции [Armenteros, Lebrun, 2011], ведется исследовательская работа, издаются книги [Armenteros, 2011] и пишутся статьи, причем не только на Западе, но во всем мире, включая такие страны, как Бразилия и Россия [Даренский и др., 2024]. Парадоксальным образом этот интерес главным образом сохраняется и развивается в академическом пространстве. Секрет такого устойчивого интереса кроется в ярком писательском таланте и стиле автора, в богатом историко-философском содержании его произведений, а самое главное, в том, что его мысль с самого начала и по настоящее время остается актуальной, поскольку она родилась и обрела силу в самой сердцевине непрекращающейся битвы революционных и консервативных идеологий. Поскольку противостояние продолжается и сегодня, творчество графа остается востребованным христианами для отстаивания собственной картины мира и соответствующего образа жизни и мыслей в борьбе с парадигмой атеистически ориентированного позитивизма.
Вопрос о Провидении является ключом к пониманию творческого наследия Жозефа де Местра, особенно это касается его «Рассуждений о Франции» и «Санкт-Петербургских вечеров», где он утверждает, что о каком бы предмете ни шел разговор, речь всегда идет о Провидении [Местр, 1996, 18].
Свое исследование вопроса о Провидении граф начинает в одной из самых первых своих книг, «Размышление о Франции». Революционные события потрясли его своим масштабом и силой. Парадоксальность заключается в том, что для Местра эти чудовищные события революции наглядно демонстрируют присутствие и действие Бога в истории.
Местр всматривается в это присутствие Провидения в истории на протяжении всей своей жизни. Итогом его размышлений стали «Санкт-Петербургские вечера», издание которых увидело свет спустя несколько месяцев после его смерти. В этом произведении Местр опирается на исторический опыт человечества, из которого он извлекает и формулирует принцип универсальности. Он стремится создать парадигму, способную противостоять атеистическому и материалистическому, или, более широко, — некому общему сциентистскому движению, в котором нет места вере в реальное присутствие Бога в мире и его истории. Главный тезис, на котором он постоянно настаивает: мир нужно рассматривать в его целокупности, особо подчеркивая его духовные основания.
В истории философии вопрос о Провидении рассматривался Платоном, стоиками, в частности Хрисиппом, Сенекой, а в связи с вопросами судьбы, свободой воли, благодати и предопределения — также такими мыслителями, как Цицерон, перипатетик Александр Афродисийский, Плутарх, Халкидий, блж. Августин. Практически невозможно достичь хоть какой-то ясности в вопросе о Провидении отдельно от таких сопутствующих тем, как необходимость, случайность, судьба, происхождение зла, предопределение и свобода воли, поскольку они представляют собой некое семантическое единство, в котором эти понятия определяются друг через друга.
В самом начале «Санкт-Петербургских вечеров» Местр определяет и ставит свою задачу именно как метафизическую: «рассмотреть и измерить в совокупности пути Промысла в управлении моральным миром» [Местр, 1996, 12], исследовать мироздание в его моральном аспекте. Вопрос о Провидении — это не просто сквозная, пронизывающая все произведение тема, но и неустранимая методологическая компонента рассуждений. Все обсуждаемые вопросы и проблемы обнаруживают свою истинную значимость только в свете Божественного всеприсутствия.
Рассуждения Местра на данную тему основываются не только на философски осмысленном христианском учении, но и опираются на интеллектуальное и религиозное общечеловеческое наследие цивилизации. А это и есть принцип универсальности:
положения христианского учения находят подтверждение в верованиях всех времен и народов.
Размышления Сенеки и Плутарха об управлении мирозданием и людьми рассматриваются Жозефом де Местром в перспективе общечеловеческой (универсальной) веры в Провидение. Данная тема проблематизируется в связи с необходимостью объяснить, как возможна несправедливость по отношению к добродетельным людям при допущении существования морального устроения мироздания и его устроителя и гаранта Бога.
Сенека
Для понимания рассуждений Сенеки на данную тему очень важно учитывать общую парадигму стоического учения, в рамках которой понятия «рок», «фатум», «природа» связаны с «необходимостью», с детерминизмом всего происходящего согласно «закону» и его строгой причинно-следственной связи, царящей над всем, причем такой силой «необходимости», изменить которую не под силу и богу. То есть, с одной стороны, миром (богами и людьми) правит мировой закон (Необходимость): « этот стремительный и беспрепятственный бег происходит по велению вечного закона, которому повинуется все на земле », «мы не знаем, что распоряжается нашей жизнью и смертью, но знаем, что та же необходимость управляет и богами. Одно и то же необратимое движение увлекает за собой богов и людей. Сам творец и правитель вселенной, написавший законы судьбы, следует им; однажды издав приказ, он сам теперь вечно [своему закону] повинуется». «Мастер» (бог, демиург) не властен изменить саму материю, но лишь может придать ей ту или иную форму. С другой стороны, бог дал душе человека оружие, благодаря которому она способна противостоять несчастьям и невзгодам. Парадоксальным образом утверждается, что человек может даже превосходить богов. Интересна аргументация, как вообще возможно подобное? Поскольку бог во всех смыслах находится по ту сторону зла, он в отличие от человека не подвержен несчастьям и невзгодам, в то время как люди могут развивать в себе мужество и добродетели. Именно это позволяет человеку подниматься выше богов. С другой стороны, «бог стоиков» изначально стремится избавить людей от всего, что могло бы их заставить поступать против собственной воли, вплоть до того, что люди всегда могут уйти из мира. Имеется в виду, что у человека всегда есть возможность уйти из жизни, тем самым освободив себя от власти природного детерминизма. Именно в этом контексте нужно понимать значение смерти как короткого пути к свободе. Сенека утверждает, что смерть это короткая и удобная дорога, которая ведет человека на свободу. «Всякое место, всякое время могут научить вас, как легко отказаться от жизни и кинуть назад природе полученный от нее дар. Стоя пред алтарем, глядя на торжественные обряды священнодействия, внимая молитвам о продлении жизни, учитесь смерти» (см.: [Сенека, 2001]).
Обращаясь к теме взаимоотношений людей и богов, Сенека отмечает, что часто люди, которые заявляют, что не верят, на самом деле верят в Провидение. Все их сомнения — это на самом деле жалобы на него. Примирить человека с богами возможно при условии, если человек становится добродетельным. Именно добродетель роднит богов и людей: «ибо для лучших из людей они — лучшие из богов». «Природа не допускает, чтобы доброе вредило доброму. Добрых людей и богов связывает дружба, родившаяся из общей для них добродетели». И более того, «это родство и сходство, ибо добрый человек отличается от бога лишь по времени; он — его ученик, его подражатель, его подлинное потомство, которое великий родитель, суровый наставник добродетели, воспитывает твердо и жестоко, как и земные строгие отцы».
Когда мы видим, как добродетельный муж, угодный богам, страдает, трудится, потеет, карабкается на вершину, а дурной веселится и купается в наслаждениях, это похоже на то, как римляне воспитывали собственных детей, желая их видеть скромными и приучая их к выносливости и мужеству. Своих детей они приучали к суровой дисциплине, а в рабах поощряли наглость. Сенека заявляет, что с богом — то же самое. Доброму мужу он не дает веселиться, испытывает его, закаляет, готовит его для себя.
Местр в самом начале «Санкт-Петербургских вечеров» ставит тот же вопрос, что и Сенека в своем трактате «О Провидении»: «почему добродетельные люди подвергаются несчастьям?» [Сенека, 2001, 86], как это возможно — «счастье злых и несчастье праведных» [Местр, 1996, 17], если мир управляется Провидением?
В ответ на распространенное мнение против существования Провидения, которое основывается на многочисленных примерах страдания праведников и благополучия злых людей, Местр замечает, что оно было бы несокрушимо, если бы мы знали наверняка, что добрый человек страдает именно потому, что он добр, а злодею сопутствует успех именно потому, что он злодей [Местр, 1996, 16, 20]. В общем, утверждение, что преступление в целом торжествует, а добродетель несчастна, — ложно. Это утверждение следовало бы, согласно Жозефу де Местру, переформулировать в вопрос следующим образом: «Почему в земной жизни праведник не избавлен от несчастий, подобных настигающим преступника, и почему злой не лишен тех благ, которыми может наслаждаться праведник?» В этом варианте проблема предстает уже в иной перспективе. Ответ Местра прост: праведник страдает в силу своей причастности к человеческой природе.
Мир управляется всеобщими законами, и каждый человек в качестве человека подвержен всем несчастьям человеческой природы.
Однако универсальные и незыблемые законы сами по себе еще не доказывают, что существует равенство благ и несчастий. «Бог не допускает, чтобы с добрыми людьми случались настоящие несчастья». Все благо (счастье) Бог поместил внутри, также как и настоящие несчастья. Подлинное несчастье — это когда душой обладают нечистые помышления, корыстные замыслы, слепое вожделение, алчность. И напротив, обладание добродетелью делает человека счастливым. Добродетель содержит сама в себе максимум счастья. «Настоящее благо — это то, что достается на долю только хороших людей, а настоящее зло бывает уделом только мерзавцев» [Сенека, 2001, 100].
Плутарх и Местр
Местр очень высоко оценивает творчество Плутарха. Он считает, что «нет ни одной здравой идеи в политике или морали, которая ускользнула бы от здравого смысла Плутарха». При этом его идеи лишены привкуса всякого рода сектантства, местничества или ограниченности. Они принадлежат всем временам и народам» (см.: [Maistre, 1876]).
Влияние интеллектуального наследия Плутарха на графа де Местра было столь значительным, что Р. Триомф утверждает, «что порой граф без всякой ссылки на какой-либо конкретный труд Плутарха просто „плутархизирует“, что свидетельствует о том, насколько он был верен его духу» [Triomphe, 1968, 429].
Местр без конца цитирует «Изиду и Озириса» в «Mémoire au duc de Brunswick», в «Размышлениях о Франции» он обращается к «Жизнеописаниям», в частности Ликурга, Солона, Нумы. В «L’étude sur la souveraineté» мы встречаем определение Бога из трактата Плутарха «La dissertation sur l’EI de Delphes», Который определяется как высшее существование, как источник всякого другого существования (см.: [Maistre, 1992, 173])1. В «Essai sur le principe générateur» Местр цитирует «Пир семи мудрецов», доказывая, что душа — это орудие Бога, как орудие души — тело. Обращается Местр и к другим работам популярного в XVIII в. платоника.
Особое место для Местра занимает небольшой трактат Плутарха «Об отсрочках Божественной справедливости в наказании виновных» («Sur les délais de la justice divine, dans la punition des coupables»), комментированный перевод которого он осуществил [Maistre, 1876]. В русском переводе Л.А. Ельницкого он носит название «„Почему Божество медлит с воздаянием“ (с греческого на русский)».
Этот трактат напрямую связан, наряду с трактатом Сенеки «О Провидении», с размышлениями о наказаниях и наградах, о судьбах злых и добрых людей. Можно говорить как о влиянии мысли мудрецов древности на савойского аристократа, так и о полной идентичности некоторых идей у Местра, Сенеки и Плутарха.
Такую близость идей мы можем видеть на примере комментированного перевода трактата «О промедлении Божественной справедливости», выполненного Жозефом де Местром. В этом трактате он находит совпадение мысли Плутарха со своими собственными рассуждениями о природе человека, о Провидении и эсхатологии.
В предисловии Местр признается, что хочет сделать такой вид перевода, который будет подобен тому, что сделал знаменитый в его время Мендельсон, переводя и комментируя диалог Платона «Федон». Он хочет воспользоваться древним трактатом в качестве образца и модели, в рамках которых его идеи могут быть хорошо структурированы и получат дополнительную глубину в свете работы такого авторитетного автора, как Плутарх.
Местр считает, что Плутарх относится к предмету исследования с удивительной строгостью и мудростью, что он никогда не поддавался искушению воображения, никогда не вел себя, как поэт. Если он что-то и придумывал, то не для обеливания или украшения, но для подтверждения истины.
Местр был практически убежден, что Плутарх был знаком с истинами христианства. Он указывает на то, что Плутарх жил в особенное время, а именно в эпоху истинного просвещения человечества христианством. Ему трудно поверить, что такой любознательный человек, каким был Плутарх, мог не знать христианства. Ведь, например, он специально ездил в Египет для обучения, поэтому был прекрасно осведомлен об эллинистическом иудаизме и его религиозных практиках. Таким образом, «все вероятности объединяются в пользу предположения» знакомства Плутарха с христианством. Но никаких конкретных доказательств этого не существует (см. подр.: [Glaudes, 2007, 1250–1254]).
Как бы то ни было, для Местра несомненно, что трактат Плутарха «О промедлении божественной справедливости» является одним из наиболее близких в античности к христианскому миропониманию. Воодушевленный мыслью о пользе трактата, Местр перевел его, признавая, что местами позволял себе довольно свободно истолковывать текст. Он упразднил форму диалога, которая стесняла его. Когда в ходе работы мысль Плутарха казалась ему неполной, он иногда позволял себе ее укрепить своими интерпретациями, основанными на своих собственных размышлениях. В своей работе он обращался также и к переводам, которые были сделаны до него. Особое место принадлежит переводу Амио, который был особо уважаем специалистами за его французский язык. Однако Местр подчеркивает, что этот перевод любили прежде всего филологи и литераторы, которым удалось освоить специфику его языка. Вне этого круга его больше почитали, чем читали. По мнению Местра, текст перевода Амио может вводить читателя в заблуждение. Местр уверен, что его собственный перевод гораздо удачней для тех, кто желает лучше понять Плутарха. Он следует в точности порядку глав, как это сделано в переводе Амио. Таким образом, для тех, кто желает сравнить эти два перевода, это будет сделать нетрудно.
Дата появления самого трактата Плутарха не может быть установлена точно. Ее помещают во второе десятилетие II в., когда Плутарх уже отошел от написания исторических биографий, чтобы сосредоточиться на задачах религиозного назидания (см. об этом: [Plutarque, 2010]).
В начале трактата вниманию читателя предлагается дискуссия о справедливости, аналогичная тем, какие мы встречаем в диалогах Платона «Государство» или «Законы» [Платон, 1994]. Миф, подобный мифу об Эре из Памфилии из 10-й книги «Государства» (см. об этом: [Самуйлов, 2024а; Самуйлов, 2024б]), венчает утверждение Плутарха о наличии божественной справедливости.
Действие разворачивается в портике Дельф. Спор, вызванный речью эпикурейца, происходит между Патроклом, родственником Плутарха, Тимоном, братом автора, Олимнихом и самим Плутархом, который является самым пожилым в группе и доминирует в беседе. Эпикуреец проблематизирует предположение о факте задержки с наказанием преступников. В ответ Плутарх замечает, что не всякому человеку дано понять смысл и значение этих задержек с наказанием. Он убежден, что это под силу только проницательному законодателю, который может постичь настоящий смысл и истинное значение промедления, потому что существуют неявные процессы как во времени, так и в пространстве между кажущимися независимыми событиями.
Возражения против существования Провидения
Эпикуреец считает, что отсрочки наказаний совсем не нужны тем, кто пострадал, то есть эти задержки бесполезны для жертв. Для них это одно из самых сильных возражений, которые можно выдвинуть против Провидения. Они не прощают писателей, которые сделали эту медлительность своего рода атрибутом Провидения. По их мнению, медлительность божества в наказании преступников сама по себе безнравственна, потому что ее можно понять как проявление безразличия божества к жертвам. Такого рода медлительность усиливает наглость и дерзость преступников, и наоборот, наказания, немедленно поражающие преступников, способны останавливать грядущие преступления и дают хоть какое-то чувство удовлетворения жертвам и их близким. Немедленное возмездие должно служить увещеванием для преступников, чтобы остановить их в осуществлении преступных планов.
Медлительность разрушает уверенность людей в существовании Провидения, потому что наказание, вместо того чтобы поразить преступников сразу же, как только проступок был совершен, происходит позже, и преступники видят в нем уже только несчастье и, называя его несчастьем, а не наказанием, воспринимают его именно в таком качестве, без раскаяния о содеянном. Такое правосудие, которое наказывает преступников «медленно», носит неустойчивый, запоздалый и беспорядочный характер, который больше похож на случайность, чем на Провидение. Такая медлительность ослабляет авторитет правосудия и уничтожает страх перед неизбежностью наказания за преступление.
Чтобы опровергнуть эту логику, Плутарх опирается на аргументы, разработанные платонической традицией. Во-первых, он указывает на то, что у нас нет полного знания о Боге и обо всем, что происходит в мировой истории. Во-вторых, если мы допускаем существование Бога, то последний может быть мыслим только как суверен, как абсолютная справедливость, и именно она определяет для каждого из преступников время и меру наказания.
Логика установленных людьми законов далеко не всегда является безупречной, а некоторые законы и предписания и вовсе оказываются слишком неопределенными. Но если мы не можем оценить по-настоящему человеческие дела, то насколько труднее нам понять, почему боги наказывают одних преступников позже, а других — раньше.
Божественное первоначало является благом
Плутарх напоминает нам, что, по Платону, первоначало, будучи трансцендентным, вместе с тем является парадигмой, первообразом всех благ и всего существующего. В этом контексте человеческая добродетель — это своего рода путь воссоединения с истинным благом, доступным для существ, обладающих способностью «следовать за богом».
«Природа» предстает в качестве организованного мира (космоса) через определенное сходство и соучастие в божественной форме и добродетели. Это Бог дает жизнь и зажигает свет разума. Человеческая душа, созерцая звездное небо, приучает себя любить и искать порядок и гармонию. Философ, созерцая объекты, которые все подчиняются закону порядка и разума, ненавидит страсти, вызывающие дисгармонию и беспорядок, и старается избегать всего того, что «делается случайно» и становится источником всякого зла (см.: [Плутарх, 1979]).
Полезность промедлений с наказаниями
Поскольку человек естественным образом получает от Бога возможность достижения добродетели через подражание и стремление к совершенству, задержки с наказанием могут иметь положительное значение. Они могут выполнять самые разные положительные функции. Все люди нуждаются в этом: одни для улучшения и развития своих достоинств, другие для изменения своего внутреннего состояния, исправления его и восстановления чистого состояния души.
Божественное промедление служит моделью и примером для подражания. Чтобы уменьшить среди людей жестокость, Божество хочет научить людей подражать Божественной кротости и терпению, хочет научить их действовать в соответствии с порядком и умеренностью. Для того чтобы совершать дело справедливости, необходимо отбросить вспыльчивость и гнев, которые способствуют злу, поскольку изгоняют разум. Бог учит людей долготерпению, которое является необходимым свойством Божественной добродетели. Если простым, быстрым и единовременным наказанием исправляются очень немногие, то долготерпение может приводить к исправлению многих.
Полезность промедления для виновных (преступников). Время нужно, чтобы исправить самих виновных. Если люди ограничиваются наказанием ради наказания и наказание прекращается, как только виновный испытал страдание, не стремясь выйти за границы самого наказания, то Бог, напротив, когда применяет справедливое наказание к больной душе, тщательно исследует страсти, чтобы увидеть, можно ли их искоренить и привести виновных к покаянию, и, таким образом, Он дает дополнительное время тем, у кого порок не является ни абсолютным, ни неизлечимым.
Бог не ускоряет наказание для всех. Если он и удаляет «неизлечимое существо» из жизни, то удаляет его, потому что человек становится опасным и вредным как для других, так и для себя самого, потому что он срастается со злом. Для самих преступников будет лучше, если они будут наказаны или даже лишены жизни, поскольку это лучше, чем оставаться со злом и во зле. Тем людям, в ком, по всей видимости, склонность к ошибкам укоренилась больше из-за незнания блага и добра, чем из-за преднамеренного выбора зла, Бог дает время измениться.
Промедление наказания может изменить состояние ума человека и его образ жизни. Плутарх приводит примеры царей: некоторые из них становились жестокими тиранами, но по каким-то причинам изменялись и впоследствии являли собою образец справедливого и человеколюбивого правления. В истории есть немало примеров, когда, приобретя тираническую власть с помощью зла, иные цари впоследствии применяли власть во благо и становились полезными для своего народа. Только Бог настолько долготерпелив, что может ждать, когда время даст позитивные плоды .
Иногда Бог не наказывает сразу, для того чтобы со временем открыть истинный смысл преступления, показать всем скрытные действия и тайные злодеяния.
Также промедление дает возможность спасти тех, кто не виновен в преступлении, например в ситуации, когда беременную преступницу, приговоренную к смертной казни, оставляют в живых, чтобы дать возможность родиться невинному ребенку.
Также Провидение может использовать одних людей для наказания других. Иногда люди сначала могут выступать в качестве карающей силы, прежде чем они сами будут сокрушены. Так обстояло дело с большинством тиранов. Однако и в этом случае Бог не уничтожал всю династию: Одиссей, Асклепий и многие другие известные герои являлись потомками злых и подлых предков.
Бог может использовать тиранов, чтобы исправить моральное состояние народов, потому как некоторые народы оказываются в состоянии, требующем наказания и возмездия. Все это показывает, что наказания могут применяться тогда и такими способами, которые не очевидны для людей.
«Палинодия», раскаяние как немедленное наказание
Виды воздаяния и наказания могут быть самыми разными. Самая простая классификация различает внутренние наказания, такие как раскаяние, и внешние наказания. Угрызение совести — это немедленное возмездие, это своего рода страдание, которое немедленно и обязательно следует за несправедливостью. Нарушение моральных законов причиняет страдания, которые и являются воздаянием за проступки. Упорство во грехе ведет к внутреннему и внешнему разложению, человек становится развращенным, он извращает свою собственную природу.
Все преступники, которые, как кажется многим, избежали немедленных ударов возмездия, искупают свои преступления в течение более длительного времени, в продолжение которого они испытывают страдания.
Наказание находится уже в самом преступлении
Преступление и порок черпают из самих себя материал и инструменты для наказания, они сами по себе являются очень искусными мастерами, которые творят свою жалкую жизнь. Они добавляют к содеянному множество страхов и душевных страданий, жестоких страстей (стыд, страх, раскаяние, страсти и неприятности). Ибо нет ни твердости, ни меры, ни постоянства, ни уверенности в правильности своего выбора у существа, пораженного злом. Душа каждого преступника ищет способа избежать воспоминаний о своих преступлениях, она пытается отвергнуть угрызения собственной совести, чтобы восстановить ее чистоту, чтобы начать новую жизнь.
Таким образом, можно установить духовно-нравственный закон: причиняя кому-то боль, человек вредит самому себе. Тот, кто хочет причинить вред другому, вредит самому себе, «своей собственной печени» (Hésiode. Trav. 266, puis 265).
Счастье преступников иллюзорно
Большинство преступников, скрывающихся за стенами своих особняков, символизирующих силу и славу, тем не менее становятся жертвами наказания, но никто этого не понимает. Там, где алчность, любовь к деньгам, безумное стремление к удовольствиям и зависть укореняются вместе со злым умыслом и «затаившимся суеверием», там им сопутствуют душевное бессилие, страх смерти, быстрая смена желаний и тщетное стремление к славе, которое сопровождается хвастливостью. Плутарх заявляет, что вся жизнь таких людей разрушена и перевернута с ног на голову пороком.
Наказание потомков злодеев
Что касается наказания потомков преступников, то грехи родителей ложатся на потомство. Местр уверен, что Плутарх разделяет эту универсальную истину, которая в христианской традиции интерпретируется в контексте учения о первородном грехе. В самом трактате Плутарха это предположение было подвергнуто критическому осмыслению, суть которого сводится к тому, что если сами преступники понесли справедливое наказание, то нет никаких причин наказывать их потомков, которые не совершили сами никакого преступления. С одной стороны, было бы несправедливо наказывать дважды за одни и те же поступки. Если боги не наказывают самих совершивших злодеяния, но заставляют невиновных потомков расплачиваться за деяния их предков, то это видится явной несправедливостью.
С другой стороны, если блага передаются по наследству, почему бы тогда не передаваться и наказаниям? Если люди верят, что честь семьи наследуется и распространяется на потомков, то тогда мы должны признать, что, унаследовав достоинства родителей, люди могут наследовать и их грехи и испытывать наказания, возмездие за ошибки родителей. Многие примеры показывают, что потомки искупают грехи своих предков.
Однако люди, опираясь на принцип индивидуальности и личности, отказываются принять такую логику. Почему ребенок или дети детей несправедливого и злого человека должны страдать из-за ошибок своих прародителей? Плутарх уточняет, что неверно думать, будто боги решительно все «грехи отцов вменяют в вину их детям». Если от испорченного человека происходит добродетельный сын, подобно тому, как от больного — совершенно здоровый, то он избавляется от наследственного наказания, как если бы он из преступной семьи был принят в семью добродетельную. Но если он сохраняет болезненное сходство с порочным родом, то должен, конечно, принять на себя и наказание, назначенное преступнику, как долю наследства.
Также не стоит удивляться, что ради излечения человека Божество часто наказывает только склонность к разврату, к разбою, к несправедливости, чтобы излечить порок и искоренить зло прежде, чем оно возьмет верх.
Коллективная ответственность
У этой проблемы есть социальное измерение. Плутарх считает, что наказания богами целых городов могут быть легко объяснены. Ведь город представляет собой единое и взаимосвязанное целое, подобно живому существу. Каждое существо имеет в себе некое единство, которое проявляется в своей главной черте характера, определяющей, в свою очередь, его деятельность, его поведение. Город, поскольку он сохраняет свою самобытность, идентичность, должен сохранять свои собственные черты, привнесенные предками, как отрицательные, так и положительные, в силу того же права, которое дает ему долю в его могуществе и славе.
Семейный аспект
Семья имеет свое уникальное положение, из которого проистекает определенная сила, заложенная в ее природе. Все дети естественным образом укоренены «в сущности» своего отца как в принципе, на основании которого они живут, формируют свою жизнь, поведение и свое «умонастроение». Потомство несет в себе и содержит частицу породившего его отца, а стало быть, по справедливости, оно разделяет и его наказание, и его вознаграждение. Следовательно, справедливо, если они, будучи частью предков, разделят и участь предков. Таким образом, не только от одного человека к другому, но и от души к душе передаются определенные предрасположенности, ухудшения или улучшения. Плутарх допускает такую возможность, что не только порок и добродетель, но и печаль, и радость, и все остальное передаются в акте зачатия. Это предположение Плутарха займет особое место у Жозефа де Местра и будет развито в его рассуждениях о заразности зла и распространении физиологических, психологических и моральных болезней.
О посмертном воздаянии (миф о Феспесии)
Очевидно, что все эти размышления Плутарха основаны на определенных допущениях, из которых наиболее важными являются те, что предполагают существование вечной души. Вопрос о природе души является принципиальным: остается ли наша душа неразрушимой после разрушения тела? Этот вопрос подводит к следующим гипотезам: либо наши души совершенно неразрушимы, либо они могут жить некоторое время после смерти, либо они погибают вместе с телом. В заключительной части диалога Плутарх рассказывает историю о Феспесии из Сол. По форме этот рассказ напоминает знаменитый миф об Эре сыне Армения из 10-й книги «Государства» Платона. Первоначальный образ жизни Феспесия представляет собой отвратительное зрелище. Он был горд, чванлив, циничен и. т. п., вел себя самым злонамеренным образом, пока с ним не приключилось несчастье. Он упал с высоты и потерял сознание. В этом состоянии он находился три дня. Очнулся лишь будучи уже перед могилой, когда его собирались похоронить. После этого события его поведение радикально поменялось, он стал вести добродетельный и благочестивый образ жизни. Окружающие его люди не могли поверить своим глазам и просили его рассказать о том, что с ним приключилось. Он рассказал о том, как он побывал в загробном мире. По возвращении в этот мир он радикально изменил в лучшую сторону как свой образ жизни, так и свой образ мыслей.
Но самого по себе допущения о существовании души после смерти недостаточно для удовлетворения требований справедливости. Возмещение ущерба и наказания за поступки прошлой жизни, которые душа получает после смерти, оставляют людей равнодушными, потому что они не могут их воспринимать и не верят в них, в то время как те, кто видят, как наказания применяются к их детям и потомкам, отвращаются от зла, потому что они видят все собственными глазами. Нет более постыдного и мучительного наказания, чем видеть, как ваша собственная семья страдает по вашей вине: дети преступника, его родственники, его род расплачиваются за него.
Плутарх приводит и контраргументы. Например, Бион считал, что бог был бы более смешным, чем врач, если он наказывал бы детей преступников. Это как если бы врач пытался лечить сына или внука от болезни отца или деда или как если бы он пытался вылечить отца или деда, занимаясь лечением сына или внука [Plutarque, 2010, XVII, 73].
В этом диалоге Плутарха явным образом развиваются и интерпретируются философско-религиозные идеи Платона из диалогов «Горгий», «Государство», «Федон», «Федр» и «Законы» [Plutarque, 2010, XLI].
В трактате подчеркивается особенность закономерностей морального мира, события обретают свое значение, исходя из единого источника, внеположенного времени. Причинные ряды не прямо пропорциональны временным. Поэтому может показаться, что медлительность Божества с возмездием потворствует злодеям. У преступника возникает иллюзия безнаказанности, а у обиженных и наблюдающих со стороны укрепляется сомнение в существовании Провидения. Божество медлит, а злодеяние приносит свои плоды немедленно. Понять эту медлительность Бога можно, если исходить из того, что наказание не должно вплотную соответствовать преступлению, а скорее должно как можно более от него отличаться; — Божество хочет Своим примером избавить нас от жестокости и упорства в жажде наказания . Особо обращается внимание на гнев, который, отринув разум, причиняет еще большие беды.
Само наказание исправляет немногих, а промедление — многих. Главная цель промедления — это излечение души. Это лечение души, называемое законом и справедливостью, есть величайшее искусство. И именно Бог является величайшим мастером, так как это Он выковал меру справедливости, которая мерит, когда, как и насколько следует наказывать каждого из преступников. Провидение наказывает не за каждое преступление в отдельности, но в совокупности и лишь позднее. Только неисправимым оно тотчас же пресекает жизнь [Плутарх, 1997, 200–202]. Наказание призвано сохранять и оберегать порядок, страх наказания является невидимой преградой злу.
Другой преградой, кроме страха, объявляется отсутствие полного знания у человека. Местр подчеркивает тот факт, что человек ничего не знает наверняка. Это незнание выступает необходимым условием для морального выбора. И здесь мы оказываемся в ситуации, когда силлогизм подталкивает нас сделать вывод, что необходимым условием свободы является отсутствие полного знания. Антитезисом этой антиномии будет утверждение Сократа, что, собственно, только знание и является свободой, только познавая Бога, мы вместе с этим знанием обретаем свободу и блаженство.
Значение истории
Нужно признать, что есть сильное сходство и в смысле логики изложения, и в смысле целей при сопоставлении исторических событий у Местра с Плутархом. По сути, история дает им материал для исследования вопроса о Провидении, она наглядно демонстрирует закономерности морального мира. История является иллюстрацией незыблемости моральных законов. Людям остается только научиться извлекать уроки.
В книгах Плутарха настойчиво подчеркиваются и старательно демонстрируются закономерности, которые, с одной стороны, свидетельствуют о действии Провидения, с другой — практически наглядно показывают благость, милосердие и справедливость Божества. На примерах отдельных людей, семей и народов в их исторической перспективе люди могут видеть более ясно и отчетливо, нежели рассматривая эти свойства в рамках непосредственных условий события.
Ко времени Плутарха вопросы Провидения, Промысла, судьбы и свободной воли, а также «основные точки расхождения и методы аргументации по этим вопросам были уже разработаны» [Диллон, 2002, 213]. К этому времени сложились основные подходы к этой проблематике, а именно — платонический, перипатетический, стоический. Плутарх, в противоположность стоикам, делает строгое различение между Судьбой, или порядком природы, и Промыслом: «Бог силою своего Промысла порой делает так, что элементы оказываются в положении, которое для них неестественно» (De fac. 927a). Местр полностью согласен с данным различением между Природой и Богом, например, он использует его в своем рассуждении о чуде.
В полемике со стоиками Плутарх приходит к тезису о невозможности объяснить наблюдаемое, опираясь только на физические закономерности и законы. Требуется допустить существование иной силы. Так, например, круговые движения небесных тел не могут рассматриваться в качестве естественных, если исходить из стоического огня, поскольку он должен был бы просто подниматься вверх. «Стоики ошибаются, по его мнению, смешивая Зевса и Промысл с Судьбой и Необходимостью. Какова была бы нужда в мастере… если бы природа и без Его участия могла производить все, что нужно, в совершенной форме?» [Диллон, 2002, 215].
Этот же вопрос поднимается в трактате «О падении оракулов», на этот раз в связи с природой пророческих способностей. Там развивается доктрина двойственной причинности, которую Плутарх возводит к Платону, речь идет о разработках двух линий аргументации, о Боге и необходимости. Те, кто пытается объяснить пророческую способность естественными причинами (конкретно — испарениями, исходящими от земли), тем самым полностью устраняют роль божественного Промысла. Местр использует эту же схему, когда рассматривает стремление все объяснять с помощью законов природы. Он говорит, «что [тогда] сами законы являются волей законодателя. Если же они — это чисто механический результат деятельности известных стихий, то тогда эти стихии, чтобы создать всеобщий и неизменный порядок, сами должны быть приведены в порядок» неким законодателем [Местр, 1996, 437].
От платонической справедливости к христианскому Провидению
Местр признаёт, что на земле существует зло и оно реально. Истина эта доказывается повседневным опытом, историей, личным страданием. Воспользовавшись классической типологией видов зла , различающей метафизическое, физическое и моральное зло, мы можем сказать, что Бог ни в каком смысле не может быть творцом зла морального, или греха. Но непостижимо, как Он мог бы быть и творцом зла физического, которого бы вовсе не существовало, если бы разумное создание, злоупотребив своей свободой, не сделало его необходимым (см.: [Местр, 1996, 24]).
Не будь на земле зла морального, не существовало бы и зла физического. Зло вошло в мир только по вине свободного создания, и пребывать в мире оно может лишь как лечебное средство или искупление (см.: [Сенека, 2001, 90]).
Зло как страдание. Человек страдает или по причастности к роду Адама, или за свои собственные поступки, за свой образ мыслей и жизни. Этот тезис позволяет Местру объяснить, по какой причине страдают праведники и дети. Зло и благо распределены между людьми безразличным образом, несчастьям подвержено все человечество. Если страдает невинный, то — как человек вообще, то есть страдает человеческая природа, «и всегда по заслугам». Мы испытываем страдания, потому что этого заслуживаем.
Зло как наказание . Зло существует, и более того, в этом смысле оно существует по всей справедливости, то есть болезни, различные наказания — это элементы правосудия. В силу того, что зло беспрерывно существует, то оно, по справедливости, беспрерывно наказывается. Местр следует за Фомой Аквинским и соглашается, «что Бог является творцом зла карающего, но не зла порочащего» («Сумма теологии», ч. I, quast. 49, art. 11; см.: [Фома Аквинский, 2003]). На земле существует зло, и действует оно беспрерывно, а значит, его должно беспрерывно обуздывать карой (см.: [Местр, 1996, 33]). Несправедливость Бога по отношению к человеку невозможна, иначе нужно предположить иную субстанцию справедливости. Данный порядок вещей установлен Богом, Который по природе Своей справедлив, следовательно, данный порядок вещей также справедлив.
Зло как порок. Проявляется или как изъян и недостаток, или как процесс деградации той или иной степени. Если же искать онтологическую причину зла, то общеплатоническая убежденность в невозможности постичь ее из-за отсутствия у нее формы в «Исповеди» блж. Августина запечатлена в тезисе, что в самом поиске этой сущности заключено зло — в силу невозможности достичь желаемого, поскольку зла не существует онтологически. Бессмысленно искать то, чего нет (см.: [Блж. Августин, 1991, кн. 7]). Именно в тот момент, когда ищешь, мыслишь причину зла, оно и обретает свое относительное существование.
Учение о первородном грехе. Местр считает, что без этого учения нельзя понять феномен человека (см.: [Glaudes, 2007, 1253]). Каждый человек в качестве человека подвержен как всем благам, так и всем несчастьям человеческого рода. Первородный грех объясняет всё, и без него ничто не объяснимо. И воспроизводится он ежеминутно. Видимо, прежде всего это выражается в своеволии. Внутренняя рассогласованность и внешняя панорама человеческой жизни свидетельствуют об испорченности человеческой природы, зло рождается в душе человека. К тому же человек лишен возможности не знать самого себя, в глубине своего существа он ищет хоть какую-то неиспорченную часть и не может ее найти: все осквернено грехом, и весь человек — одна сплошная язва (см.: [Местр, 1996, 61]). В волевой способности человек чувствует смертельную рану. Он не знает, чего хочет. Он не хочет того, чего хочет. Он хочет того, чего не хочет. Он хотел бы хотеть. В самом себе он обнаруживает нечто чуждое и более сильное, чем он сам.
Невозможно представить, что таким человека мог сотворить Бог, потому что Бог благ. Невозможно, чтобы Бог создал существо, для которого будет естественно любить зло. Значит, если человек подвластен неведению и злу, то лишь в силу порчи, которая, в свою очередь, является следствием преступления. Человеческий род происходит от одной пары, и, будучи их потомками, все люди наследуют грех Адама. Аргументация исходит из посылки, что всякое существо, обладающее способностью к размножению, может произвести на свет лишь подобное себе самому создание. Правило это исключений не допускает.
Главным следствием первородного греха стала невозможность созерцать Бога, т. е. Истину: поврежденный разум не способен более к истинному созерцанию. Человеческая душа стала больной, что выражается в способности испытывать всякого рода страдания. А грех осуществляет себя в роковой склонности к злу. В силу первородной болезни и первородного греха мы подвержены всем видам физических страданий в целом, всем видам греха и порока. Доказательством истинности данного тезиса служат опыт, история (см.: [Местр, 1996, 65]). Эта склонность ко злу в той или иной мере превозмогала совесть и закон, порождая прегрешения и проступки. И в соответствии со сказанным Местр предлагает следующую логическую цепочку: нельзя быть злым, не будучи дурным, дурным — не будучи испорченным, испорченным — не будучи наказанным, наказанным — не будучи виновным.
Но Местр говорит еще и о грехе второго порядка. Бывают такие прегрешения, которые своими последствиями способны довести человека до полного вырождения. Если некое существо подверглось порче и выродилось, то его потомство будет напоминать собой это существо не в первоначальном состоянии, а в том, до которого оно дошло в своей деградации. Именно так, по его мнению, появились дикари. Правда, он отмечает, что в силу большего знания древних о Боге нам трудно представить значение того греха, который привел к такому дикому состоянию. В связи с этим приводится максима о том, что наказания всякий раз соразмерны познаниям виновного. А сам факт дикости может свидетельствовать о том, что человек изначально был создан как благое существо, поскольку, как говорит блж. Августин, «всякая природа, которая может стать хуже, хороша» (Блж. Августин. «О свободном решении». 3, 13, 36; «Исповедь». 7, 12, 18; см.: [Блж. Августин, 1991]). Существуют преступления, способные исказить в человеке моральное начало. И эта порча может передаваться по наследству.
Местр считает, что уже языческая философия, опираясь на опыт и свои собственные силы, открыла первородный грех. Тимей из Локр вслед за своим учителем Пифагором высказал мысль, что «пороки наши происходят от отцов наших и тех стихий, из которых мы состоим». Платон, Аристотель, Цицерон, Овидий по этому вопросу высказали схожие мысли (см. подр.: [Местр, 1996, 62–65]).
Заключение
Все работы Местра разрабатываются на основе истории философии. Он помещает свои идеи в историко-философский контекст. Кроме того, он ищет в истории общие принципы, которые существовали всегда и разделяются всеми культурами. Именно эти универсальные истины являются предметом дискуссий и обсуждений, разработанных Местром.
Необходимо отметить огромное влияние античной литературы на европейскую культуру в целом. Местр глубоко и широко опирается на эту культуру. Следует согласиться с тем фактом, что Местр настаивает на единстве человеческой цивилизации, что позволяет ему, в свою очередь, говорить о принципиальном родстве мистического язычества, иудаизма и христианства. Мы видим на примерах Сенеки и Плутарха, как Местр использует методологию и аргументы, разработанные в античных философско-религиозных традициях, особенно когда дело касается религиозных, этических, моральных, политических и метафизических вопросов. Для Сенеки и Плутарха, как и для Жозефа де Местра, самой важной частью человеческого знания является исследование истинной реальности, которая находится под прямым или косвенным руководством Божественного правления.