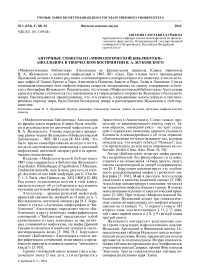Античные сюжеты из «Мифологической библиотеки» Аполлодора в творческом восприятии В. А. Жуковского
Автор: Куйкина Е.С.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (154), 2016 года.
Бесплатный доступ
«Мифологическая библиотека» Аполлодора во французском переводе Клавье знакомила В. А. Жуковского с античной мифологией в 1805-1811 годах. При чтении этого произведения Жуковский оставил в книге ряд помет и комментариев к интересующим его сюжетам, в числе которых мифы об Эдипе, Кретее и Тиро, Амитаоне и Идомене, Бианте и Перо, Талае и Лисимахе. Статья посвящена описанию этих мифологических сюжетов, неожиданных по своему содержанию и близких к биографии Жуковского. Показательно, что чтение «Мифологической библиотеки» Аполлодора хронологически соотносится со становлением и утверждением в творчестве Жуковского балладного жанра. Высказывается предположение, что эти сюжеты, открывающие многослойную и противоречивую картину мира, были близки балладному жанру и рассматривались Жуковским в этой перспективе.
В. а. жуковский, баллада, рецепция, аполлодор, пометы, записи на полях, античные мифологические сюжеты
Короткий адрес: https://sciup.org/14751033
IDR: 14751033 | УДК: 821.161.1,096189
Текст научной статьи Античные сюжеты из «Мифологической библиотеки» Аполлодора в творческом восприятии В. А. Жуковского
«Мифологическая библиотека» Аполлодора во французском переводе Клавье была пособием и руководством по античной мифологии для В. А. Жуковского. Ученые определяют временные рамки чтения Жуковским «Мифологической библиотеки» – 1805–1811 годы [8: 464–469]. Это было время самообразования молодого поэта, когда он систематически знакомился с античной мифологией, античной литературой и ее критическим осмыслением.
Издание «Мифологической библиотеки» 1805 года сохранилось в библиотеке Жуковского (Apollodor. Bibliothèque d’Apollodore l’Athénien. Traduction nouvelle, avec le texte grec revu et corri-gé, des notes et une table analytique, par E. Clavier. T. 1–2, Paris, chez Delance, an. XIII (1805)) [2: 88]. Ряд помет, оставленных поэтом в этой книге, свидетельствует об углубленном и вдумчивом изучении античной мифологии читателем.
Аполлодор – древнегреческий мифограф, афинский грамматик, живший во ΙΙ веке до н. э. Исследователь античной литературы В. Г. Борухович в статье «Античная мифография и “Библиотека” Аполлодора» определяет место «Библиотеки» в кругу античных мифографических сочинений: «“Библиотека” представляет собой единственное из всех дошедших до нас античных сочинений по мифологии, где мифы Древней Греции излагаются в наиболее полном и систематизированном виде» [3: 106]. В. Г. Борухович относит «Библиотеку» Аполлодора к «числу мифографических сочинений, излагавших в прозаическом пересказе основные сюжеты “эпического кикла”» [3: 105].
Термин «эпический кикл» возник уже в классическую эпоху (5 век до н. э.) и встречается у
Аристотеля («Аналитики»). Слово «кикл» происходит от древнегреческого κύκλος «круг». Таким образом, эпический кикл – это круг сказаний. Сохранилось замечание древнего схолиаста Клемента Александрийского об этом термине: «Киклическими поэтами называют тех, которые описали все, что вокруг (κύκλ ῳ ) “Илиады”, все, что происходило до или после описанных ею событий» (Schol. Clem. Alex. Protr. II, 30)1.
Автор «Библиотеки» излагает мифы кратко, без подробностей, без философского и художественного их осмысления. «Очень просто, сжато, иногда скороговоркой (в ущерб содержанию)»: так В. Г. Борухович комментирует эту особенность воспроизведения мифов у греческого ми-фографа [3: 106]. Миф в рассказе Аполлодора «выступает в качестве сюжетной схемы» [3: 108]. Аполлодор концентрирует внимание читателя на генеалогии мифологических героев. В основу повествования положен «генеалогический принцип» [3: 106]. При чтении «Мифологической библиотеки» Жуковский делает три генеалогические схемы интересующих его мифологических циклов на станицах 71, 73 первого тома и 385 второго тома, соответствующих § 11, § 13 девятой главы первой книги и § 8, § 9 третьей главы третьей книги.
Жуковского интересуют родственные связи героев следующих мифологических циклов: Иолкский, Аргосский и Фиванский циклы. Генеалогическая таблица Иолкского цикла воспроизводит родословие Ясона, предводителя похода аргонавтов за золотым руном. Вторая генеалогическая таблица воспроизводит род Амифаонидов, участников похода Семерых против Фив и похода Эпигонов. Третья генеалогическая таблица посвящена родословию царя Эдипа.
Исследовательница библиотеки Жуковского в Томске О. Б. Лебедева размышляет о причинах внимания Жуковского к генеалогии героев названных мифологических циклов: «Представляется, что целью генеалогических изысканий Жуковского в процессе чтения Аполлодора было именно это выявление генетических связей между отдельными мифологическими циклами через участников их событий» [8: 468]. О. Б. Лебедева, обращая внимание на вдумчивое изучение текста «Библиотеки» русским поэтом, говорит о том, что активный «читательский интерес» «очень часто переходил у Жуковского в творческий эксперимент» [8: 465]. Таким образом, чтение «Мифологической библиотеки» Аполлодора можно рассматривать как приготовление Жуковского к реализации творческого потенциала.
При составлении родословий героев мифологических циклов Жуковский оставляет комментарии к ним на страницах указанного издания. На записи Жуковского на страницах 71, 73 и 77 указывает О. Б. Лебедева: «Так, на с. 71 первого тома рассказ о браках Кретея и Тиро, Амитаона и Идомены он сопровождает двукратной записью: “племянница”» [8: 469]. Названные герои – Кретей и Тиро, Амитаон и Идомена – участники Иолкского цикла мифов, их имена входят в родословное древо Ясона. Рассказ о браке Кретея и Тиро у Аполлодора звучит так: «Тиро, дочь Салмонея и Алкидики, воспитывалась у Кретея, который приходился Салмонею родным братом. Она влюбилась в речного бога Энипея и в сокрушении постоянно ходила на реку. Посейдон, приняв образ Энипея, сошелся с ней, и она, родив тайно двух близнецов, подкинула их. Вблизи подкинутых близнецов проходили пастухи, гнавшие табун лошадей, и кобылица задела копытом лицо одного из близнецов, на котором от этого осталось темное пятно. Пастух поднял и вырастил обоих мальчиков и того, который был с пятном, назвал Пелием, другого же Нелеем. Когда близнецы выросли и узнали, кто их родная мать, они убили свою мачеху, которую звали Сидеро. Они напали на нее после того, как узнали, что та оскорбила их мать. Мачеха пыталась найти убежище в храме Геры, но Пелий заколол ее у самых алтарей. И вообще он всячески оскорблял Геру. <…> Кретей же, основав город Иолк, женился на Тиро, дочери Салмонея, от которой у него родились сыновья Эсон, Амитаон и Ферет» (§ 8, § 11, 9-я глава, 1-я книга)2.
Рассказ о втором привлекшем внимание Жуковского близкородственном браке Амитаона и Идомены тесно связан с предыдущей историей, так как в нем принимают участие сыновья Кретея и Тиро – Амитаон и Ферет. У Аполлодора эти события передаются очень кратко: «Амитаон, живший в Пилосе, женился на Идомене, дочери Ферета, и у него родились сыновья Биант и Ме-лампод» (§ 11, 9-я глава, 1-я книга)3.
О. Б. Лебедева обращает также внимание на запись Жуковского, сделанную на странице 73 «Мифологической библиотеки» Аполлодора относительно брака Бианта и Перо: «Почти родная сестра» [8: 469]. История этого брака относится уже ко второй родословной таблице Жуковского, где показано родословие Амифаонидов (Аргосский цикл), но герои его генетически связаны с предыдущим, Иолкским, циклом. Согласно генеалогическим описаниям Аполлодора, Биант – внук Тиро от брака с Кретеем, Перо – внучка Тиро от брака с Посейдоном. В «Мифологической библиотеке» рассказывается романтическая история сватовства Бианта: «Биант же, сын Амитаона, посватался к Перо, дочери Нелея. Так как многие добивались ее руки, Нелей обещал отдать свою дочь за того, кто пригонит ему принадлежащее Филаку стадо коров. Стадо это находилось в области Филаке, и его охраняла собака, к которой ни человек, ни зверь не смел близко подойти. Биант не смел украсть этих коров и попросил брата помочь. Мелампод пообещал, но предсказал, что он будет пойман при совершении кражи и после того, как пробудет в заключении целый год, получит стадо»4. Через год Мелампод, обладающий даром прорицания, вышел из заключения и получил заветное стадо коров Филака. «Коров же Мелампод пригнал в Пилос, и, взяв дочь Нелея, отдал ее брату» (§ 12, 9-я глава, 1-я книга)5.
Четвертый сюжет, отмеченный записью Жуковского на странице 77 – «племянница» [8: 469], описывает брак Талая и Лисимахи. У Аполлодора в § 13 читаем: «Сыном Бианта и Перо был Талай, женившийся на Лисимахе, дочери Абанта, сына Мелампода. От этого брака родились Адраст, Партенопей, Пронакс, Мекистей, Аристомах и Эрифила, на которой женился Амфиарай»6.
Скупо, без подробностей передает афинский грамматик интересующие Жуковского мифологические сюжеты. Повествование Аполлодора наполнено именами мифологических героев, словно он боится кого-то пропустить, оставить незамеченным, вне истории.
Родословия, привлекшие внимание Жуковского в «Библиотеке» Аполлодора, согласно античным мифам о происхождении мира, принадлежат к четвертому поколению, населявшему землю, поколению полубогов и героев (Гесиод. Работы и дни. 157–173).
Профессор А. Ф. Лосев, отмечая достоинство «Библиотеки» в подробности изложения мифических родословных, говорит о преемственности труда афинского мифографа: «Аполлодор излагает мифы по Гомеру и Гесиоду и особенно трагикам» [9: 10].
Так, первый миф о браке Кретея и Тиро восходит к «Одиссее» Гомера, ΧΙ песнь, строки 235– 259. В XI песне Одиссей призывает тени умерших, они подходят по очереди:
Прежде других подошла благороднорожденная Тиро,
Дочь Салмонеева, славная в мире супруга Крефея, Сына Эолова; все о себе мне она рассказала… (ΧΙ, 235–237)7.
Также этот миф излагает Гесиод в «Каталоге женщин» (фрагменты 30, 31).
Миф о браке Кретея и Тиро, а также о браке Амитаона и Идомены (или Аглаи) встречается в «Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского (IV, 68, 3): «С Тиро, которая в то время была еще девой, сочетался Посейдон, и она родила сыновей – Пелия и Нелея. Выйдя замуж за Крефея, Тиро родила Амифаона, Ферета и Эсона. После смерти Крефея Пелий и Нелей подняли бунт, желая получить царскую власть, и Пелий стал царем Иолка и прилегающих земель, а Нелей, взяв с собой Мелампода и Бианта, сыновей Амифаона и Аглаи, во главе ахейцев, фтиян и эолийцев, отправился в поход на Пелопоннес»8.
Миф о браке Бианта и Перо восходит к «Одиссее» Гомера (XV, 225–240) и «Каталогу женщин» Гесиода (фрагмент 37):
На оное только провидец дерзнул безупречный.
Труд таковой он свершил, хоть год оставалось в неволе
Узы позора влачить, Нелеевой дщери взыскуя: Брак он готовил Бианту-воителю, брату родному. Свадьбы желанной добился, сумев привести круторогих
Телок, наградой приняв за труд безупречную деву.
Был могучий Талай пышнокудрой Перо во чертогах
Сыном Бианту рожден, покоренной объятьем супружьим9.
Брак Талая и Лисимахи в «Мифологической библиотеке» Аполлодора является версией мифа, есть другая версия, которая встречается в «Описании Эллады» Павсания, согласно которой женой Талая была Лисианасса, дочь Полиба, царя Сикиона (ΙΙ, 6, 6): «Полиб выдал свою дочь Ли-сианассу за Талая, сына Бианта, царствовавшего над агривянами»10.
Третья генеалогическая таблица Жуковского, воспроизводящая родословие Эдипа, восходит в первую очередь к трагедиям Софокла «Царь Эдип» и «Эдип в Колоне». Также об участи Эдипа рассказывается в «Одиссее» Гомера (XI, 271–280). Тени умерших предстают перед Одиссеем:
Вслед за Мегарой предстала Эдипова мать Эпикаста;
Страшно-преступное дело в незнанье она совершила,
С сыном родным, умертвившим отца, сочетавшися браком.
Скоро союз святотатный открыли бессмертные людям.
Гибельно царствовать в Кадмовом доме, в возлюбленных Фивах
Был осужден от Зевса Эдип, безотрадный страдалец,
Но Эпикаста Аидовы двери сама отворила: Петлю она роковую к бревну потолка прикрепивши,
Ею плачевную жизнь прервала; одинок он остался Жертвой терзаний от скликанных матерью страшных Эринний11.
Мифы из «Библиотеки» Аполлодора, восходящие к «Одиссее» Гомера и трагедиям Софокла, найдут воплощение в творчестве Жуковского при создании оригинального плана трагедии «Царь Эдип» в 1811 году, при переводе фрагмента трагедии Софокла «Царь Эдип» в 1842 году и в 1842– 1849 годы при переводе «Одиссеи».
О. Б. Лебедева интерпретирует интерес Жуковского к проблематике этих мифологических сюжетов биографическими данными, что позволяет датировать чтение Аполлодора и особенно комментарии поэта на страницах 71, 73 и 77 1810 и 1811 годами: «Если предположить связь этих записей с биографией Жуковского, его намерением жениться на М. А. Протасовой, которая приходилась ему именно племянницей по отцовской линии, чтение Аполлодора можно датировать несколько более поздним периодом: 1810–1811 годом, когда впервые возникли мысли о браке» [8: 469]. Таким образом, Жуковский осмысливал собственную жизнь через приобщение к античности. Возможно, поэт обратил внимание на то, что браки внутри одного рода считались допустимыми в древности. Браки между дядей и племянницей, между двоюродными братом и сестрой были естественным и частым явлением жизни. Среди мифов, исследуемых Жуковским, только история Эдипа считалась страшным преступлением. Причем Эдип был неволен в своем грехе. К гибели Эдипа, его родителей и его детей привело родовое проклятие, Рок. Согласно мифу, «Фиванский царь Лай украл ребенка и был проклят отцом этого ребенка. Проклятие лежало на всем роде Лая: сам он погиб от руки собственного сына Эдипа. Покончила с собой Иокаста – жена сначала Лая, а потом Эдипа, узнав, что Эдип – ее сын. Вступив в единоборство, погибли оба сына Эдипа – Этеокл и Полиник, потом погибли и их сыновья» [9: 27–28].
Возможно, что интерес к темам кровосмешения, преступления, гибельного Рока и наказания был обусловлен у Жуковского появлением в русской и европейской литературе в конце XVIII – начале XIX века произведений, которые «отличает особая атмосфера загадочности, таинственности» [7: 46], в которых присутствует мотив инцеста, «для русской литературы не вполне обычный» [4: 204] (например, «Мипа-монд» Ф. Эмина, «Замок Отранто», «Таинственная мать» Уолпола, «Монах» Льюиса, «Дикарь» Мерсье, «Манфред» Байрона и др.). Среди произведений, поднимающих проблему кровосме- шения, в русской литературе выделяется повесть Н. М. Карамзина «Остров Борнгольм» (1793).
По мнению Л. В. Крестовой, «впервые в русской художественной литературе Карамзин ставит в повести “Остров Борнгольм” сложную философскую проблему о противоречии между законами природы и законами общественной жизни» [6: 211]. Современная исследовательница А. Н. Кудреватых говорит о новаторстве Карамзина в «Острове Борнгольм», которое заключается в присутствии в повести элементов балладной поэтики: «Яркий и потрясающий образ замка, открывающийся в минуту высшего душевного напряжения внутреннему взору путешественника, вывел нас на уровень оппозиции “Человек и Рок”, трагедийной по своей сущности. Жизнь несчастных героев, в том числе и хозяина замка, трагически разрушается в результате вторжения в нее непостижимых и неуправляемых стихийных сил, и путешественник потрясен не столько перипетиями конкретной житейской истории, сколько той картиной мира, которая открылась ему во время пребывания в таинственном замке. Вот почему не важными оказываются детали истории. Важен сам образ мира, многослойный, мятежный, поражающий воображение и вызывающий в душе путешественника, по его собственному признанию, не только ужас, но и наслаждение, своеобразное очищение, которое в чем-то сродни трагедийному катарсису» [7: 51]. А. Н. Кудреватых приходит к выводу, что поэтика повести Карамзина близка к поэтике балладного жанра. Ведь не случайно Карамзин – «автор одной из первых русских литературных баллад: его “Раиса” стоит у самых истоков балладной традиции в отечественной поэзии» [7: 51].
Можно также предположить, что внимание Жуковского к мифологическим родословиям из «Библиотеки» Аполлодора и комментарии к ним были обусловлены интересом русского поэта к жанру баллады. Заметим также, что чтение «Библиотеки» Аполлодора (1805–1811 годы) хронологически соответствует появлению и утверждению в творчестве Жуковского балладного жанра. В 1808–1814 годах он пишет следующие баллады: «Людмила», «Кассандра», «Пустынник», «Адельстан», «Светлана», «Ивиковы журавли», «Варвик», «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем, и кто сидел впереди», «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин», «Ахилл», «Эолова арфа», «Двенадцать спящих дев».
В балладах Жуковского показаны предопределенность человеческой судьбы, психологический конфликт, стойкость и свобода личности перед лицом испытаний. Согласно исследованиям Н. Ж. Ветшевой и Э. М. Жиляковой, «баллада родилась у Жуковского как жанр, позволивший ему выразить свое философское понимание нравственной природы человека и его судьбы в контексте бытия и мирового развития человечества» [5: 230].
С точки зрения истории жанр баллады предполагал драматические сюжеты. Как «сюжетная песня драматического содержания» [10: 422], баллада бытовала в эпоху Средневековья. Древний мотив кровосмешения, связанный с мифологическим сознанием, находил отражение в балладе, которая на примере индивидуальных судеб освещала «события общенародного значения, этические, социальные и философские проблемы» [1: 10]. Так, мотив кровосмешения встречается в старинной русской балладе, соответствующей балладам Англии и Шотландии, возникшим в XIII–XIV веках. Д. М. Балашов указывает на эти баллады и говорит о христианском осмыслении в них вышеназванного мотива: «“Братья-разбойники и сестра”, сюжет отразивший развитые социальные контрасты и бытовые отношения средневековья; “Царь Давыд и Олена”, сюжет, созданный целиком на христианско-религигиозной основе; “Охотник и сестра” – редкая баллада позднего сочинения; “Брат женился на сестре”, также поздняя средневековая баллада по характеру сюжета и бытовым реалиям. Анализ этих сюжетов, а также ряда европейских баллад на ту же тему показывает, что все подобные конфликты, имеющие обычно трагический конец (неизбежные позор и смерть согрешивших), подаются в очень ясном средневековом оформлении» [1: 17].
Таким образом, античные мифы о Кретее и Тиро, Амитаоне и Идомене, Бианте и Перо, Та-лае и Лисимахе, близкие к проблематике средневековых баллад и повести Карамзина «Остров Борнгольм», могли стать таинственными и драматичными сюжетами баллад Жуковского, но не стали, возможно, потому что мотив кровосмешения, центральный в этих мифах, показался русскому поэту рискованным. Также история царя Эдипа, переданная Аполлодором, не стала у Жуковского сюжетом баллады, но изучение мифического родословия Фиванского цикла было приготовлением поэта к работе с греческой драматургией [8: 469].
Список литературы Античные сюжеты из «Мифологической библиотеки» Аполлодора в творческом восприятии В. А. Жуковского
- Гомер. Одиссея/Пер. В. Жуковского. М.: Худож. лит., 1986. С. 113
- Диодор Сицилийский. Греческая мифология: Историческая библиотека/Пер. с древнегреч. О. П. Цыбенко. М.: Лабиринт, 2000. С. 68
- Гесиод. Каталог женщин, или Эои/Пер. О. Цыбенко//Эллинские поэты VIII-III вв. до и. э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. М.: Ладомир, 1999. С. 87-88
- Павсаний. Описание Эллады: В 2 т./Пер. ивступит. статья С. П. Кондратьева. Т. 1. М.: Ладомир, 1994. С. 141
- Балашов Д. М. История развития жанра русской баллады. Петрозаводск: Карельское кн. изд-во, 1966. 72 с.
- Библиотека В. А. Жуковского: Описание/Сост. В. В. Лобанов. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1981. 414, с.
- Борухович В. Г. Античная мифография и «Библиотека» Аполло дора//Аполлодор. Мифологическая библиотека/Издание подготовил В. Г. Борухович. Репринтное воспроизведение текста издания 1959 г. М: Ладомир: Наука, 1993. С. 99-120.
- Вацуро В. Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм»//XVIII век/Под ред. И. И. Беркова, Г. И. Макогоненко, И. 3. Сермана. Л.: Наука, 1969. Сб. 8: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII -начала XIX века. С. 190-210.
- Ветшева И. Ж., Жилякова Э. М. Баллады Жуковского//Жуковский В. А. Поли. собр. соч.: В 20 т. Т. 3. Баллады. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 229-240.
- Крестова Л. В. Древнерусская повесть как один из источников повестей Н. М. Карамзина «Райская птичка», «Остров Борнгольм», «Марфа Посадница»//Исследования и материалы по древнерусской литературе. М.: АН СССР, 1961. С. 193-226.
- Кудреватых А. И. Новаторство И. М. Карамзина-психолога в повести «Остров Борнгольм»//Филологический класс. 2013. № 4 (34). С. 46-52.
- Лебедева О. Б. Немецкая и французская традиции восприятия античности в эстетических штудиях В. А. Жуковского//Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. III. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1988. С. 466-499.
- Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Боги и герои Древней Греции. М.: Слово, 2002. 278, с.
- Никонов В. А. Баллада//Краткая литературная энциклопедия. Т. 1. М.: Сов. энциклопедия, 1962. С. 422-423.