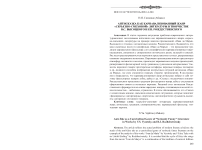Антисказка как карнавализованный жанр «серьезно-смеховой» литературы в творчестве В.С. Высоцкого и Р.И. Рождественского
Автор: Сипкина Нина Яковлевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье отражена актуальная проблема современного литературоведения: исследование антисказки как карнавализованного жанра «серьезно-смеховой» литературы на примере анализа произведений «Иван да Марья» Высоцкого и «Сказки с несказочным концом» Рождественского. Выявляется, что цикл сказочных песен из кинофильма «Иван да Марья» - это продолжение традиции карнавального фольклора с его специфическим карнавализованным мироощущением, связанным с синкретизмом поэтических родов, музыкой и пляской. Ряд песен рассматриваются как вертепное представление в стихах, раскрывающее основное содержание антисказки. Персонажи произведения вносят праздничную атмосферу вольности и веселья, происходит карнавальное видение преисподней, развертывается фольклорный театр с ряжением, кукольными интермедиями. Элементы народного говора: просторечные метафоры, народные поверья, поговорки и др., являются способом изображения несерьезных ситуаций антисказки «Иван да Марья», где смех становится главным «героем» произведения. В исследовании утверждается, что каранавализованный жанр антисказки вобрал в себя поэтику фольклорных жанров лубка, райка и др. «Сказка с несказочным концом» Рождественского продолжает традиции фольклорного жанра лубка с его речевым оформлением сюжета в потешных картинах. Раешный стих антисказки Рождественского формируется на основе народных жанров, отличающихся веселой относительностью - небылицы, страшилки. В статье обосновывается, что «Сказка с несказочным концом» насыщена комическими ситуациями, которые помогают «фиксировать» «антирекорды» спортсмена, «антипатриотизм» музыканта, высмеять «антиразум» отставного генерала.
«серьезно-смеховая» литература, карнавализованный жанр, антисказка, традиция, скоморошничество, карнавальный фольклор, «потешная» картина
Короткий адрес: https://sciup.org/149141352
IDR: 149141352 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-265
Текст научной статьи Антисказка как карнавализованный жанр «серьезно-смеховой» литературы в творчестве В.С. Высоцкого и Р.И. Рождественского
M.M. Бахтин в своих работах, посвященных теории карнавала и кар-навализованных жанров, называет карнавал с его разнообразными обрядовыми действиями и амбивалентным смехом основным фактором, повлиявшим на становление и развитие «серьезно-смеховой» литературы. В русской литературе к выделенному типу словесности можно отнести, например, повести и рассказы Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, М.М. Зощенко, М.А. Булгакова, И.Л. Ильфа и Е.П. Петрова, шуточно-сатирические поэмы А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, В.В. Маяковского, А.Т. Твардовского, сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина, антисказки В.С. Высоцкого, Р.П. Рождественского и др. Данный пласт литературы отличается глубокой связью с карнавальным фольклором и проникнут специфическим карнавальным мироощущением. В своих работах ученый определяет основные категории карнавального мироощущения. Среди них - категория фамильярного контакта, устраняющего всякую дистанцию между людьми. В связи с чем непроницательные иерархические барьеры сменяются вольной карнавальной жестикуляцией и откровенным карнавальным словом. Категория эксцентричности актуализирует неуместные иерархичные отношения во вне-карнавальной жизни. В свою очередь, категории карнавальных мезальянсов и профанации, сочетающих высокое с низким, великое с ничтожным, мудрое с глупым и воплотившихся в системе карнавальных снижений, непристойностей, пародий, сближают все то, что удалено друг от друга внекарнавальным иерархическим мировоззрением [Бахтин 1972, 1990].
Для каждого жанра выделенной литературы характерен свой тип соотношений серьезного и смехового начал с атмосферой веселой относительности карнавального мироощущения: «изменяется риторика серьезного, ослабевает его рассудочность, однозначность, догматизм» [Люликова 2015, 273-276].
Одним из карнавализованных жанров «серьезно-смеховой» литературы является жанр антисказки. По мнению ученых, художественная структура антисказки определяется особенностями архетипической сказочной моделью, которая наполняется новым, диаметрально противоположным по смыслу содержанием, противоречащим образу идеального мира жанра-прототипа. Л.П. Прохорова к жанру антисказки отнесла: 1) тексты, принадлежащие к жанру литературной сказки, но в отличие от ожидаемого по жанровым канонам счастливого конца, имеющие трагический или печальный конец; 2) современные литературные переработки известных сказок (зачастую пародийного характера), тематика которых связана с актуальными проблемами современного общества; 3) тексты других жанровых форм (стихи, афоризмы, анекдот, басня и т.д.), «содержащие атрибуты сказочной модели, используемые для создания контраста между совершенным миром сказки и несовершенным миром реальности, для создания образа антимира» [Прохорова 2012, 105].
Например, антисказка «Лукоморья больше нет» Высоцкого - это своеобразная аллюзия на фрагмент из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» -строится на приеме отрицания. А внутритекстовая ситуация заполнена приметами и реалиями современной действительности поэта: «Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след. / Дуб годится на паркет, - так ведь нет: / Выходили из избы здоровенные жлобы, / Порубили те дубы на гробы» [Высоцкий 1994, 37].
В жанре антисказки можно выявить и традиции древнего скоморошничества. По мнению А.Н. Веселовского, для древней истории былинного эпоса скоморохи являлись единственными представителями поэзии. Они в восточнославянской традиции участники карнавальных театрализованных обрядов и игр, музыканты, исполнители песен и танцев фривольного (иногда глумливого и кощунственного) содержания обычно ряженые (маски, травести). Скоморохи практиковали обрядовые формы антиповедения и были носителями синтетических форм народного искусства, соединявших пение, игру на музыкальных инструментах, пляски, кукольные представления, выступления в масках и др. Представители скоморошничества были главными участниками народных празднеств (игрищ, гуляний, различных обрядов: свадебных, родильно-крестильных и др.). Отличительной чертой поэтического репертуара скоморошничества - актуальные темы древнего общества XI в. Известны шуточные песни, драматические сценки - социальная сатира. Скоморохи-глумы непосредственно общались со зрителями, с уличной толпой, вовлекая их в игру [Веселовский 2008].
Жанры «серьезно-смеховой» литературы, в том числе и антисказка, изображают особый смеховой мир, в котором проявляются различные элементы народной культуры. Таковым, например, отличаются антисказки Высоцкого («Чудо-Юдо», «Алиса в стране чудес», сказочные песни из кинофильма «Иван да Марья»: «Серенада Соловья-разбойника», «Разбойничья песня» и др.) и Рождественского («Сказка с несказочным концом» и др.).
Цикл сказочных песен из кинофильма «Иван да Марья» Высоцкого рассматривается нами как продолжение карнавально-фольклорных традиций, связанных с синкретизмом поэтических родов, музыки и пляски. Ряд песен представляет собой, в определенной степени, вертепное представление в стихах, раскрывающее основное содержание антисказки. Можно выделить следующие тематические обобщения песен: «скоморошная», «солдатская», «разбойничья», «любовная», «нечистивая», «чиновничья», «государственная». Первая из них - песня «Скоморохи на ярмарке». Ярморочные скоморохи-зазывалы вносят праздничную обстановку в песню-«забаву», «рекламируя» волшебные товары: «Эй, народ честной, незадачливый! / Ай вы, купчики да служивый люд! / Живо к городу поворачивай - / там не зря в набат с колоколен бьют» [Высоцкий 1994, 171]. Припевное обрамление песни состоит их трех четверостиший и поясняет мысли, высказанные в запеве: «Все ряды уже с утра / Позахваче-ны - / уйма всякого добра, / Всякой всячины. / Там точильные круги / Точат лясы. / Там лихие сапоги - / Самоплясы». При этом используется рефрен-«нелепица», повторяющийся семь раз: «Тагарка-матагарка, / Во столице ярмарка...» [Высоцкий 1994, 171].
Веселое торжище похоже на карнавальный праздник, а связанные с ним поверья, его особая обстановка вольности и веселья выводят жизнь из ее обычной колеи и делают невозможное возможным. Например, происходит необычное явление - «равноправие всех сословий» (М.М. Бахтин): «Богачи и голь перекатная, - / Покупатели - все, однако, вы, / И хоть ярмарка не бесплатная, / раз в году вы все одинаковы!» [Высоцкий 1994, 171].
Скоморохи задорно обыгрывают волшебные предметы из народных сказок, в целях своеобразной рекламы того или иного ярморочного товара. Автор песни придумывает потешные слова, рифмующиеся со сказочными представителями: «Спазораночка - Самобраночка»; «Жар-птица - в виде жаренном»; «шапочка-невидимочка»; «Скороходы-сапоги не залапьте»; «Ковролетчики пыль из этого ковра выбивали» и др.
В песне элементы народного говора являются способом изображения «несерьезных» ситуаций, когда люди смеются, поют, ругаются, празднуют, пируют, то есть «выпадают из заведенной будничной жизни» [Бахтин 1990]. В данном случае в бесшабашном балагурстве скоморохов продолжаются традиции народно-карнавальных потех. В шуточных интерпретациях скоморохов по-новому раскрывается содержание, казалось бы, с детства знакомых сказок, аллегоричных по своему характеру: «Вон Емелюшка Щуку мнет в руке - / Щуке быть ухой, вкусным варевом. / Черномор Кота продает в мешке - / Слишком много Кот разговаривал...» [Высоцкий 1994, 173]. В поэтическом тексте используется каламбурная рифмовка: «тыщ - отыщете», «сложенным - скукоженным» и др., которая также увеличивает «накал» несерьезной ситуации.
Песня «Солдат и привидение» раскрывает эпизод из солдатской жиз-

ни, в котором звучит мотив о переменчивом характере судьбы - ратной доли. Специфичны сравнительные обороты из бытия служивого: «И в судьбе - как в ружье: то затвор заест, / То в плечо отдаст, то осечка» [Высоцкий 1994, 176]. В жанре антисказки «серьезно-смеховой» литературы существенную роль играет «веселая чертовщина, глубоко родственная по характеру, тону и функциям веселым карнавальным видениям преисподней и дьяблериям» [Бахтин 1990]. В рассматриваемой песне-сказке уже в самом названии присутствует представитель потустороннего мира. Образу приведения в большей мере присущи человеческие черты, хотя, в то же время оно обладает в достаточном количестве сверхъестественными свойствами, например, ясновидением: «Я - привидение, я - призрак, но / Я от сидения давно больно, / темница тесная, везде сквозит, - / Хоть бестелесно я, а все ж - знобит. / Жаль, что вдруг тебя казнят, ты с душой хорошею...» [Высоцкий 1994, 191].
В свою очередь, «Частушки Марьи» обыгрывают историю с жизненными прецедентами: «фольклорный театр» с ряженьем, кукольными интермедиями. Комично раскрываются «грозные» события и высмеиваются «виновники» чуть не случившейся беды (захват царства Соловьем-разбойником) - царь Евстигней, Кассир, Казначей, стихоплет Петя. Осуждаются пороки власти предержащей, например, зависть: «С той поры царя корежит, / Словно кость застряла в ем: / Пальцы в рот себе заложит - / Хочет свистнуть Соловьем!» [Высоцкий 1994, 197]; лесть - с помощью шуточных баек итожится словотворчество «подхалима», в стиле отрывка актуальны просторечные слова: «Получилось курам на смех, / Мухи дохнут от тоски...» [Высоцкий 1994,197]. Частушки передают дух простонародного смеха, который, отображает «божественное лицо, ибо так смеются боги в народной смеховой стихии древней народной комедии» [Бахтин, 1990]. Для характеристики Евстигнея автор использует метафору с «прямым» значением: «Царь о подданых печется / От зари и до зари! / Вот когда он испечется - / Мы посмотрим, что внутри!» [Высоцкий 1994, 199].
Цикл песен «венчается» «Свадебной». Символом радостных событий становятся звон колоколов, переливы гармонии: «Ты звонарь-пономарь, не кимарь, / Звонкий колокол раскочегаривай! / Ты очнись, встрепенись, гармонист, / Переливами щедро одаривай» [Высоцкий 1994, 199]. Для стиля песни характерны «просторечные» метафоры, народные поверья, поговорки, вызванные «сложными» рядами мыслей, возбужденных непосредственным множеством действий, в котором, в частности, относится победа над злой силой: «Мы беду навек спровадили, / В грудь ей вбили кол осиновый»; свадьба главных героев сказки - Солдата и Марьи: «Перебор сегодня свадебный, / Звон над городом - малиновый»; всенародное пиршество: «Нынче пир, буйный на весь мир! / Все - желанные, все - приглашенные!»; народное гуляние: «Как на ярморочной площади / Вы веселие обретите, / Там и горло прополощите, / Там попьете и попляшите!». Частушечные куплеты отличаются карнавализованным временным коллективом участников победного празднования, в сущности, «изъятым на- родным смехом из настоящей, серьезной, должной жизни» [Бахтин, 1990] и смех, таким образом, становится одним из положительных героев «Свадебной». Для стиля присуще использование «смеховых» слов: «Топочи, хлопочи, хохочи! / Хороводы води развеселые! / ... / За застольною беседою - / Со счастливым сочетанием / да с законною победою!» [Высоцкий 1994, 200-201].
Жанр антисказки вобрал в себя поэтику конкретных фольклорных жанров - это лубок, раек, сатирические сценки и др., с их коренным изменением самой ценностно-временной зоны построения художественных образов. Например, «в пародийно-балагурном ключе В.А. Жуковский работал над сказочной книгой «Как мыши кота хоронили», основанной на старинной «потешной» картине. Рассматриваемый лубок близок к общим явлениям смеховой культуры XVII в.» [Тимакова 2010, 163-170], к таким пародийным произведениям, как «Роспись приданого», «Духовное завещание», «Калязинская челобитная», «Служба кабаку», «Повесть о Ерше Ершовиче» и др.
В «потешном» листе как явлении искусства притягивает, в первую очередь, «принятый в лубке способ речевого оформления сюжета, текстовая сторона книги-картинки. В поэтике подобных произведений часто используется «раешный стих», то есть стихотворная форма, восходящая к народной культуре театрализации слова» [Тимакова 2010, 163-170].
Выделенные генетические особенности жанра антисказки являются основой «Сказки с несказочным концом» Рождественского. Сказка состоит из восьми условных «потешных» листов - сказочных историй об очень маленькой стране («Марш военных на месте», «Знаменитый булочник», «Автобус без мотора», «Прыжки в высоту», «О корове», «Арест руки», «Игра на музыкальных инструментах», «Отставной генерал»), «Раешник»-автор, вовлекая читателя-зрителя в потешное действо, перед каждой историей произносит фразу (своеобразный зачин), в которой обозначается миниатюрность волшебной страны, а последующее содержание «потешных» картин-листов объясняют последствия этой данности: «Страна была до того малюсенькой, что...» [Рождественский 2014, 548-551]. Содержание сказки в какой-то мере является аллюзией на «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери.
Исследуемое произведение отличается спецификой жанра антисказки: «говорящее» название; «показанные» случаи из жизни маленькой страны помогают образно представить их несуразность. И в то же время в них можно различить реалии из окружающей жизни поэта. Тому пример, «потешная» картина «Марш военных на месте». Это своеобразный отклик на непростые взаимоотношения государств Земли: «Ибо, если подать другую команду, - / не «на месте», / а «шагом вперед...», - / очень просто могла бы начаться война. / Первый шаг / был бы шагом через границу» [Рождественский 2014, 548].
В литературоведении определяется, что «раешный» стих обладает четкой ритмической структурой. Рифмовка в нем чаще всего случайная: риф-

муются лишь отдельные (парные) строки. «Раешный» стих формируется на основе так называемых «формальных» жанров: в раешные «рацеи» входят небылицы, куски из песен, пословицы, поговорки, прибаутки, сказочные присказки, зачины, концовки.
В нашем случае жанрообразующим элементом «раешных» стихов «Сказки с несказочным концом» является небылица. По определению Проппа небылица - это особый вид сказочного творчества: «рассказы о совершенно невозможных в жизни событиях» [Пропп 1998, 332]. Таковым является содержание антисказки, состоящее из небывалых историй. Ярким примером служат условно названные «потешные» картины «Знаменитый булочник», «Арест руки». Так в «Знаменитом булочнике» происходит стирание границ высокого, растворение его в обыденности: булочник был знаменит тем, «что он был единственным булочником в этой стране»; использование «антиэстетики» - описываются последствия чихания (слово «чихать» обозначает «с шумом, резким движением выдыхать воздух носом и ртом, извергая слизь» [Ожегов 2008, 709]) знаменитого булочника. Небылица, с элементами комизма, звучит в следующих строках: «...когда он чихал троекратно, / булочники из соседних стран / говорили вежливо: / «Будьте здоровы!..» / И ладонью / стирали брызги со щек» [Рождественский 2014, 548].
Содержание «потешной» картины «Арест руки», как и «Знаменитого булочника», повествует о том, чего заведомо не может быть, причем эта невозможность утрированно подчеркивается, и поэтому создается комический эффект: арестовывается рука хозяина дома, которая без разрешения Министерства иностранных дел потянулась за солонкой на край стола, находившегося уже за границей. Текст «потешной» истории пронизан «воздухом» веселой относительности «карнавального» мироощущения: используемая лексика официально-делового стиля, в частности юриспруденции («процесс», «присутствие», «приговор», «штраф», «год тюрьмы»), звучит в пародийном ключе. То есть мизерное событие трактуется как судьбоносное, со всеми вытекающими отсюда атрибутами мирового масштаба. В результате чего ослабевает рассудочность, исчезает однозначность: «... несчастный глава семейства / оказался в двусмысленном положенье: / целый год он после - / одною левой рукой - / отрабатывал штраф / и кормил семью» [Рождественский 2014, 551].
Известно, что раек (ящик с движущими картинками) являлся синтетическим видом ярморочного увеселения. «Показ картинки сопровождался каламбурами и прибаутками косморамщика, который речитативом декламировал в процессе представления раешных стишков-рацей» [Тимакова 2010, 163]. «Потешная» картина «Автобус без мотора», который перегораживал Главную улицу и представлял весь общественный транспорт маленькой страны, - своеобразный ярморочный аттракцион, со всеми привлекающими внимание атрибутами: автобус сверкал «никелем, лаком и хромом», опирался «на прочный гранитный фундамент», в салоне располагались «удобные кресла». За небольшую цену можно было купить билет и просто посидеть в единственном автобусе, то есть происходило устранение дистанции между людьми. Участником аттракциона становился любой житель сказочного государства, который, посидев в автобусе «минут пятнадцать, - / вставал / и вместе с толпой пассажиров / выходил с передней площадки - / довольный - / уже на другом конце государства» [Рождественский 2014, 549].
Для «Сказки с несказочным концом» как жанра антисказки характерен особый смеховой мир, который насыщается автором различными комическими ситуациями. Тому пример «потешные» листы «Прыжки в высоту», «Игра на музыкальных инструментах»: спортсмен, бежавший стометровку, должен был пересечь Государственную границу и пройти визовый режим; музыкант, игравший на рояле, также находился за «кордоном», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому в крошечной стране из спорта развивались одни прыжки в высоту, а музыканты играли только на духовых и струнных инструментах.
Можно отметить, что исследуемая антисказка, написанная верлибром, своеобразна многократным использованием такой стилистической фигуры, как эллипсис. Систематические эллипсисы в верлибре играют важную организующую роль и придают произведению «ассоциативное напряжение» (Ю.И. Минералов). В «потешном» листе «Прыжки в высоту», используемый в тексте стилистическая фигура эллипсис помогает автору «зафиксировать» своеобразный антирекорд: «Так и заканчивалась стометровка. / Иногда - / представьте! - с новым рекордом» [Рождественский 2014, 549]. А в «Игре на музыкальных инструментах» эллипсис определяет антисказочный «патриотизм»: «А играть на рояле из-за границы - / согласитесь - / не очень-то патриотично!» [Рождественский 2014, 552].
В «потешном» листе «Отставной генерал» высмеивается глупость, как порок человечества. Глупый - это человек, «не обнаруживающий ума, лишенный разумной содержательности, целесообразности» [Ожегов 2008, 120]. В свое время Иоанн Златоуст, выявляя истоки глупости, утверждал, что ничто не делает людей глупыми как злоба. Злоба «душит» отставного генерала, «уроженца страны и большого патриота», которым овладел антиразум. Он «просил увеличить военный бюджет, / ... / и для армии / требовал / атомного / оружия!», хотя соседи «эту страну уважали. / Никто не хотел на нее нападать» [Рождественский 2014, 552].
Жанры «серьезно-смеховой» литературы, в том числе антисказка, «осознанно опираются на свободный вымысел, в полном объеме используя свое воображение» [Бахтин 1990]. Например, основой «Сказки с несказочным концом» становятся фантастические элементы, то есть «действительность не подчиняется физическим законам, в ней часто происходят невероятные события и метаморфозы» [Бахтин 1990]. Например, в «потешной» картине «О корове» читатель узнает «трагико»-фантастическую историю про «единственную корову», жившей в маленькой стране. Жанрообразующим элементом исследуемой «потешной» картины становит-
ся страшилка, цель которой «понарошку» напугать читателя. Способом художественного «устрашения» служит «абсурдистский» гротеск. Текст отличается использованием грубых просторечий: «... единственная в государстве корова, / перед тем, как подохнуть / успела сожрать / всю траву / на единственной здешней лужайке, / всю листву / на обоих деревьях страны, / все цветы без остатка / (подумать страшно!) / на единственной клумбе / у дома Премьера» [Рождественский 2014, 550].
Таким образом, проанализированные произведения «Иван да Марья» Высоцкого и «Сказка с несказочным концом» Рождественского раскрыли особенности антисказки как одного из карнавализованных жанров «се-рьезно-смеховой» литературы. В «Иване да Марьи» существенна роль традиции древнего скоморошничества (своеобразная обрядовая форма «антиповедения», социальная сатира на актуальные проблемы) и карнавального фольклора (синкретичность поэтических родов, музыки и пляски, своего рода «вертепного» представления). В атмосфере вольности и веселья жизнь лирических героев выводится из обычной колеи: происходит равноправие всех сословий («Скоморохи на ярмарке»). Наблюдается изображение карнавальных видений «преисподней» («Солдат и приведение»), Совершается яркое представление «фольклорного» театра с ряжеными, кукольными интермедиями, в которых с помощью комизма, пародии, юмора и «смешного эстетического» изображаются те или иные события («Частушки Марьи»), Происходит организация карнавализованного временного коллектива победного празднования («Свадебная»),
«Сказка с несказочным концом» вобрала в себя поэтики фольклорных жанров - лубка, райка и др. Произведение рассматривается как авторское «раешное» представление. Антиказка состоит из восьми условных «потешных» листов - сказочных историй об очень маленькой стране. Жанрообразующими элементами «раешных стихов» антисказки являются небылицы («Знаменитый булочник», «Арест руки»), страшилки («О корове») с помощью которых показывается несуразность маленькой страны. В кругу веселой относительности карнавального мироощущения рассматривается «потешная» картина-аттракцион «Автобус без мотора». Смеховой мир «Сказки с несказочным концом» насыщен комическими ситуациями: достижение антирекорда («Прыжки в высоту»), проявление антисказочного патриотизма («Игра на рояле»), выявление глупости, как человеческого антиразума («Отставной генерал»),
Список литературы Антисказка как карнавализованный жанр «серьезно-смеховой» литературы в творчестве В.С. Высоцкого и Р.И. Рождественского
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Художественная литература, 1972. 167 с.
- Бахтин М.М. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура). М.: Художественная литература, 1990. 546 с.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика / Ред., вступ. ст. и примеч. В.М. Жирмунского. М.: Издательство ЛКИ, 2008. 648 с.
- Высоцкий В.С. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 4. Вельтон: Издательство Б.Б.Е., 1994. 528 с.
- Люликова А.В. Традиции карнавальной культуры в дилогии И.Л. Ильфа и Е.П. Петрова «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» // Новое слово в науке: перспективы развития. 2015. № 2. С. 273–276.
- Минералов Ю.И. Теория художественной словесности (поэтика и индивидуальность). М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. 360 с.
- Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Л.И. Скворцовой. М.: Издательство «Оникс»; Издательство «Мир и Образование», 2008. 736 с.
- Пропп В.Я. Поэтика фольклора. (Собрание трудов В.Я. Проппа) / Сост., пред. и комм. А.Н. Мартыновой. М.: Лабиринт, 1998. 511 с.
- Прохорова Л.П. Когнитивный механизм эволюции жанра сказки // Вестник КемГУ. Филология, 2012. № 4. Т. 4. С. 103–105.
- Рождественский Р.И. Собрание стихотворений, песен и поэм в одном томе. М.: Эксмо, 2014. 1088 с.
- Тимакова О.И. Традиции лубка и райка в элитарной отечественной «Сказочной книге» XIX века // Проблемы истории, филологии, культуры: Языкознание и литературоведение, 2010. № 3(29). С. 163–170.