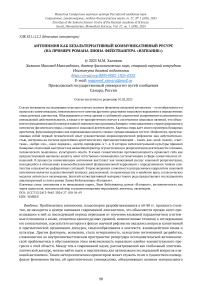Антонимия как безальтернативный коммуникативный ресурс (на примере романа Лиона Фейхтвангера «Изгнание»)
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию отдельно взятого аспекта феномена языковой антонимии - ее необратимости в процессах коммуникации, невозможности ее замены другими средствами языкового выражения в определенных типах речевых контекстов. Обосновывается точка зрения о глубинной сущностной укорененности антонимии во внеязыковой действительности, а также о ее приоритетном статусе в систематике языковых явлений, что объясняется фундаментальной конструктивной значимостью принципа бинарно-оппозиционного структурирования в онтологии физического мира, сознания и языковой деятельности. Картина мира дает много примеров бинарных архетипов, функционирующих как порождающая модель сложно-организованных систем. Мифология, представляющая собой первый человеческий опыт художественно-мировоззренческой рефлексии над действительностью, построена на системе простейших архетипических противопоставлений - таких, как «свой-чужой», «свет-тьма», «добро-зло», «хаос-порядок», «центр-периферия» и т. д. В истории интеллектуальной культуры принцип бинарных оппозиций выступает как важнейший фактор осуществления и репрезентации деятельности сознания, человеческого мышления, культурного опыта. В языке семантическая противоположность проявляет себя как предшествующий научному анализу опыт естественно сложившейся систематизации в сфере семантических отношений. В процессах коммуникации антонимия выступает как уникальный ресурс языковой репрезентации, находящийся в отношениях взаимообусловленной функциональной корреляции с определенными типами контекстов и предметно-референтных ситуаций. В произведениях словесности дискурсивным коррелятом языковой антонимии является художественный контраст, реализуемый, по преимуществу и наиболее ярко, в классических моделях антитезы и оксюморона. Богатый иллюстративный материал такого рода предоставляет исследователю анализируемый в статье роман Лиона Фейхтвангера «Изгнание».
Антонимия и ее неязыковые корни, лион фейхтвангер, роман «изгнание», антиномичность как черта идиостиля, психический мир и взаимоотношения персонажей, антитеза, оксюморон
Короткий адрес: https://sciup.org/148331020
IDR: 148331020 | УДК: 821.112.2 | DOI: 10.37313/2413-9645-2024-27-100-56-69
Текст научной статьи Антонимия как безальтернативный коммуникативный ресурс (на примере романа Лиона Фейхтвангера «Изгнание»)
EDN: YJMDEG
Введение. Проблематика антонимии, плодотворно разрабатывавшаяся в 60-80 гг. прошлого столетия, не находится в центре внимания современной лингвистики, что объясняется прежде всего происшедшим в ней за последующий период переходом от изучения языковой парадигматики (системные отношения в языке, семантика единиц разных уровней, номинативные техники) к исследованию его синтагматики, в результате которого в фокусе научной рефлексии оказались вопросы когнитивной и прагматической организации дискурса, смыслообразования в контексте, взаимодействия языка и культуры. Другим фактором, возможно, стала исчерпанность, вследствие интенсивной разработки, сложившегося во внутрилингвистическом пространстве репертуара исследовательской антонимической проблематики и обусловленная этим невозможность серьезного идейно-концептуального прогресса в этой области. Между тем в современной науке, рассматриваемой как глобальный эпистемологический дискурс, можно найти идеи и перспективы для активизации исследований вопросов языковой антонимии. Таким методологическим ориентиром может служить тезис о сущностном изоморфизме феноменов бытия, об архетипических универсалиях, объединяющих явления материального мира, сознания, языка. В рамках такой концепции антонимия может трактоваться как частный момент глобальной онтологии мира, что, с одной стороны, позволяет установить ее сущностное и генетическое родство со многими фундаментальными явлениями внеязыковой действительности, а с другой - выявить то уникальное в субстанции антонимии, что делает ее незаменимым ресурсом в процессах коммуникации. Попыткой обоснования этой исследовательской платформы и является данная публикация.
История вопроса. В рамках исследовательской парадигмы, ориентированной на выявление системно-семантических корреляций в языке, проблематика антонимии разработана основательно и в разных аспектах. Выполнены фундаментальные монографические работы по лексической (Л.А. Новиков [11]) и грамматической (Н.Б. Баева [3]) антонимии. В научных публикациях и учебниках по стилистике представлен разноплановый анализ экспрессивного функционирования категории семантической противоположности в художественном, публицистическом, обиходно-речевом дискурсе. Проблематика антонимии находится в фокусе внимания и такого исследовательского направления, как лингвистическая теория перевода, поскольку метод антонимического перекодирования широко применяется в практике перевода, когда прямые лексические соответствия в двух языках отличаются коннотациями и необходимо найти способ адекватной передачи сверхденотативной информации.
Методы исследования. В работе обозначена возможность расширения научно-методологической платформы для продолжения исследований в области языковой антонимии с новыми акцентами. Контуры такой платформы определяются с использованием метода концептуального анализа. При интерпретационной работе с эмпирическим литературно-художественным материалом применяются методы семантического и коммуникативно-прагматического анализа.
Результаты исследования. В рамках данного проекта решались две задачи: 1) поиск, анализ и дискурсивная актуализация научно-теоретической информации, связанной с перспективой включения проблемы антонимии в актуальную парадигму «глобальной» науки, в которой все больше сторонников находит концепция онтологического изоморфизма между объектами и явлениями физического мира, сознания и языка, которая, в свою очередь, открывает возможность рассматривать языковую антонимию как частный аспект общей картины мира и безальтернативный коммуникативный ресурс; 2) лингвопрагматический анализ романа Лиона Фейхтвангера как произведения, в идейно-художественном пространстве которого важнейшим принципом организации повествовательного дискурса выступает когнитивно-семантическая категория противоположности.
Внеязыковая сущностная укорененность антонимии . Практически неисследованным аспектом феноменологии антонимии остается глубинная детерминированность категории семантической противоположности внеязыковой действительностью, ее сущностные корреляции со многими явлениями физического мира и духовной сферы.
Антонимия - это проекция на языковую субстанцию универсально-конструктивного принципа дихотомической, по формуле диалектического единства противоположностей, организации материального мира, когнитивного пространства и знаково-коммуникативной деятельности человека. Антонимия - в той же мере явление лингвистическое, имманентно-языковое, в какой и экстралингвистиче-ское, коренящееся в глубинных структурах неязыковой субстанциональности мира и нашего познавательного опыта. Лексическая антонимия - особый, частный аспект категории семантической противоположности в языке, которая, в свою очередь, выступает как вербальная репрезентация дихотомической картины мира, в основании которой лежит когнитивная модель оперирования противоположностями.
Первый опыт философского осмысления категории противоположности принадлежит Гераклиту (540-480 до н.э.), который сформулировал свое понимание этого явления в виде ряда тезисов: 1) мир состоит из противоположностей; 2) противоположности сущностно предполагают друг друга и ведут между собой борьбу; 3) противоположности переходят друг в друга. Противоположности не только формируют субстанциональность мира, но и предопределяют его эволюционную динамику. Всякое развитие и изменение вещей «возможно только как единство противоположностей, понимаемого Гераклитом и в виде непрерывного перехода из одной противоположности в другую…и в виде единства уже сформировавшихся противоположностей»1. Более поздние, включая и новейшие, теории феномена противоположности не внесли ничего принципиально нового в понимание сущности этого явления, они представляют собой концептуальное развитие, инструментальное применение или спецификацию в каком-то отношении античных тезисов, взятых в совокупности или по отдельности.
Важное место в современной концепции категории диалектической противоположности занимает ее понимание как одной из онтологических формообразующих универсалий, как архетипической конструкционной модели мира и сознания. В частности, идеи Гераклита находят отклик в теориях, проливающих свет на процессы образования материи, происходящие на квантовом уровне (в предельном микромире). Согласно одной из таких теорий, процесс порождения физической субстанции происходит «как виртуальный процесс взаимопорождения и взаимоуничтожения электронов и позитронов в электромагнитном поле и как виртуальный процесс непрерывного взаимопревращения нейтрино и антинейтрино в слабом поле» [Арлычев А.Н., с. 166]. Таким образом, жизнь элементарных частиц может служить иллюстрацией к тезису о единстве и борьбе противоположностей. Примечательно в этом плане и то, что некоторые элементарные частицы представляют собой внутренне противоречивую сущность, могут обладать и положительной, и отрицательной энергией.
Дискурсивными маркерами (проводниками) идеи о бинарно-оппозитивной организации объективной действительности, лежащей в основе современной научной картины физического мира, являются регулярно используемые в современных научных текстах термины макромир/микромир, жи-вая/неживая природа, рождение/умирание, электрон/позитрон, вещество/антивещество и многие другие. В этом же ряду следует назвать слова-антонимы, используемые для описания различных процессов, происходящих в материальном (физическом) мире - такие, как тепло/холод, движение/покой, при-ближение/удаление, увеличение/уменьшение и т.д. Добавим также, что многие термины, используемые в инструментарии естественных наук, представляют собой концепты с семантикой противоположности: анализ/синтез, индукция/дедукция, плюс/минус и т. д.
В последнее время набирает все больше сторонников теория глобального онтологического изоморфизма, построенная на идее тождества феноменов различной субстанциональности - физического мира, сферы сознания, языка - по признаку их генетического и глубинно-структурного родства. Например, в качестве такого функционально-интегрального явления бытия и культуры рассматривается жанр, проявляющий себя в эпистемологическом плане как универсальная генеративная модель конструирования различных природно-социальных феноменов. Такая точка зрения высказана недавно саратовским лингвистом В.С. Вахрушевым: жанр характеризуется им как «идеальная модель, генерирующая явления не только дискурсивного, но и социального, культурного, исторического процессов..., элемент макросистемы “жанр-текст-человек-общество-культура-природа”»; при этом отмечается «наличие изоморфизма между жанрами текстов и жанрами иных форм жизни: биологической, социально-бытовой и исторической» [Вахрушев В.С., с. 18].
Традиционно антонимия рассматривается как сугубо лингвистическое явление, иногда - сквозь призму логической категории противоположности. Думается, что ввиду усиления позиций теории универсализма в сегодняшней науке и философии можно в трактовке этого явления выйти за пределы собственно-лингвистической проблематики и попытаться выстроить интерпретационную модель, учитывающую сущностную укорененность антонимии в реалиях экстралингвистической действительности. Антонимию можно рассматривать в ряду явлений, которые, подобно жанру, объективированы в качестве инвариантной модели (матрицы) структурирования феноменов различной природы, включая предметно-материальный мир и сферу сознания.
Роль категории противоположности (когнитивной антиномии) в организации духовно -интеллектуальных практик. Принцип структурирования по модели актуализации противоположностей характерен и для дискурсивных сфер человеческого сознания, мыслительной и творческой деятельности. «Изначально заложенная в бинарном архетипе идея напряженного диалога антиномичных величин предопределила строй человеческого мышления» [Большакова А.Ю., с. 52]. Автор цитируемой статьи делает указанный вывод после знакомства с рядом публикаций, в которых исследователи делятся наблюдениями и открытиями, сделанными в ходе разработки различных проблем истории духовной культуры. Назовем некоторые из них. В основе мировой мифологии лежат бинарно-оппози-тивные модели «добро/зло», «низ/верх», «тепло/холод», «свет/тьма», «мужское/женское»; в Библии заметную содержательно-композиционную роль играет противопоставление «священных городов» (Вифлием, Иерусалим) и «проклятых городов» (Содом и Гоморра); в художественной литературе, прежде всего - русской, множественно-вариативное воплощение получило противопоставление концептов «идиллия/жестокая реальность». Еще один интересный пример. В 70-е гг. прошлого века известный лингвист А. Жолковский провел фокусный анализ поэтической картины мира А.С. Пушкина, в ходе которого было установлено, что ключевую роль в организации художественно-текстового пространства поэта играет «амбивалентное противопоставление “изменчивость/неизменность”», которое в многообразных концептно-лексических вариациях присутствует в значительной части произведений поэта. Если «в физической зоне “изменчивость/неизменность” предстает виде противопоставлений “движение/покой”, “хаотичность/упорядоченность”, “прочность/разрушение”, “газообразность/жид-кость”, “мягкость/твердость”, “легкость/тяжесть”, “жар/холод”, “свет/тьма”, в биологической – “жизнь/смерть”, “здоровье/болезнь”, то в психологической - “страсть/бесстрастие”, “неумерен-ность/мера”, “вдохновение/отсутствие вдохновения”» [Цит. по: Большакова А.Ю., с. 52].
Поэзия - область, где господствует принцип: меньше слов - больше смысла. Одним из способов реализации этой установки является семиотическое усложнение текста, придание ему семантической многоплановости, создание эффекта смысловой интриги для читателя. Некоторые типы антонимических контекстов, например оксюморон, успешно решают эту задачу. Регулярность появления и прагматическая нагруженность таких словесных композиций свидетельствует о той или иной специфике индивидуального художественного стиля автора. Исследование, посвященное особенностям функционирования эпитетов у Марины Цветаевой, показало, что для этого аспекта творчества поэта характерны такие приемы организации текстового пространства, как парадоксальное сближение лексических антонимов в единой предметно-референтной конструкции, создание семантически-противоре-чивых контекстов, игра с контрастами. «Особенностью конструирования атрибутивных словосочетаний поэта является употребление эпитетных слов с противоположным значением в составе единого эпитетного комплекса» [Губанов С.А., с. 32]. Исследователь называет антонимичность базовой чертой идиостиля поэта.
По бинарно-оппозитивной модели, как дискурсивно-текстовые традиции принципиально различной онтологии, актуализованы в сфере словесно-художественного творчества стихи и проза. При этом сама возможность их противопоставления, как правило, воспринимается как частный аспект некой общекультурной парадигмы противоположностей, построенной на глубинных философско -мировоззренческих контроверзах; ср.: «противопоставление поэзии в прозы в русской литературе XIX в. воспринималось на фоне общей антиномии построенного, искусственного, ложного, с одной стороны, и природного, безыскусственного, истинного - с другой» [Лотман Ю.М., с. 142].
В масштабе всего культурного опыта человечества могут быть противопоставлены отдельные системообразующие сегменты этой сферы. При этом сама предметная область этой культуры не может быть представлена как двухэлементная антиномичная конструкция. Например, в общем многообразном спектре художественно-литературных систем, выделяемых в истории культуры, по указанной модели дифференцированы, пожалуй, только романтизм и реализм - соответственно как установка на приукрашивание действительности (создание ложной картины мира) и фактологически-точное воспроизведение положения вещей (т. е. достоверной, истинной картины мира).
В построении отдельных областей знания можно усмотреть интенцию дихотомического структурирования на базе архетипической контрарной оппозиции. Так, этика, наука о нравственности, воплощающая собой огромный пласт тысячелетней духовной культуры человечества, при рассмотрении в плане своеобразия ее семантической макроструктуры (по ван Дейку), предстает перед нами как гигантский текст (дискурс), спроектированный по дихотомическому принципу - путем расширительного развертывания элементарной, по своему бытовому прагматическому применению, семантической оппозиции добро-зло. Простая обыденность языкового сознания и коммуникативного обихода, более известная в виде тривиальных диалогических апелляций «Что такое хорошо?/Что такое плохо?», стала структурно-семантической (концептуально-идеологической) основой огромного, необозримого в своей глобальности, многомерного системно-автономного научного дискурса. В подобном же методологическом ключе может рассматриваться и эстетика, наука, дискурсивная макроструктура которой построена по формуле семантико-оценочной дифференциации антонимичных концептов прекрасное-безобразное в формате обособленной научной парадигмы.
Приоритетный статус антонимии в систематике языковых явлений . Есть языковые данности, природа и сущность которых раскрывается и концептуализируется сознанием в окончательной ясности путем соотнесения с реалиями объективной действительности, с теми или иными фрагментами картины мира; например, категория процессуальности у глаголов или предметности у существительных осознается нами в проекции на соответствующие им индивидуально-образные представления о движении/динамике и предметно-материальной организации внешнего мира. Порядок следования сказуемых в крылатой фразе «п ришел, увидел, победил» в точности воспроизводит чередование событий в реальной жизни (синтаксический иконизм). Напротив, противопоставление залоговых форм актив-пассив никак не мотивировано явлениями окружающей действительности; грамматическая оппозиция в паре предложений Рабочие строят дом и Дом строится рабочими совершенно не коррелирует с различиями в характере протекания события в реальной жизни. Это явление внутренней системности языка, имматериальный артефакт, созданный изобретательным интеллектом человека.
Антонимия, как уже показано выше, относится к первой группе языковых явлений. Возможность наглядно-образной репрезентации отражаемых сущностей путем их проецирования на сенсорно-эмпирический познавательный опыт человека становится существенно значимым признаком, по которому они выделяются в общей номенклатуре единиц и средств, используемых в качестве инструментально-понятийного аппарата в процессах углубления и совершенствования наших знаний о мире. Категория противоположности служит общим конструктивным принципом организации языка и вне-языковой действительности, в силу этого языковая антонимия воспринимается сознанием-подсознанием как некая эмпирически достоверная реальность, как элемент моделирующей системы, в которой воспроизводится сама объективная реальность. В этом проявляется своеобразный иконизм антонимии, способность быть наглядной и достоверной иллюстрацией того, что объективно присутствует во внеязыковой действительности. Свойственный антонимии в указанном смысле эвристический потенциал нельзя отрицать.
Важно отметить когнитивно-операциональную функциональность антонимии. Категория противоположности, будучи универсальной конструктивной основой картины мира, моделирует и систематизирует значительную часть доступных человеческому восприятию сущностей. Лингвистическая уникальность антонимии предопределена тем, что в объективной физической реальности выделяются такие явления, как верх-низ, маленький-большой, холод-тепло, начало-конец, далекое-близкое и т. д., а феномены сознания репрезентируются, оцениваются, аккумулируются и транслируются путем проецирования на семантические оппозиции свой-чужой, истина-ложь, любовь-ненависть, хороший-пло-хой и множество других. Особо следует подчеркнуть, что упомянутые сегменты мира денотатов изначально выделяются, фиксируются и актуализируются нами как сущности, релевантные для сознания исключительно в своей дихотомически-оппозитивной природе (противоположности, по Геродоту, предполагают друг друга). Не существует иного способа концептуальной и семантической рецепции противоположностей, кроме как в их взаимоотражении. Таким образом, антонимия играет ключевую роль в познавательной деятельности сознания и языка, функционирует как уникальный инструмент когнитивного моделирования мира, который никаким другим инструментом заменить нельзя. Это их свойство находит непосредственное отражение в лексикографической практике: составители толковых одноязычных словарей довольно часто используют прием демонстрации антонимов при объяснении значения слова. Антонимия свойственна главным образом абстрактной лексике, этим обусловлены многие лингвистические характеристики слов с противоположным значением; например, термины польза и вред не могут быть представлены в виде наглядных эмпирических сущностей (в отличие от автобуса, который можно нарисовать), в этом случае дидактически-эффективным инструментом при объяснении значения слова становится указание на его антоним.
Особое положение антонимии в систематике языковых явлений обусловлено еще и тем, что основной корпус антонимических понятийных противопоставлений носит глобально-интернациональный, универсально-лингвистический характер: они встречается во всех или в абсолютном большинстве языков; например, трудно представить язык, в котором не было бы экзистенциально незаменимых лексико-понятийных оппозиций далекий-близкий, темный-светлый , сытый-голодный и др. Такая эмпирическая тотальность не свойственна ни одной другой семантической категории.
Принципиально важно обратить внимание на отношение антонимии к явлениям информационной энтропии. Язык представляет собой синергетический объект, отличающийся всеми существенными характеристиками последнего: открытостью, структурной сложностью, изменчивостью, нелинейностью, способностью к самоорганизации. Живой функционирующий язык находится в состоянии постоянного взаимодействия, энерго-информационного обмена с окружающей средой - социальной, ноосферной, семиосферной. Это принципиальное отличие языка от изолированных систем предполагает его подверженность процессам диссипации (рассеивания) информации, ср.: «Для изолированной системы, которая ничем не обменивается с окружающей средой, поток энтропии равен нулю, по определению» [Пригожин И.Р., с. 172].
Антонимы представляют собой готовые микросистемы и сложившиеся константы в постоянно трансформирующемся открытом пространстве языка, самим фактом своего существования они создают впечатление о системно-структурной интенциональности языка, о его диалектической противоречивой природе, сочетающей в себе противоположно направленные тенденции развития - к порядку и хаосу, экономии и избыточности, статике и динамике и т.д. Антонимы способствуют сокращению меры неупорядоченности, неопределенности в языке, они долингвистичны по своей природе, возникают задолго до формирования научно-рефлексивной картины языка, своим примером способствуют развитию системных исследований субстанции языка. Важнейшие когнитивные операции человеческого интеллекта - сравнение и систематизация предметов и явлений внешнего мира, поиск закономерностей, управляющих природными процессами. (Они значимы не сами по себе, а прежде всего для использования полученных знаний в повседневной практике жизни, для обеспечения условий благополучного самосохранения человеческого рода.) Антонимы не только органично вписываются в указанную классификационную стратегию нашего сознания, в определенном смысле они способствуют ее возникновению, представляют собой осуществление этой стратегии в субстанции языка как рельефного образца упорядоченности, готовой модели для системно-структурного анализа. Антонимы - элемент самоорганизации языка, материальное воплощение его формообразующей интенции, той стороны его сущности, которая прототипически определяет предметно-диалогический характер научно-рефлексивной деятельности. То, что в языке антонимия выступает в качестве фактора преодоления энтропии, существенным образом отличает ее от другой фундаментальной семантической категории - синонимии, которая вносит в систему языка элемент разнообразия, а значит - и динамической нестабильности, связанной с необходимостью осуществления выбора и сопутствующей ему постоянно критической рефлексии («Правильно ли это?»). «Синонимия - явление, увеличивающее энтропию и в речи, и в языке» [Некипелова И.М.], и, поскольку в этом случае мы говорим о сущностно релевантной характеристике языка как целесообразно функционирующей интеллектуально -информационной системы, нельзя согласиться с бытующими в лингвистике мнениями о тождестве обеих семантических категорий или гипо-гиперонимических отношениях между ними; ср. в этой связи: «Частным случаем синонимических отношений между словами можно считать антонимию» [Денисов П.Н., с. 101].
Все уровни и аспекты языковой субтанциональности охвачены категорией противоположности. На уровне фонетическом работает принцип эстетических контрастов ( приятное-неприятное звучание речи); в грамматике выделяются активные и пассивные формы глагола, прошедшее и будущее время; стратегии речевых действий варьируются в зависимости от противоположно-ориентированных векторов интенциональности (например, желания возвысить или унизить собеседника).
Проблема антонимии не замыкается пространством языка, семантическая противоположность выступает как прямое диалектическое воплощение в субстанции языка особой стратегии нашего сознания и мышления, референтной целевой областью приложения которой являются тонкие когнитивные пограничные стыки между тем, что мы знаем и не знаем, понимаем и не понимаем. Вполне очевидно присутствующие в нашем рационально-познавательном опыте амбивалентные явления окружающей действительности и охотно генерируемые нами в мыслительных и коммуникативных практиках двойственные (противоречивые, парадоксальные) концепты должны иметь свои средства вербальной репрезентации. Примечательно, что многие из антиномически-построенных высказываний выступают как некие культурно-исторические константы, (элементы универсального разума), воспроизводимые в различные эпохи и в разных предметно-тематических контекстных актуализациях. Часто цитируемое в философском дискурсе о противоречиях откровение Гераклита «Путь вверх есть путь вниз» выступает как прообраз появившегося через 2000 лет в другом культурно-историческом контексте романа Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз» («Up the Down Staircase»), а эпистемологическая максима нового времени «Всякое понимание есть непонимание» (Гумбольдт) концептуально воспроизводит другую античную мудрость – «Явление есть видение невидимого» (Анаксагор). Формула синтеза противоположностей не только не противоречит объективной картине мира и не попадает в разряд хрестоматийных аномалий, напротив, при глубинно-сущностном анализе она выступает как единственный в своем роде момент необходимости в работе нашего сознания, как функция, организующая конструктивно-смысловые интенции человека.
Именно поэтому Гераклит говорит о единстве/совмещении противоположностей как о некой гармонии; в ее силовом плодотворном поле формируется «символический язык, которым мы пытаемся выразить то, что невозможно выразить в предметном языке» [Мамардашвили М.К., с. 106].
Антонимы как безальтернативный ресурс художественной выразительности . Предметно-тематические области, связанные с развертыванием художественно-повествовательного дискурса, типологически разнообразны и бесконечны в своей комбинаторике и вариативности. Таков природа самой жизни и окружающей действительности, семиотической моделью которой является художественная литература (по Лотману Ю.М.). Предметно-референтная специфика текста в решающей степени влияет на выбор средств языкового выражения, на характер применения лексико-грамматических ресурсов и формирование ассоциативно-коннотативного контекста повествования. Описание батальных сцен предполагает актуализацию военной терминологии и рельефно-выраженной патриотической позиции повествователя. Романтический дискурс предпочитает лексику и фразеологию, раскрывающую светлые лирические чувства, характеризуется гармонией ритмико-интонационного и фоностилистического строя, склонен к эффектам семантической многоплановости. Таким образом возникает устойчивая системно-закономерная корреляция между субстанцией языка и предметно-содержательными запросами дискурса. Заметим попутно, что в этом взаимодействии и взаимоотражении двух аспектов бытия языка проявляется его единство с речью как функциональным воплощением первого и – в проекции на проблематику общей лингвистики – справедливость позиции исследователей, возражающих против идеи противопоставления языка и речи как онтологически различных сущностей.
Существуют определенные типы контекстов и предметно-референтных областей художественного дискурса, для которых применение антонимических ресурсов языка является насущной потребностью, а во многих случаях – и единственной возможностью своего речевого исполнения. Поскольку с применением иных средств языка эти художественно-повествовательные задачи не могут быть решены, то возникает особого рода системность метаязыкового уровня, когда в дискурсивно-языковом сознании указанная корреляция выступает как эмпирически очевидный факт, как особое измерение коммуникативно-языкового сознания.
К числу контекстов упомянутого типа относятся прежде всего предметно-событийные ситуации, раскрывающие изначально-сущностную противоречивость явлений окружающей действительности и вследствие этого интенционально ориентированные на изображение описываемого фрагмента мира по модели бинарной (антитезной) оппозиции. В данной содержательной области литературы антонимы выступают как единственно возможные, принципиально безальтернативные средства языкового выражения. Рецепция сущностного и оценочно-прагматического антагонизма явлений внеязы-кового мира сигнификативно коррелирует с антонимическим пространством языка и монопольно контролируется им. При этом важно отметить, что речь идет не о конкретике языкового материала, не о тех или иных вполне определенных, отобранных для данного случая антонимических парах, ко- торые при желании можно заменить на другие, синонимичные или парафрастические, а об антонимии как фундаментальной семантической категории в феноменологии языка, как специфическом качественном свойстве лингвистического материала, коррелирующем со структурно-функциональными особенностями мышления и отражающего мир сознания.
Написанный в период с 1935 по 1939 гг., антифашистский роман Лиона Фейхтвангера «Изгнание» повествует о немецкой творческой интеллигенции, эмигрировавшей во Францию после прихода нацистов к власти в Германии. Ключевую роль в организации идейно-художественного пространства романа играет концептосфера антонимии. Имплицитная антонимия содержится уже в названии романа, оно по существу означает «драма невозможности жить на родине», т.е. ассоциативно воспринимается как репрезентант семантической оппозиции родина-чужбина . Тематическая доминанта романа - противоборство идеологий фашизма и антифашизма. Конструктивно-значимым фоном повествования выступает рефлексивный дискурс о свободе и отсутствии свободы. Сами немцы-эммигранты идеологически расколоты, часть из них ненавидит фашизм, часть явственно симпатизирует ему. Роман начинается с эпиграфа к первой книге - цитаты из И.В. Гете, смысловым центром которой является антитеза Stirb und Werde «Умри и воскресай», настраивающая читателя на заданный модус восприятия содержания и философию оптимизма. Эксплицитно и имплицитно на страницах романа регулярно и в различных лексических реализациях встречаются парно-антонимичные концепты истина-ложь, разум-чувства, порядок-хаос, любовь-ненависть, дружба-вражда и некоторые другие. Художественное мышление писателя дихотомично, ориентировано на изображение действительности как макроструктуры, организованной как пространство воплощения, сосуществования и взаимодействия противоположностей. Неудивительно, что текст романа насыщен антонимическими контекстами, они явно превалируют над другими видами языковых структур, используемых писателем для воплощения художественного замысла в словесно-текстовой конкретике.
Указанная корреляция между парадигматикой языка и синтагматикой художественной речи находит воплощение в стилистических фигурах контраста - антитезе и оксюмороне, причем последний представляет собой структурно-прагматический вариант первой; универсальная когнитивная модель антитезы преобразована в случае оксюморона так, что в качестве ее референта выступает единичный объект, интерпретируемый как внутренне-противоречивая (конституируемая как единство противоположностей) сущность.
Художественная коммуникация имеет своей целью и творческое самовыражение автора, и оказание определенного воздействия на интеллектуально-эмоциональную личность адресата. При этом автор стремится к полноте самовыражения и достаточной эффективности воздействия, поэтому он выбирает на каждом этапе работы над художественным текстом те средства и приемы, которые могут обеспечить необходимо релевантный, по его мнению, результат, причем делает это во многих случаях с запасом, избыточно, по модели амплификации. К числу приемов максимализации коммуникативно -прагматической действенности текста относится контраст - конструктивный прием, применяемый для усиления эстетической и прагматической эмоциональности отдельного текстового фрагмента или всего текста во многих видах интеллектуально -творческой деятельности. Контраст, независимо от сферы его применения, характеризуется сочетанием ряда типологических признаков: он отличается строго бинарной структурой, наличием двух статусных семантических центров; в основе отношений между образующими контраст элементами лежит семантическая противоположность; эти элементы относятся к явлениям идентичной субстанциональности (слово - слово, цвет - цвет, ритм - ритм и т. д.); контраст может быть реализован в различных линейно-синтагматических формулах (полиструктурность); формирующие контраст противоположности не рядоположены механически (как в случае черно-белого кино ), а взаимодействуют друг с другом, генерируя в синтезе новые смысловые и стилистические нюансы; для экспрессивного подчеркивания контраста могут применяться другие приемы организации текста: синтаксический параллелизм, фоностилистические композиции, паронимия, ритмический повтор и т.д.
Исследователи отмечают ключевую роль контраста в формировании художественно -текстового пространства - не только в сфере изящной словесности, но и в других видах творческой деятельности (живописи, музыке, архитектуре и т. д.). «Контраст в художественной культуре является базовым коммуникативным принципом» [Балкинд Е.Л., Пунтус Е.Ю., с. 77]. В литературно-художественных текстах основным языковым ресурсом для реализации приема контраста является лексическая антонимия, а наиболее предпочтительной моделью, оптимально приспособленной для контрастно-экспрессивного выдвижения текстового сегмента, – антитеза, фигура речи, в которой лексическая противоположность солидарно акцентируется синтаксически-конфронтативным рисунком высказывания или группы высказываний. Можно предположить, что данная видовая сфера коммуникативно-речевой экспрессивности возникла благодаря наличию антонимии в языке, с целью создания максимально выигрышных контекстных условий для реализации ее стилистико-выразительного потенциала. Понятийно-сущностная связь между антонимией и антитезой подчеркивается и идентичностью корневой морфемы в обоих терминах.
Антитеза – одно из самых изученных явлений в языке; наша задача – показать ее текстотехнически необратимый характер в определенных типах контекстов, невозможность реализации стилистического приема как такового без привлечения средств антонимической номинации.
В указанном отношении наибольший интерес представляют нечастые даже в художественных текстах антитезные конвергенции – сегменты текста, многократно интенсифицирующие семантику противоположности посредством комплексного (интегрального, ансамблевого) использования разноплановых по статусу, но прагматически однонаправленных лингвистических средств. Фактором, обеспечивающим единство и взаимодействие этих средств, выступает некая антонимическая оппозиция, иплицитно (на уровне архисемы, не в лексической репрезентации) присутствующая во всех лексических парах, образующих прагматически усиленную антитезную композицию. Рассмотрим пример (курсивное выделение в цитатах из романа – автора статьи; в скобках указаны страницы извлечения цитат):
So hat er zu spüren bekommen, was Heimat ist und was Fremde , was Gebundenheit und was Freiheit , was Unsicherheit und was gefestigte Stellung [Feuchtwanger L., s. 148] / Так он почувствовал, что такое родина и что такое чужбина , что такое связанность по рукам и ногам и что такое свобода , что такое неуверенность и что такое прочное положение2 .
Данное художественное высказывание примечательно тем, что порождающей моделью для него послужила речемыслительная прототипическая конструкция тезис-антитезис , которая выступает здесь как полновесный, наряду с другими лингвистическими средствами, конструктивный элемент текста; более того – она в решающей степени определяет характер отбора и линейной организации этих средств. Интегральная имплицитно-оценочная антонимическая пара – «благо-зло» (или ее гиперонимический вариант «хорошо-плохо» ). Приемы прагматической интенсификации: повтор, параллелизм, ритмика. Вывод очевиден: данная единица текста антиномична уже в момент зарождения и предполагает исключительное (безальтернативное) использование лексических антонимов для своего языкового воплощения. Интегральная по отношению к ним архисемная антонимическая пара и является целевым объектом референции.
Весьма эффектно смотрятся антитезные контексты, оформленные в виде синтаксически параллельных предложений с антонимами в симметричных позициях:
“Es gibt eine Grenze, einen ganz bestimmten Punkt, wo der anständige Mensch aufhört und der Lump be-ginnt ” [Feuchtwanger L., s. 654] / Существует некая граница, конкретная точка, где кончается порядочный человек и начинается подлец .
Структура антитезы может использоваться как образцовая модель для необычной концентрации средств языковой экспрессии; при этом антитеза выступает в обрамлении целой серии разноплановых приемов речевой выразительности, интегрируемых по принципу стилистической конвергенции. В таких незначительных по объему фрагментах текста достигается неординарная плотность прагматически нагруженной языковой субстанции и, как следствие, высокая интенсивность речевого воздействия. Пример из авторского послесловия к роману:
Häufig sagt das Herz nein zu dem, was die Vernunft bejah t, häufig strebt das Gefühl dem zu , was der Verstand verneint [Feuchtwanger L., s. 814] / Часто сердце говорит нет тому, что утверждает разум , часто наши чувства жаждут того, что отвергает здравый смысл .
В цитируемом высказывании мы встречаем комплекс приемов, усиливающих экспрессию антонимического контраста: синтаксический параллелизм, синонимический повтор (Herz-Gefühl, Vernunft-Verstand), полный лексический повтор (häufig ), контекстуальную синонимию (bejahen-zustreben), повтор корневой морфемы с варьированием семантико-стилистического профиля (nein sagen-verneinen), фигуру хиазма, легкий ритмический ход фразы.
Не представляется возможным иное словесно-субстанциональное воплощение приведенных художественно-речевых фрагментов, кроме как с использованием антонимов.
Генеративная антитезная модель является источником так называемой контекстуальной (окказиональной) антонимии. Она и запускает механизм семантического переформатирования слов, не образующих семантической противоположности на уровне языковой системы, для реализации антитезной интенции. И здесь функция (установка на контрастное изображение) первична по отношению к речевой субстанции:
Er wußte von allein, wann Zucker anzuwenden war und wann die Peitsche [Feuchtwanger L., s. 418] / Он понимал с самого начала, когда применять пряник ( букв.: сахар) , когда кнут .
Лексика с конкретно-предметной референцией, инертная в плане антонимообразования на уровне языковой системы, попадает в силовое поле антитезной интенции и генерирует производные контекстуальные семы, репрезентирующие семантическую оппозицию «поощрение-наказание» .
По ходу чтения романа бросается в глаза, что для создания стилистического контраста автор охотнее использует окказиональную (контекстуальную) антонимию, что объясняется желанием добиться новизны и идиостилевой оригинальности языкового выражения путем дистанцирования от слишком очевидных и тривиальных системно-лексических семантических связей. Особенно это заметно в случаях антонимического употребления имен собственных:
… höchst jämmerlich hockte er da, verfallen , ein Häuflein Unglück , keineswegs dem Präsidenten Lincoln ähnlich [Feuchtwanger L., s. 520] / …с плачевно жалким видом приютился он на своем сиденье, раздавленный, груда несчастья , совершенно не похожий на президента Линкольна .
Другой прием придания индивидуально-стилевой окраски фигурам стилистического контраста заключается в создании нарочитой количественной и качественной асимметрии между противопоставляемыми лексическими группами:
Er, der sonst so Liebenswürdige, Ölige, wiederholte scharf, trocken, präzis und bösartig seine Forderung [Feuchtwanger L., s. 519] / Он, обычно сама любезность, елейность , повторил свое требование резко, сухо, педантично и озлобленно .
Здесь мы наблюдаем типичный случай нарушения принципа аналогии и прогнозируемой регулярности межсловных связей по ряду параметров: количество (2 и 4), отсутствие линейного параллелизма, оформление в виде разных частей речи, присутствие антонимически-инертных по системной семантике лексем ölig и präzis, аритмичность противопоставляемых рядов .
Примеры с контекстуальными антонимами важны, поскольку они наглядно показывают, как интенциональность высказывания определяет его словесно-субстанциональное наполнение. В контексте обсуждаемой темы необходимо напомнить, что контекстуальная антонимия во всех случаях интерпретируется как таковая (как антонимия) исключительно в проекции на системно-языковую семантическую оппозицию, которая присутствует в таких высказываниях в качестве имлицитного их элемента, выступающего в роли безальтернативного языкового средства реализации антитезной установки автора.
В творчестве Л. Фейхтвангера заметным элементом повествовательного дискурса является образ маски, который позволяет автору раскрыть двойственность, противоречивую человеческую сущность персонажа или отобразить ситуации разоблачения, развенчания его привычного социального образа. Антонимы – наиболее пригодный материал для демонстрации двойственной идентичности персонажа:
Allmählich aber begann ihre Zuversicht eine Maske zu werden, und dahinter lag Verzagtheit, graue Ver-zweiflung [Feuchtwanger L., s. 692] / Однако, постепенно ее уверенность , начала превращаться в маску, а за ней скрывалось уныние, серое отчаяние .
Здесь также обращает на себя внимание упомянутый выше прием асимметричного оформления фигуры контраста; синонимический повтор по типу градации, а также появление эпитета во втором звене антитезной группы усиливают повествовательную динамику, иконически подчеркивают различия в степени интенсивности испытываемых чувств. Концепт маски может быть и лексически не выражен: Er ist rachsüchtig, nachträgerisch, so großzügig er sich gibt [Feuchtwanger L., s. 422] / Он мстителен, злопамятен, хотя пытается выглядеть великодушным.
Наряду с термином Maske, в романе можно обнаружить и другие лексические единицы, используемые автором в качестве сигнальных маркеров идеи антитезного противопоставления: Kontrast, Wider-spruch, im Gegenteil, Pol, weder…noch, sonst, zugleich и некоторые другие. Они нейтральны в экспрессивно-стилистическом плане, но в контекстах указанного типа выполняют важную функцию регулятора смыслового и тонального движения текста, общая экспрессивная настроенность фразы окрашивает их соответствующим образом. Их употребление в высокой степени синхронизировано с появлением в тексте антитезной синтаксической модели, реализуемой посредством системно-языковых или контекстуальных антонимов.
Антонимы незаменимы и в тех типах событийно-референтных контекстов, которые подчеркивают кардинальные изменения, происшедшие в изображаемом предмете или ситуации. Эти изменения мыслятся как трансформирующие сущность предмета описания диаметрально-противоположным образом, причем во многих случаях в коммуникативном фокусе высказывания оказывается сам факт происшедших перемен, а не их предметно-содержательная специфика, определяемая семантикой антонимичных лексем. Перемены изображаются либо как протекающие по временной оси, либо – как детерминированные изменением предметно-событийной или социокоммуникативной ситуации, ср. соответственно:
Mit angenehmer Verwunderung nahm man wahr, wie bescheiden und rücksichtsvoll der früher so überhebliche, rechthaberische Mann sich gab [Feuchtwanger L., s. 710] / С приятным удивлением все наблюдали, как скромно и тактично стал вести себя прежде столь высокомерный и несговорчивый господин.
Gab sich Friedrich Benjamin gemeinhin freundlich, gefällig, ja kleinlaut , so zeigte er sich manchmal, und gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartete, bösartig und gereizt [Feuchtwanger L., s. 710] / Фридрих Бенжамин обычно бывал приветлив, любезен, и даже кроток, но иногда, особенно когда этого ждали меньше всего, он становился озлобленным и раздражительным .
Важнейшим конструктивным принципом художественной системы Л. Фейхтвангера является идея единства противоположностей, которое мыслится им как естественный атрибут социальной действительности (отношения между людьми) и внутренней психической жизни персонажей. Тема сосуществования противоположных начал в природе человека и в его отношении к миру – одна из центральных и лейтмотивных в творчестве писателя. В абстрагировании от содержательной конкретики произведений, на метатекстовом уровне анализа, эту особенность художественной системы можно трактовать как способ экспликации ключевой мировоззренческой позиции автора – мысли о принципиальной невозможности понять противоречивую сущность человека.
Представление о синкретизме контрастных качественных признаков может быть синтаксически оформлено в виде перечислительного ряда:
…seine freche, scheußliche, stolze , erbarmenswürdige strahlende Jugend [Feuchtwanger L., s. 676] / … его наглая, отвратительная, гордая, проклинаемая, блистательная юность .
Встречаются парные сочинительные конструкции с антонимичными компонентами:
Niemals hatte er das Glück und die Qual der Arbeit so von innen her gespürt … [Feuchtwanger L., s. 719] / Никогда он не чувствовал счастье и муки работы с таким напором, идущим изнутри ; …er spürte gleich-zeitig Schrecken und Freude [Feuchtwanger L., s. 424] /… он чувствовал одновременно ужас и радость .
Детерминант gleichzeitig семантически анонсирует появление лексической группы с антонимичными компонентами.
Классический тип оксюморона – атрибутивное словосочетание, в составе которого невозможно реверсирование подчинительных связей, – отличается экспрессией компактности и в наибольшей степени имплицирует представление о противоречивой дуалистичности предмета описания. Примечательная особенность таких композиций – семантическая многоплановость, диалогичность, игровые эффекты (когнитивный вызов: как это возможно?), ср.: bitteres Lächeln ([Feuchtwanger L., s. 298] / горькая улыбка, grimmiger Spaß [Feuchtwanger L., s. 147] /лютое удовольствие. Такие примеры довольно тривиальны.
Более интересный случай – когда в пределах малого контекста фигура оксюморона встречается дважды:
Selbst Marieclaude gab zu, dass Monsieur Heydebreggs täppische Korrektheit nicht eines gewissen Nilpferd-Charmes entbehre [Feuchtwanger L., s. 238] / Даже Мариклод признавалась, что угловатая тактичность мусье Хайдебрегга не лишена некоторого обаяния бегемота .
Очарование такого примера – в его ироническом звучании, а в плане техники номинации обращает на себя внимание неявная антонимичность сочетающихся элементов.
Антонимы и построенные на ней фигуры речи – приоритетный словесно-выразительный ресурс писателя. Об этом свидетельствует и частотность их присутствия в тексте (во всех типах речи – авторской, внутренней, косвенной и т. д.) и невероятная изобретательность автора в плане выявления и контекстного оформления антонимических отношений. Особенно наглядно это проявляется в примерах, когда антонимические композиции выступают парами, по-разному актуализируя идею тождества противоположностей:
Ein bitterer Erfolg : der Triumph dieses Trautwein ist die Niederlage Erichs [Feuchtwanger L., s. 673] / Горький успех: триумф Траутвайна стал поражением для Ериха .
Для языкового воплощения формулы оксюморона используются две разные схемы: атрибутивная группа, создающая эффект броской асимметрии компонентов, и стройная конструкция простого предложения, отвечающая стандартам пропорциональности. Разнообразие выполняет важную психологическую роль: оно нейтрализует впечатление об избыточном присутствии однородного языкового материала, т.е. следует принципу «насытить, но не надоедать».
Выводы. Антитеза и оксюморон занимают центральное место в импликационном поле концепта антонимии. При мысли о функционировании антонимов в речи эти структуры первыми всплывают в сознании. Система язык-речь работает по принципу субстанциональной аддитивности: то, что есть в языке, есть именно потому, что оно есть в речи; и то, что есть в речи, есть потому, что язык допускает возможность его появления. Антонимия – структурированная абстрактная модель отдельно взятого аспекта речевой практики – опыта репрезентации явлений внешнего мира с использованием мощного когнитивно-психологического потенциала фигуры контраста. Как и любое другое явление действительности, контраст онтологически ориентирован на наличие средств, дающих возможность максимальной самореализации. Этой питательной почвой для него является системно-языковая семантическая противоположность (антонимия).
Источник :
Feuchtwanger, L. Exil. Aufbau. – Verlag Berlin, 1956. – 816 s.