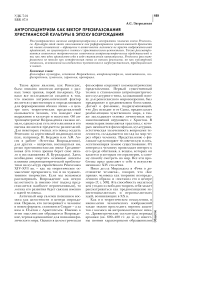Антропоцентризм как вектор преобразования христианской культуры в эпоху возрождения
Автор: Загрядская Алиса Сергеевна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 4 (29), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается явление антропоцентризма в восприятии человека эпохи Ренессанса. Культура этой эпохи описывается как реформирование цивилизованной древности на новых основаниях – обращение к античности является не просто подражательной практикой, но существует в синтезе с христианскими ценностями. Также рассматриваются античные теоретические источники антропоцентрических представлений и то, как эти идеи проявляют себя в ходе становления католицизма. Ренессанс рассматривается не только как историческая эпоха со своими реалиями, но как культурный механизм, основанный на соединении чувственного и сверхчувственного, традиционного и нового.
Философия культуры, эстетика возрождения, антропоцентризм, неоплатонизм, пифагорейство, гуманизм, гармония, пропорция
Короткий адрес: https://sciup.org/14031642
IDR: 14031642 | УДК: 7.01
Текст научной статьи Антропоцентризм как вектор преобразования христианской культуры в эпоху возрождения
Такое яркое явление, как Ренессанс, было описано многими авторами с разных точек зрения, порой полярных. Однако все исследователи сходятся в том, что именно антропологический фактор является существенным и определяющим для формирования облика эпохи – в центре всех теоретических представлений оказывается человек, что находит свое выражение в культуре и искусстве. Об антропоцентризме Возрождения сказано немало, однако сама суть этого явления и его оценка являются предметом разногласий. Для некоторых ученых это повод осудить Ренессанс за агрессивный индивидуализм (как, например, Н. Бердяев или А.Ф. Лосев в работе «Эстетика Возрождения»), для других – напротив, восхищаться им, резко противопоставляя эпохе Средневековья (эта точка зрения берет свое начало в исследованиях Я. Буркхардта). Здесь необходимо очертить основные аспекты влияния антропоцентрической проблематики на культуру европейского Ренессанса XIV–XVI вв. – как на теоретическое осмысление прекрасного, так и на художественное творчество. Если мы возьмемся рассматривать Возрождение как некую целостность (а именно этот подход представляется наиболее перспективным), то логика его развития будет связана именно с идеей человека.
Античный мир увлечен познанием космоса как целостности и центра мироздания. Первым, кто заговаривает о человеке в новом формате, становится Сократ – а за ним и Платон с Аристотелем. Именно к этим мыслителям обращается Возрождение, черпая вдохновение для познания физического мира. Однако в целом греческая философия сохраняет космоцентрические представления. Первый существенный толчок к становлению антропоцентрического культурного типа, заложивший основу для ренессансного мировоззрения, был предпринят в средневековом богословии. Догмат о филиокве, подразумевающий, что Дух исходит и от Сына, предполагает реабилитацию чувственного мира, а также закладывает основы личностных взаимоотношений верующего с Христом. В монастырях появляются трактаты, с которых начинается философская, культурная, эстетическая увлеченность вопросами телесности, складывается взгляд на мир через образ человека. Представление о фи-лиокве одухотворяет человеческую плоть, легитимизируя земное существование. От интереса к человеку происходит интерес к его среде обитания, к вещам, которых он касается и которым он соразмерен, к самому способу смотреть на мир. Все эти проблемы ярко заявляют о себе в искусстве начиная с XIV столетия.
Пико делла Мирандола в «Речи о достоинстве человека», говорит, что «Бог принял человека как творение неопределенного образа» и «поставил его в центре мира» [7, c. 509]. Эта способность оказаться кем угодно и свободно творить себя может рассматриваться как предвосхищение экзистенциалистских и персоналистских идей, возникающих в ХХ в.
Как и в теоретическом осмыслении, в иконологии человеческих изображений также можно проследить перенос акцентов с космоса на антропологическое начало. Древнегреческие скульптуры периода архаики (ок. 600–480 гг. до н. э.) известны своими характерными обращенными
Общество
вовне улыбками – такая улыбка получила название архаической. Таковы, например, «Дискобол» Мирона или множественные статуи куросов. Со временем проявляется интерес к передаче движения, к образу и особенностям характера конкретного человека. Наивысшей точки эти тенденции достигают в римской скульптуре, где появляются уже портретные изображения – не только высокопоставленных людей, но и
Terra Humana
простых граждан, лицо каждого отмечено, однако, переживаниями и эмоциями. Эпоха Средневековья отказывается от этой практики, сосредоточившись на символических значениях. Для средневекового сознания важно не личное подобие, а общий принцип [10, c. 113–115]. В то же время именно в Средние века возникают предпосылки для того, чтобы снова обратиться к портретности. Отходя от византийской живописной традиции, Проторенессанс начинает создавать живые образы и портреты. Так, например, на рубеже XIII и XIV вв. Джотто пишет необыкновенно живые и эмоциональные лица святых на своих фресках, вдохновляя Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.
Личный, светский портрет получает в эпоху Возрождения большое развитие. Живописцы изображают лица и фигуры, стремясь запечатлеть внешность правителей, гуманистов, священнослужителей, меценатов, зажиточных горожан. Можно сказать, что появляется реалистичный портрет как таковой – со стремлением к психологизму, к передаче индивидуальных черт. Во Флоренции создаются монументальные портреты семейства Медичи, в Ферраре в XV в. появляется целая школа придворного портрета, возникает ломбардская школа (XV–XVI вв.). В Италии XV в. великими мастерами создаются портреты, которые волнуют нас до сих пор, – как мальчик Пентуриккьо (предположительно юный Лоренцо Медичи), «Дама с горностаем» или «Мона Лиза» да Винчи.
Женская красота, рассматривавшаяся ранее как источник опасности и искушения, начинает ярче отражаться в культуре. Женщина Возрождения следит за своей прической, пользуется косметикой, а венецианки порой осветляют волосы, придавая им рыжеватый оттенок [3, c. 196]. Обратим внимание, что символика цветов, характерная для Средних веков, все еще остается актуальной. Золотой цвет, отождествлявшийся со светом (благом), характерен для волос красивых женщин на картинах Боттичелли и Тициана. Однако теперь этот символизм существует на новых основаниях, непосредственно связанных с антропологической проблематикой и находящих теоретическое отражение в философии неоплатонизма. В Платоновской Академии Марсилио Фи-чино посвящает много времени изучению работ Платона и неоплатоников, оставляет комментарии и формулирует концепцию прекрасного, в которой продолжаются платонические идеи и, что наиболее принципиально, акценты смещаются на проявления человеческого сознания. Божественное все так же продолжает существовать в теоретических представлениях, однако теперь восприятие красоты происходит при содействии разума человека [3, c. 184]. Прекрасное здесь не является простым сочетанием пропорций, оно несет ту высшую, божественную Красоту, которая наполняет весь мир и в первую очередь человека, который выступает в роли ее зрителя и отражения. А.Ф. Лосев с некоторым оттенком неодобрения отмечает, что Марсилио Фичино стремится прославить человека, а его неоплатонизм стремится к имманентизму, тогда как вся эстетика Фичино носит преимущественно светский характер [5, c. 341]. Однако неоплатонизм гармонично сочетает в себе чувственное и сверхчувственное, опираясь на античные образцы. Джироламо де Микеле указывает на то, что именно в образах Венер отражается символика неоплатонизма: «...истоки этого образа следует искать в переосмысленной неоплатоником Марсилио Фичино классической мифологии: вспомним “близ-нечных Венер” из комментария Фичино на “Пир” Платона, олицетворяющих два рода любви, каждый из которых “благороден и достоин похвалы”« [3, c. 188]. Подобной аллегорией является знаменитая картина Тициана «Любовь небесная и Любовь земная» (1514), где возле саркофага и на фоне живописных пейзажей изображены две золотовласые Венеры; одна символизирует собой любовь и красоту этого мира, а вторая – любовь и красоту небесную.
Вопреки имевшей хождение в советской науке точке зрения антропоцентричный ренессансный мир не отказывается от Бога и не восстает против него – напротив, человек Возрождения стремится ему уподобиться. Получает распространение, в частности, традиция изображений, сделанных с явным уподоблением образу Христа. Таков автопортрет Альбрехта Дюрера 1500 г. («Автопортрет в возрасте двадцати восьми лет» или «Автопортрет в одежде, отделанной мехом»). Мы видим явное композиционное сходство с изобра- жениями Христа. В пользу этой идеи говорит и выражение лица, и его симметрия, и положение рук, и темные тона портрета, и надписи по бокам от головы. Сам портрет анфас – явление редкое для светского портрета того времени. Как правило, портретируемые особы изображались в три четверти, тогда как прямое изображение использовалось в религиозной живописи. Подражание Христу – обычное устремление для христианина в Средние века. Возрождение скрещивает эту интенцию с художественным мастерством – так, чтобы божественный облик наслаивался на персонализированные черты.
Применительно к художественному творчеству Возрождения важной проблематикой, связанной с антропоцентризмом, является не только то, как изображаются люди, но и само отношение к фигуре творца, а также саморефлексия художника.
Средневековый мастер редко известен нам в лицо и по имени. Можно предположить, какие теоретические предпосылки стоят за этим: речь идет и о статусе изобразительного искусства (даже поэзия, стоящая выше, вызывает сомнения), и о том, что идеи не являются порождением разума, – это основано на наследии Платона (архетипы воплощаются в явлениях) и Аристотеля, где речь идет об идеях деяний, порождающей силе. И религиознофилософские, и общественные факторы делают смиренным средневекового мастера [10, c. 233]. Средневековью наравне со стремлением к благочестию и представлением о том, что человек – это в первую очередь бессмертный дух, присущ определенный практицизм. Можно предположить, что концепция utile (пользы) простирается не только на вещи, которым должно, сообразно схоластической традиции, соответствовать своему назначению, но и на людей. Эко приводит пример того, как монахи аббатства Сен-Рюф ночью похитили молодого художника другого монастыря – причем соборный капитул Нотр-Дам-де-Дом в Авиньоне «ревностно оберегал» юношу [10, c. 233–237]. Такое поддерживаемое схоластическим теоретизированием объективирующее отношение связано с идеей того, что художник, мастер – это своего рода ценный предмет, о котором должно заботиться и которым престижно владеть благодаря его выдающимся качествам. Личная воля при этом тонет в идеях блага для общины и монастыря, в самом представлении о художнике как анонимном творце во имя веры – «образ, совершенно отличный от художника Возрождения, кичащегося своей неповторимостью» [10, c. 237]. Произведения искусства, в особенности архитектура, – плод труда артели, сообщества, объединенного общей целью; до нас дошли имена лишь отдельных зодчих. С поэзией дела обстоят чуть по-другому – начиная с XI столетия авторы стремятся заявить себя, настаивая на оригинальности своих мыслей. Но картина в целом остается такой вплоть до XIII в., когда итальянские живописцы начинают работать не в монастырях, а среди аристократии, входя в повседневную жизнь и являя себя как персоналию. Теперь художник начинает индивидуализироваться, его труд не связан с цехом, а круг общения не ограничивается скрипторием, где создаются миниатюры.
Леонардо да Винчи в своих записях делает художника властелином всего воображаемого, который волен менять мир согласно своему произволу. В этом позиционировании утверждается и закрепляется роль человека творческого, который в противовес средневековым анонимным авторам желает поставить подпись под произведением своего искусства [3, c. 178]. Локальность сиюминутного сущего оказывается предметом для пересмотра; временная и топосная фиксация гуманиста имеет мигрирующую природу, поскольку разум и воображение тянутся объять мир. На смену плоскостным изображениям приходят объемные – взгляд зрителя может отныне бродить по пространству картины еще в одном измерении. Исходная точка зрения, местоположение зрителя, оказывается решающей для представления о перспективе, подражательная практика делает изображение все реалистичнее.
Леон Баттиста Альберти в своей эстетической теории, отраженной в его трактатах, опирается, в частности, на эстетику Аристотеля. Принципы, которые он заимствует у греческого мыслителя, это принципы меры и соразмерности, гармония части и целого [9, c. 178]. В трактате «О живописи» (1435) он пишет о роли человека, о его таланте, способности к обучению и разуме – рассуждения в духе идей Эразма Роттердамского. Также в тексте трактата неоднократно встречаются восхваления гармонии и мере, связанные с Аристотелем и его толкованиями.
Аристотелевская физика как принцип обоснования интереса к миру часто вдохновляет гуманистов эпохи Альберти. От антропологии происходит движение в сторону обоснования всей реальности, в которую помещен человек. Весь мир интересен, включая нарушения в гармонии
Общество
Terra Humana
и даже безобразное. «Живой интерес к разнообразию физического мира, который не ограничивался только областью прекрасного и идеального, характерен не только для искусства, но и для эстетической теории Ренессанса» [9, c. 179]. Одним из важнейших факторов моделирования взгляда человека в пространстве картины становится перспектива. Человек Возрождения смотрит не только на самого себя, но и на мир вовне. Таким образом, реабилитируется и весь тварный мир, весь чувственный космос и жанр пейзажа. Пейзаж не был бы возможен без взгляда человека. Антропология влияет на искусство, создавая линейную перспективу, фоны портретов отодвигаются, приобретают глубину и самостоятельную значимость.
Для этой эпохи положения о пропорциональности приобретают огромное значение. Возрождение, обратившись к человеку и его значению, чрезвычайно охотно опирается на античный и средневековый опыт осмысления математических трактовок пропорциональности, в особенности – применительно к человеческому телу. Перспектива в живописи – явление глубоко антропологическое, поскольку конструирует собой взгляд человека. О пропорции говорилось и в Средние века, но теперь речь идет не о схоластической философии пропорциональности – за образец берется античный канон [3, c. 81]. Но, взяв эллинистическую пропорциональность, ренессансное изображение человека заимствует и средневековую идею помещения его в контекст стихий, сторон света и зодиакальных символов. Учение о пропорции открыто заявляет себя, появляясь виде антропометрических таблиц в трактатах Дюрера, витрувианских схем пропорциональности Ч. Чезариано и Леонардо да Винчи.
Филиппо Бруннелески (1377–1446) описывает явление перспективы, что становится важной вехой в развитии искусства. Далее это учение было переосмыслено Альберти. Если у Бруннелески речь идет о техническом методе, то у Альберти и Леонардо да Винчи перспектива становится методом реконструкции индивидуального видения, получает теоретическое осмысление [4, c. 80]. «Между теорией живописи Леонардо да Винчи и Альберти, при всем различии, существует много общего. Прежде всего, это признание приоритета зрения над другими чувствами» [9, c.184]. Зрение, о котором упоминает здесь Шестаков, – важная деталь, подчеркивающая тот факт, что именно человек становит- ся тем, с кем соизмеряются живописные принципы. Согласно Альбрехту Дюреру, «перспектива» означает «взгляд через что-либо», что соответствует применяемому Альберти сравнению перспективы с окном [6, c. 203].
Античным теоретическим источником для возрожденческих представлений о пропорции становится учение Пифагора. В Средние века пифагореизм, безусловно, также имел вес – однако тогда он был связан с аллегоризмом и символикой чисел, в духе схоластических представлений, а в эпоху Возрождения пропорции приобретают реальное приложение [9, c. 46]. Здесь можно назвать работу Пьеро делла Франческа «О пяти правильных телах» или трактат «О божественной пропорции» Луки Пачоли (1510). В труде Пачоли описываются достоинства пропорции как необходимого для соблюдения правила и присутствуют мотивы как пифагореизма, так и неоплатонизма [9, c. 47].
Стремление к математической рационализации, являющееся общепризнанной характеристикой Ренессанса, сливается с интуитивным удовольствием от созерцания гармоничных форм и удачных художественных произведений, запечатлевающих эти формы. Открытие перспективы не становится финальной точкой в ее развитии – с тех пор развитие перспективных теорий только усложняется и улучшается. Порой на полотнах перспектива превращается в своего рода визуальную игру, а ее загадки не удается разгадать до сих пор – как, например, с работой Веласкеса «Менины» («Придворные дамы»), подробно рассмотренной Мишелем Фуко [8].
Плоскостные изображения Средневековья, где лишенные теней фигуры, кажется, излучают собственный свет, сменяются объемными предметами. Средневековое общинное сознание уступает место личностному. В этой связи предмет начинает видеться в новой, специфической манере – его изображение передает не «взгляд вообще» и не ситуацию как таковую, а взгляд на вещи с определенной точки, с определенного места. То есть взгляд, осуществленный личностью. Игра света на поверхностях, тени, источник направленного света, возможность самопозиционирова-ния зрителя относительно изображенных сюжетов – все это характерные особенности возникающего искусства. Возможно, средневековые изображения в таком случае – взгляд на мир глазами Бога, тогда как изображения Ренессанса представляют собой стремление изобразить мир через человеческое видение. А.Ф. Лосев, критически глядя на духовную сторону Возрождения, отмечает, однако, возникающую в это время необходимость «изображать вещи не сами по себе, но такими, как они являются самому человеку» [5, c. 255].
Таким образом, новые представления, возникающие на переходе к эпохе Возрождения, сказываются как в теоретическом осмыслении, так и в конкретных проявлениях художественного творчества, в частности в живописи. Действительность, которая может быть воспринята через органы чувств, становится предметом интереса. Рассмотренное выше учение о перспективе становится частью этого нового видения. Предметы становится возможным созерцать в объемном виде, в их пространственной ориентированности. Реализуется новация, которая обуславливает развитие искусства в его техническом качестве – появляется потребность в новых живописных приемах. Джироламо де Микеле в «Истории красоты» пишет об этом так: «Применение перспективы в живописи действительно означает совпадение изобретения и подражания: действительность воспроизводится верно, но в то же время – с субъективной точки зрения наблюдателя, который в некотором смыс-
Список литературы Антропоцентризм как вектор преобразования христианской культуры в эпоху возрождения
- Акиндинова Т.А. Эстетика эпохи Возрождения: Учение о красоте. История эстетики: учебное пособие/Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. -СПб.: Издательство русской христианской гуманитарной академии, 2011. -815 с.
- Баткин Л.Н. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. -М., 1998. -347 с.
- История красоты/Под ред. У. Эко. -М.: СЛОВО/SLOVO, 2007. -440 с.
- Леонардо да Винчи. Избранные произведения. -М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2010. -480 с.
- Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. -М.: Мысль, 1998. -750 с.
- Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. -СПб.: Азбука-Классика, 2006. -544 с.
- Пико делла Мирандола Джованни. Речь о достоинстве человека. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. -Т. 1. -М., 1964.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. -СПб.: A-cad, 1994. -408 с.
- Шестаков В. Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы. -СПб.: Нестор-История, 2007. -272 с.
- Эко У. Эволюция средневековой эстетики. -СПб.: Азбука-Классика, 2004. -288 с.