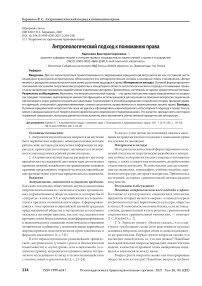Антропологический подход к пониманию права
Автор: Карнович Виктория Сергеевна
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Общетеоретические и отраслевые проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 2 (85), 2021 года.
Бесплатный доступ
Дается характеристика правопонимания в современной юридической антропологии как составной части социально-культурной антропологии, обозначаются его методологические основы и основные этапы становления. Целью являются раскрытие антропологии и выяснение различных подходов к праву
Короткий адрес: https://sciup.org/149132201
IDR: 149132201 | УДК: 340 | DOI: 10.24412/1999-6241-2021-2-234-238
Текст научной статьи Антропологический подход к пониманию права
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Как самостоятельная общественно-научная дисциплина антропология возникла с началом изучения традиционных («примитивных») обществ, многие из которых были «открыты» в начале XX в. европейскими исследователями в пределах «колониального мира». Сформировавшиеся к тому времени в европейской научной традиции представления об обществе и методологии его изучения оказались малопригодными, так как «исследователям противостояли бесписьменные, недифференцированные в экономическом и социально-политическом отношении человеческие сообщества, с малопонятными европейцам мировоззрением, идеологическими представлениями и формами мышления» [1, с. 121].
В этот период произошло размежевание «физической» антропологии (учения о расах и биологической изменчивости) и «культурной», или «социальной» («социокультурной»), антропологии (сравнительного, исторического исследования культур в тесном взаимодействии с лингвистикой и археологией) [2, с. 23–24].
В связи с этим целью исследования явились выяснение антропологических подходов к пониманию права и изучение их эволюции.
Материалы и методы
Методологической основой формулирования положений послужили теоретические разработки и концепции в области антропологического подхода к пониманию права, а также конкретные положения, выработанные отдельными авторами. Использованы диссертационные исследования, монографии, учебные пособия, зарубежная литература, интернет-материалы. Применялись системный, историко-сравнительный методы анализа документов .
Результаты и обсуждение
Понятие антропологического подхода в праве. В отличие от культурологии, социологии и этнологии, предметом которых является «норма», «социокультурная антропология изучает вариативность культуры, общества и этноса. В этом смысле она очень близка, если не тождественна, сравнительной культурологии, сравнительной социологии и сравнительной этнологии», — отмечает Л. С. Клейн [3, с. 7].
Т. Х. Эриксен пишет: «Можно сказать, что существуют три большие семьи (или родственные группы) основных вопросов, которые снова и снова поднимаются антропологами. Первая группа вопросов такова: что заставляет людей делать то, что они делают? Подобные исследовательские вопросы порождают аналитические модели, в качестве отправной точки выбирающие индивидов и взаимосвязи между ними.
Вторая группа вопросов такова: как интегрированы общества или культуры? Подобные вопросы требуют эмпирического материала иного типа и будут в большей мере направлять интерес исследователя на институты и общие смысловые модели, чем на индивидов. Отдельные люди здесь становятся типами, а не независимыми единицами анализа.
Третье: в какой степени варьируется мышление от общества к обществу и много ли похожего в разных культурах? При ответе на этот вопрос придется сосредоточиться на системах знания и их внутренних свойствах» [4, с. 110–111].
Помимо социокультурной антропологии, существует и философская антропология. М. Шелер в начале XX в. подчеркивал необходимость создания философской антропологии как основополагающей науки о сущности человека, которая соединит конкретно-научное, предметное изучение различных сфер человеческого бытия с целостным, философским его постижением [5, с. 4]. По мнению Ю. А. Кимелева, философско-антропологические учения «конституируются стремлением определить специфику природы и существования человека…», «концептуально представить человека в его единстве: как целостное образование; как существо и природно-биологическое, и социальное» [5, с. 4–6]. Правда, как отмечает данный автор, «концепции, решающие философско-антропологическую задачу в ее традиционном понимании, практически не соотносятся эксплицитным образом друг с другом… В частности, не заявляется о преемственности в отношении философской антропологии как отдельного направления» [5, с. 11]. Другие авторы отмечают, что «крайне сложно вычленить собственно антропологическую тему в комплексе философского знания» [6, с. 65], указывают на «содержательную проблематичность» предмета и методологии философской антропологии [7, с. 129].
Правовая проблематика является предметом как социально-культурной, так и философской антропологии.
Как раздел социально-культурной антропологии антропология права (юридическая антропология), по определению Н. Рулана, «имеет своей целью понять правила поведения в различных обществах, заявляя при этом о невозможности изолировать право как таковое, поскольку оно является лишь одним из элементов общей культурной и социальной системы, свойственной любому обществу и различным образом воспринимаемой и реализуемой каждой из подгрупп общества» [8, с. 9].
По мнению Ю. А. Веденеева, «ее предмет — становление и развитие юридических форм социального общения в различных культурно-исторических контекстах их существования и проявления» [9, с. 10].
Традиционно социально-культурная антропология отличается своеобразным методом, опирающимся на непосредственное наблюдение. Н. Рулан отмечает: «Оригинальность антропологического метода заключается в изучении правового опыта во всем его многообразии» [8, с. 230]. Т. Х. Эриксен указывает, что «общая идентичность, скрепляющая дисциплину, несмотря на огромные различия в программах исследований, складывается из последовательного изучения социальной и культурной жизни изнутри, полевого метода, во многом основан- ного на интерпретации, и веры (хотя и непостоянной) в сравнение как источник для теоретического анализа» [4, с. 113].
При этом для нее (как, впрочем, и для иных общественных наук) характерно многообразие методологических подходов (направлений, парадигм), в числе которых принято выделять эволюционизм, диффузионизм, функционализм, структурализм, интеракционизм [3, с. 612; 2, с. 32]. Так, именно антропологи Б. Малиновский и А. Р. Рэдклифф-Браун являются основателями классической версии функционального подхода в социальных науках, основанного на идее общества как саморегули-руемой системы.
Следует отметить, что отдельные современные авторы, именующие свой подход к праву антропологическим, фактически имеют в виду философскую антропологию. Так, по мнению И. Л. Честнова, «„человеческое“ измерение права как явления культуры и составляет предмет социальной (социокультурной) антропологии права» [10, с. 632]. На наш взгляд, широкое определение предмета исследований характерно скорее для философской антропологии.
Антропологическим именует свой подход к правопо-ниманию и В. И. Павлов. Он выступает за «не-субъектное мышление человека-в-праве». Для этого он предлагает «отказаться от концепта „сущность“ как ведущего онтологического и гносеологического образования» [11, с. 335]. По его мнению, «право с антропологической точки зрения осуществляется не в норме, идее или отношении, оно сбывается в реальном, ежедневном опыте правового существования, в точке пересечения человека, нормы права и факта правовой жизни» [11, с. 334–340].
Следует отметить, что «антиэссенциализм» в любом случае является стандартом в современных социальных науках: «…эссенциализма в науке становится все меньше; ученые все реже задаются вопросом, чем „в действительности“ являются демократия или социализм. Существует общее согласие в том, что пока определения в какой-то степени ограничены узусом, они не стремятся ухватить стоящие за ними сущности. Определения являются случайными конвенциями, о которых нужно судить лишь с точки зрения того, в какой мере они помогают нам найти хорошие объяснения интересных явлений» [12, с. 459]. Безусловно, общественные науки могут использовать подход с точки зрения действующего субъекта и структурной точки зрения [13, с. 778]. Очевидно, А. И. Павлов, как и И. Л. Честнов, возражает против последнего. Однако само по себе это не делает их подход антропологическим, скорее, речь идет об антропоцентрическом подходе, близком к философской традиции персонализма.
Как отмечает С. Робертс, «оглядываясь назад, мы наблюдаем беспрерывно сменяющие друг друга существенно разные „антропологии права“» [14, с. 963].
В середине и в конце XIX в. исследователи изучали «примитивное право». Например, Г. Мэйн «целый ряд поныне существующих учреждений старается поставить в связь с первобытными или по крайней мере с очень древними идеями, которыми были проникнуты эти последние» [15, с. 3].
С 1920-х гг. внимание антропологов привлекали небольшие, примитивные общества, обнаруженные в процессе колониальной экспансии. Выяснив, что у многих из них отсутствуют централизованные властные структуры и что-либо похожее на правовую систему, Б. Малиновский пришел к пониманию права как социального контроля в целом [14, с. 966–968]. По его мнению, право должно определяться своей функцией, а не внешними формами проявления. Право — это сила, которая связывает между собой индивидов и группы и позволяет им жить в сообществе, является результатом отношений взаимных обязательств; именно взаимность этих обязательств обеспечивает спайку общества, а не принуждение со стороны центральной власти государства [8, с. 47].
Во второй половине XX в. правовая антропология обратила внимание на процесс и результаты разрешения споров. Как отмечает Н. Рулан, «для большинства авторов именно в случае, когда право подвергается сомнению, лучше всего проявляется то право, в которое вживается индивид и которым он руководствуется. Право, следовательно, более ярко проявляется в процессе урегулирования конфликтов, нежели в нормах, хотя и они играют определенную роль в разрешении споров» [8, с. 47]. Так, К. Ллевеллин и Э. Хобель сформулировали принципы права индейского племени шайеннов на основе рассказов старожилов о процедурах и результатах разрешения конфликтных ситуаций [16, с. 120–122].
При этом большинство антропологов вслед за Б. Малиновским считали необходимым определять право намного шире, чем юристы. Например, Э. Хобель пришел к выводу, что «социальная норма является правовой, если факт небрежения ею или ее нарушения находит регулярное противодействие в виде угрозы применения или фактического применения физической силы индивидуумом или социальной группой, пользующимися общественно признанной привилегией поступать таким образом» [8, с. 45]. Л. Посписил обнаружил, что в исследуемых им обществах каждая подгруппа (а не только общество в целом) имела собственную нормативную систему, соответствующую четырем выделенным им признакам права: 1) нормы устанавливались лидерами — носителями авторитета; 2) они были рассчитаны на многократное применение в сходных ситуациях в будущем; 3) за их нарушение предусматривались санкции; 4) решения по спорам, принятым на основе норм, имели обязательную силу для сторон [17, р. 2–26].
-
Н. Рулан отмечает, что «отождествление права со сводом абстрактных и фиксированных правил, привязанных к основанному на силе репрессивному аппарату, существенно сужает правовое пространство» [8, с. 45]. Он ставит под сомнение и традиционно понимаемую нормативность права, отмечая, что в традиционных обществах право «выражается скорее в процессах, чем в фиксированных нормах» [8, с. 43] и что «нормативный анализ может учитывать лишь часть правовых явлений и только в отдельных обществах» [8, с. 46].
В 1970-х гг. фокус исследований сместился на изучение той роли, которую право сыграло в распространении колониализма. Колониальные администрации были вынуждены допустить действие обычного или религиозного права; в результате во многих местах сформировалась двойная правовая система с разнообразными сложными смешениями, комбинациями и взаимными влияниями [18, с. 147–156]. Данную ситуацию, когда две или более правовых системы сосуществуют в одном социальном поле, исследователи назвали правовым плюрализмом и почти сразу же начали применять к любым обществам, утверждая, что все они более или менее плюралистичны в правовом отношении.
В последнее время ряд западных авторов считает более уместным говорить о «нормативном или регулятивном плюрализме», поскольку «рассмотрение права в таком ключе запутывает, противоречит здравому смыслу и мешает более тонкому анализу множества различных форм социального регулирования» [18, с. 165]. Тем не менее большинство антропологов согласно с тем, что «существует много разновидностей неофициального права, которые регулируют процессы, целиком или частично находящиеся вне контроля государства» [8, с. 240].
Так, в литературе часто подчеркивается плюралистич-ность современной международной правовой системы, где сосуществуют «функционально раздельные своды правовых норм, связанные с различными сферами регулирования и не скоординированные друг с другом, иногда пересекающиеся или конфликтующие», имеющие мировой или транснациональный охват (сфера коммерческих отношений, Интернет, спортивные организации) [18, с. 158]. Наиболее часто упоминается lex mercatoria — свод правил, состоящих из обычаев международного торгового оборота, рекомендаций и типовых контрактов, разработанных рядом международных организаций, которые фактически императивно применяются при регулировании ряда аспектов международной торговли.
Исследовали отмечают, что «сегодня фактически существуют две параллельные реальности, в которых формируются разные каноны правопонимания и правоприменения. Это: 1) национальный суд и применимое право государства (на основе коллизионных норм); 2) международный коммерческий арбитраж и lex mercatoria (с расширительным толкованием термина „нормы права“ и принцип автономии воли арбитров)» [19, с. 16].
Формируются межправительственные сети, обладающие регулирующими функциями, такие как Форум финансовой стабильности, состоящий из трех межправительственных организаций: Базельского комитета по банковскому надзору, Международной организации по ценным бумагам и биржами Международной ассоциации страховых надзоров [18, с. 159]. Их акты представляют собой рекомендации, обобщение наилучшей практики и не предполагают обязательной имплементации государствами. Вместе с тем, если государство не реализует указанные рекомендации в законодательстве и правоприменительной практике, другие страны вводят ограничения на деятельность финансовых организаций, происходящих из этого государства, трансграничное перемещение капитала; ухудшаются различные страновые рейтинги и т. д.
Выводы
Можно отметить, что в рамках юридической антропологии пока не удалось сформировать единообразного и бесспорного подхода к праву. Возможно, причина этого в том, что, как отмечает С. Робертс, до 1960-х гг. антропологией права занимались в основном антропологи, а юристы проявляли к ней сравнительно небольшой интерес, а в настоящее время ситуация полностью поменялась, и этой областью занимаются почти исключительно правоведы [14, с. 978]. Это, очевидно, ведет к отказу от традиционной для социально-культурной антропологии методологии исследования.
В целом нельзя не согласиться, что антропологическая перспектива в праве выступает одновременно и новым направлением научных исследований в составе теоретического правоведения, и новым подходом к изучению государственно-правовых явлений [9, с. 978].
Перспективы. Необходимо продолжить исследование социально-культурной, юридической антропологии права, категории права, его функций, отношений с другими явлениями, такими как нравственность, а также влияние на нее других дисциплин, поскольку в современных условиях существует немалый интерес к тому, что обычаи и традиции становятся неотъемлемой частью правовой системы государства.
Список литературы Антропологический подход к пониманию права
- Бочаров В. В. Антропологическая наука и общество // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3, № 1. С. 134–148.
- Белик А. А. Культурная (социальная) антропология : учебное пособие. М., 2009. 613 с.
- Клейн Л. С. История антропологических учений. СПб., 2014. 744 с.
- 4 Эриксен Т. Х. Что такое антропология? : учебное пособие. М., 2014. 238 с.
- Кимелев Ю. А. Западная философская антропология на рубеже XX–XXI веков. Обзор. М., 2007. 76 с.
- Гуревич П. С. Философская антропология : учебное пособие. 2-е изд. М., 2010. 607 с.
- Мархинин В. В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт философии науки. М., 2013. 295 с.
- Рулан Н. Юридическая антропология : учебник для вузов. М., 1999. 310 с.
- Веденеев Ю. А. Антропология права: между социокультурными традициями и нововведениями // Lex Russica. 2016. № 9. С. 9–26.
- Честнов И. Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. 650 с.
- Павлов В. И. Антропологическая концепция права // Постклассическая онтология права / под общ. ред. И. Л. Честнова. М., 2016. 688 с.
- Эльстер Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об основах социальных наук. М., 2011. 472 с.
- Скирбекк Г., Гилье H. История философии : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2000. 800 с.
- Roberts S. Law and Dispute Processes. Companion Encyclopedia of Anthropology / ed. by T. Ingold. London; N. Y., 1994. 1127 р.
- Мэйн Г. С. Древний закон и обычай: Исследования по истории древнего права. Изд. 2-е. М., 2011. 312 с.
- Адыгезалова Г. Э. Социологическая юриспруденция США в XX в.: формирование доктрины, развитие и совершенствование правопорядка : дис. … д-ра. юрид. наук. Краснодар, 2017. 323 с.
- Pospisil L. Legal Levels and Multiplicity of Legal Systems in Human Societies. The Journal of Conflict Resolution. 1967. Vol. 11. № 1. Pр. 2–26.
- Таманаха Б. З. Понимание правового плюрализма: от прошлого к настоящему, от локального к глобальному // Право и правоприменение в зеркале социальных наук : хрестоматия современных текстов. М., 2014. С. 147–156.
- Мажорина М. В. Lex mercatoria: средневековый миф или феномен глобализации? // Право. Журнал высшей школы экономики. 2017. № 1. С. 16–24