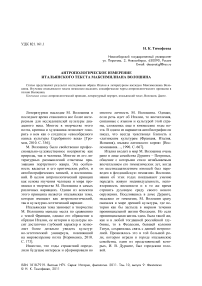Антропологическое измерение итальянского текста Максимилиана Волошина
Автор: Тимофеева Наталья Кирилловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение и фольклор
Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет результат исследования образа Италии в литературном наследии Максимилиана Волошина. Изучение итальянского текста позволило выделить специфические черты антропологического принципа в поэзии Волошина.
Антропологический принцип, литературный портрет, итальянский текст, волошин, данте
Короткий адрес: https://sciup.org/14737613
IDR: 14737613 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Антропологическое измерение итальянского текста Максимилиана Волошина
Литературное наследие М. Волошина в последнее время становится все более интересным для исследователей культуры двадцатого века. Многое в творчестве этого поэта, критика и художника позволяет говорить о нем как о создателе «своеобразного оазиса культуры Серебряного века» [Громов, 2010. С. 356].
М. Волошину было свойственно профессионально-художественное восприятие как природы, так и человека. Многие из его литературных размышлений отмечены признаками портретного жанра. Эта особенность касается и его критических работ, и автобиографических записей, и воспоминаний. В целом антропологический принцип как основа изучения человека и мира проявился в творчестве М. Волошина в самых различных вариациях. Одним из аспектов этого принципа является итальянская тема, которая вмещает как антропологический, так и культурно-эстетический вариант.
Итальянская тема занимает в творчестве М. Волошина меньше места по сравнению с темой Франции, однако его обращение к образам Италии, ее истории и культуры носит достаточно глубокий характер и позволяет более детально увидеть культурно-эстетический универсум, повлиявший на мировоззрение поэта [Корниенко, 2010. С. 173].
Известно, что годы странствий определили будущие интересы и сформировали во многом личность М. Волошина. Однако, если речь идет об Италии, то впечатления, связанные с языком и культурой этой страны, сложились еще в юношеские годы поэта. В одном из вариантов автобиографии он писал, что всегда чувствовал близость к «латинским культурам (Франция, Италия, Испания), языкам латинского корня» [Воспоминания…, 1990. С. 667].
Италия входит в мир М. Волошина очень рано в лице семейства Дуранте – Петровых, общение с которыми стало незабываемым впечатлением его гимназических лет, когда он шестнадцатилетним юношей был переведен в феодосийскую гимназию. Воспоминания об этих годах показывают умение передать живую индивидуальность, неповторимость внешности и в то же время отразить духовную среду своего нового окружения. Поселившись в доме Дуранте, недалеко от гимназии, М. Волошин сразу оказался в мире древней культуры, где история как бы застыла в мирном течении провинциальной жизни Феодосии. Но если провинциальная жизнь здесь была такой же, как и в любой тогдашней российской глубинке, то в Феодосии, бывшей колонии Генуи, сохранялась связь с давней метрополией. Проявлялось это в той большой роли, которую играли в городе итальянские семейства, один из представителей которых, И. В. Дуранте, был городским головой.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 9: Филология © Н. К. Тимофеева, 2011
О своих впечатлениях от Феодосии и от семейства Дуранте М. Волошин писал следующее: «Семья настолько любопытная и сыгравшая настолько большую и направляющую роль в моей жизни и развитии в гимназические годы и после, что я должен остановиться на ней подробнее» [Волошин, 1999а. С. 291].
Во внешнем воплощении Италия виделась М. Волошину в самом доме Дуранте, в котором все говорило о южных странах: «Думаю сейчас, что этот стиль юга Италии для меня имел самое серьезное значение. Вообще в Феодосии я на каждом шагу сталкивался с разными пережитками староитальянского прошлого, и Феодосия как бы помнила о том, что Генуя ее метрополия. В семье Дуранте особенно живо хранились эти традиции» [Там же. С. 293].
Образы членов семейства Дуранте-Петровых в воспоминаниях поэта складываются в галерею семейных портретов эпохи Возрождения. Верхний регистр этой галереи – старшее поколение, которое представляла бабушка Мария Леонардовна, ей принадлежал дом. «Бабушка была полуитальянка (из Дуранте). Спокойная и очень красивая, благодушно-величественная, исполненная простой и неговорливой житейской мудрости» [Волошин, 1999б. С. 218].
Прямую отсылку к итальянскому Возрождению, которую содержит отчество Марии Леонардовны, усиливает живописный портрет полковника Михаила Митрофановича Петрова. В памяти поэта он выглядел так: «Статный, высокий старик с огромной седой бородой до пояса, в черном берете и такой же бархатной блузе, он был художником, и драматическим артистом, и музыкантом. При случае он умел написать стихотворение и драматическую пьесу, он был изобретателем и гипнотезером, и спиритом. И во всем этом не было ни шарлатанства, ни дурного вкуса. Это был провинциальный Леонардо да Винчи, который по своеобразному порядку русской жизни всю свою жизнь провел в Феодосии, служа полковником пограничной стражи. Его знал весь коренной Крым и любил его как “дедушку Петрова”» [Там же. С. 219].
Дополнением к этой галерее портретов семейства Дуранте-Петровых является образ внучки Марии Леонардовны, учительницы Александровского училища, Александры Михайловны Петровой. «Я помню ее облик в молодости», – вспоминал М. Волошин в статье «Киммерийская сивилла», посвященной памяти А. М. Петровой, – «серьезная, очень красивая девушка с низко опущенной головой, со строгими чертами лица типа Афины Паллады» [Там же. С. 220]. Влияние этой встречи оказалось очень значительным в судьбе поэта – c этого времени он обрел верного «спутника во всевозможных путях и перепутьях моих духовных исканий» [Волошин, 1999а. С. 294]. Добрая память об Александре Михайловне сохранялась в семье Волошиных и после ее смерти, о чем свидетельствуют воспоминания супруги М. Волошина, которая отмечает, что Александра Михайловна была «очень интересный, страстный, ищущий человек. В жизни Макса она была ему радостным и верным другом. Она понимала и интересовалась его стихами» [Воспоминания…, 1990. С. 464].
Итальянская тема особенно интенсивно владела воображением поэта в юношеские годы, южная Италия, Неаполь в его поэтическом восприятии представлялись ему наиболее идеальной средой существования [Корниенко, 2010. С. 173]. Но постепенно в его творчестве все яснее проявлялось ощущение того, что Восточный Крым, Киммерия, как называл его поэт, – это место, где суровый, аскетический пейзаж, вздыбленные скалы и застывшая лава Карадага таят в себе следы пересечения и взаимодействия многих древних культур и гораздо больше соответствуют настрою его души [Громов, 2010. С. 357].
Однако специфику местной природы поэт выражает посредством сравнения с итальянской культурой: «В крымской весне очень мало внешнего и показного. Но тем сильнее те весенние токи, которыми она проникнута. Тем больше опьянения в этих серых камнях, в этих тонких и скромных веточках и цветочках – точно скромное весеннее зарождение цветочного орнамента на серых камнях и стенах высокого средневековья, еще не знающего пышного и показного тонкого орнамента Ренессанса» [Волошин, 1999а. С. 296].
Репрезентация Италии живет в поэзии М. Волошина в ряде литературных ассоциаций, когда он использует свой богатый арсенал знаний в области духовной культуры. Эта его особенность проявилась в форме обращения к религиозным ценностям западного и восточного христианства. Италь- янская тема занимает здесь немаловажное место. В стихотворении «Святой Франциск» Волошину оказалась близка проповедь духовной радости в восприятии мира, любовь к природе и животным, ощущение братства со всем сущим, т. е. те чувства, которыми наполнено стихотворение – молитва св. Франциска Ассизского под названием «К брату Солнцу»:
Ходит по полям босой монашек, Созывает птиц, рукою машет, <…> Говорит, поет и причитает:
Брат мой, Солнце! Старшее из тварей, Ты восходишь в славе и пожаре, Ликом схоже с обликом Христовым, Одеваешь землю пламенным покровом. Брат мой, Месяц, и сестрички, звезды, В небе Бог развесил вас, как грозды, Братец ветер, ты гоняешь тучи, Подметаешь небо, вольный и могучий.
Ты, водица, милая сестрица,
Сотворил тебя Господь прекрасной, Чистой, ясной, драгоценной, Работящей и смиренной.
Брат огонь, ты освещаешь ночи, Ты прекрасен, весел, яр и красен. Матушка земля, ты нас питаешь И для нас цветами расцветаешь
[Волошин, 2003. С. 361]
В своей лекции о св. Франциске, основная идея которой содержится в сохранившихся тезисах, М. Волошин высказал мысль о том, что «св. Франциск – ось европейской истории. Источник вдохновения Джотто, Данта» (см. комментарии к стихотворению «Святой Франциск») [Там же. С. 556].
Обращение к поэзии Данте, особенно к его «Божественной комедии» свидетельствует еще об одном очень важном проявлении итальянской темы, когда М. Волошин использует дантовский текст, чтобы выразить свои собственные душевные переживания. Таковы его стихи из цикла «Selva oscu-ra» [Там же. С. 129–155]. В стихотворении цикла «Amori amara sacrum» (под названием «In mezza di cammin») он использует строки первого стиха 1-й песни «Ада» из «Божественной комедии» Данте: «Блуждая в юности извилистой дорогой, / Я в темный Дан-тов лес вступил в пути своем, / И дух мой радостный охвачен был тревогой… » [Там же. С. 74]. Строки темный Дантов лес… свидетельствуют о том, что М. Волошин использует метафорический образ Данте не для стилизации, а для того чтобы лучше выразить свое личное, индивидуальное переживание. Так и название цикла «Selva os-cura», взятое Волошиным из «Божественной комедии» Данте, подразумевает мотив блуждания и потери пути, что соответствовало внутреннему состоянию поэта, ср. у Данте: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smaritta [Dante,1980. Inferno. Canto I. P. 5].
Связь с итальянской древностью неизбежно проявляется в стремлении узнать больше об истории Рима, но для М. Волошина это еще одна возможность синтезировать свои знания в интересах собственного отношения к миру посредством диалога с древней культурой. На этой основе им созданы многие ассоциативные образы, которые касались современной жизни и событий, волновавших всех его друзей и соотечественников. Подобная аналогия ярко предстает в стихотворении «Преосуществление», посвященном другу, художнику К. Ф. Богаевскому [Волошин, 2003. С. 264]:
В глухую ночь шестого века.
Когда был мир и Рим простерт
Перед лицом Германских орд
И Гот теснил и грабил Грека,
И грудь земли и мрамор плит
Гудели топотом копыт,
И лишь монах, писавший «Акты Остготских королей», следил С высот заснеженной Соракты, Как на равнине средь могил Бродил огонь и клубы дыма, На желтых Тибрских берегах В те дни все населенье Рима Тотила приказал изгнать.
И сорок дней бы Рим безлюден.
Лишь зверь бродил средь улиц. Чуден Был Вечный Град: ни огнь сглодать, Ни варвар стены разобрать
Его чертогов не успели.
Он был велик и пуст, и дик, Как первозданный материк.
В молчаньи цепенели,
Столпившись, как безумный бред, Его камней нагроможденья –
Все вековые отложенья
Завоеваний и побед…
И в этот безысходный час, Когда последний свет погас На дне молчанья и забвенья И древний Рим исчез во мгле, Орлиная разжалась лапа
И выпал мир. И принял Папа
Державу и престол воздвиг.
И новый Рим процвел – велик
И необъятен как стихия...
О замысле стихотворения М. Волошин писал 4 января 1918 г.: «Теперь я читаю перед сном Грегоровиуса “История города Рима в средние века” <…>. Вычитал там один факт, до сих пор мне неизвестный и глубоко меня поразивший: в истории Рима был такой момент (он длился 40 дней), когда во всем Риме не было ни одного живого человека – только дикие звери. Он еще не был тогда разрушен. Это было в 6-м веке. Затем он снова стал населяться. Такие черты очень говорят сердцу в наши дни». Проводя аналогию с современностью, М. Волошин так комментировал прочитанное в своей лекции: «Эти сорок дней безлюдья и запустения отделяют императорский Рим от Рима папского, который постепенно вырастает из развалин и вновь подымается до мирового величия, на этот раз духовного. Избрание Патриарха в октябрьские дни в Москве, когда окончательно были смыты и унесены последние остатки царской власти, невольно приводило сознание к этой исторической аналогии» [Волошин, 2003. С. 528].
Обращение к римской древности в столь тяжелый и сложный для русской истории и культуры период неудивительно, если иметь в виду, что для поэта и художника М. Волошина, верного своим идеалам, было свойственно очень важное качество: находясь в своей эпохе, вместе с тем осознавать ее как эпизод круговорота мировой истории, что позволяло ему, не изменяя себе, проникнуться правотой другого человека.
Здесь можно возвратиться снова к вопросу о связи того образа Данте, каким он представлялся в традиции романтического мифа о священности поэтического творчества. Никем не понятый, но всех понимающий – таков облик поэта, завещанный Данте:
Твой голос будет горек и докучен
При первой пробе, но ведь станут правы Им те, кто ныне неблагополучен.
(«Рай») [Данте, 1967. С. 130–132]
Такими словами в «Божественной комедии» Данте его предок Каччагвида предсказывает путь поэта в его земной жизни [По-луяхтова, 2005. С. 129].
В стихотворении М. Волошина «Доблесть поэта» (1924–1925) явственно прослеживается тема призвания поэта, для которого смыслом жизни становится исполнение высшего предназначенья:
В смутах усобиц и войн постигать целокупность.
Быть не частью, всем: не с одной стороны, а с обеих.
Зритель захвачен игрой – ты не актер и не зритель,
Ты соучастник судьбы, раскрывающей замысел драмы.
[Волошин, 1992. С. 27]
Для М. Волошина тема особого призвания – сформировавшееся кредо поэта, который, как и Данте, «один среди враждебных ратей» («Пролог», 1916). И хотя время, в котором жил средневековый поэт, очень далеко от эпохи революции и социальных проблем, осознание своего пути в этом мире и для М. Волошина, как и для Данте, неотделимо от страдания:
Свет страданья, алый свет вечерний
Пронизал рукой узорный храм.
Ах, как жалят жала алых терний
Бледный лоб, приникший к алтарям!
(«Стигматы», 1907) [Там же. С. 84]
М. Волошину было свойственно размышлять в своих стихах об истории, творящейся на глазах, умение через многообразие лиц и коллизий обрисовать «причинноследственный контекст всеобщего бытия» [Быков, 1992. С. 24].
Итальянская тема в творчестве М. Волошина не сразу привлекает внимание, но именно увлечение историей и природой Италии в юношеский период позволило ему впоследствии более точно определить свое отношение к суровой природе Восточного Крыма. Путешествуя по европейским странам, вглядываясь в мир внешний, М. Волошин формировал свое мировоззрение, открывал ту «стратегию земного существования», которую он талантливо высказал в своей поэзии. Древность и духовная насыщенность пустынной и опаленной солнцем земли, сохранившей античные памятники Феодосии и Керчи, – это картина, которую стремился отразить в своих стихах поэт. Открытие Киммерии как особого мифологизированного поэтического пространства, существующего в прошлом и настоящем, стало еще одним его вкладом в русскую культуру [Сергеева, 2006. С. 102].
Ландшафт коктебельских окрестностей пробуждал в нем талант поэта и художника:
Старинным золотом и желчью напитал Вечерний свет холмы. Зардели красны, буры
Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры,
В огне кустарники и воды, как металл.
А груды валунов и глыбы голых скал
В размытых впадинах загадочны и хмуры.
В крылатых сумерках – намеки и фигуры… Вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал, Вот холм сомнительный, подобный вздутым ребрам,
Чей согнутый хребет пророс, как шерстью, чобром?
Кто этих мест жилец: чудовище? Титан?
Здесь душно в тесноте… А там – простор, свобода,
Там дышит тяжело усталый Океан,
И веет запахом гниющих трав и йода
(1907) [Волошин, 1992. С. 96]
Благодаря таланту М. Волошина современный читатель его стихов, статей и воспоминаний яснее ощущает особый облик Киммерии, а также и то, что этот край был пограничной зоной, северо-восточным углом античной цивилизации и конечной полосой средиземноморской [Громов, 2010. С. 357]. Сложность и многогранность творчества поэта дает возможность расширять спектр исследований его творчества, раскрывать все новые грани таланта поэта, художника, критика, интересы которого, как пишет один из его современников, «были выше интересов текущего дня, мелочи и мелкие чувства как бы сгорали в огне его души» [Воспоминания…, 1990. С. 86].
ANTHROPOLOGICAL DIMENSION OF THE VOLOSHIN’S ITALIAN TEXT