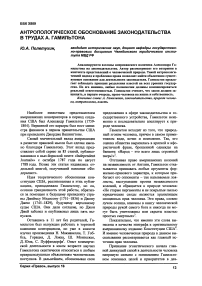Антропологическое обоснование законодательства в трудах А. Гамильтона
Автор: Полетухин Юрий Алексеевич
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 28 (128), 2008 года.
Бесплатный доступ
Анализируются взгляды американского политика Александра Гамильтона на законодательство. Автор рассматривает его воззрения в контексте представлений о человеческой природе. Такой антропологический подход к проблемам права позволяет найти объективно существующее основание для деятельности законодателя. Гамильтон предлагает соблюдать принцип разделения властей на всех уровнях государства. По его мнению, любые полномочия должны компенсироваться реальной ответственностью. Гамильтон считает, что закон должен защищать, в первую очередь, право человека на жизнь и собственность
А. гамильтон, законодательство, природа человека, антропология, власть
Короткий адрес: https://sciup.org/147149329
IDR: 147149329
Текст научной статьи Антропологическое обоснование законодательства в трудах А. Гамильтона
Наиболее известным представителем американских консерваторов в период создания США был Александр Гамильтон (17591804). Вершиной его карьеры был пост министра финансов в первом правительстве США при президенте Джордже Вашингтоне.
Самый значительный вклад американцев в развитие правовой мысли был сделан именно благодаря Гамильтону. Этот вклад представляет собой серию из 85 статей, публиковавшихся в нью-йоркской газете «Independent Journal»» с октября 1787 года по август 1788 года. Позже эти статьи издавались отдельной книгой, получившей название «Федералист».
Идея теоретического обоснования конституции США, реализованная в этих публикациях, принадлежала Гамильтону, но он, осознав грандиозность этой работы, обратился за помощью к будущему президенту страны Джеймсу Мэдисону (1751-1836) и Джону Джею (1745-1829), будущему верховному судье США. Они дали согласие, но Джон Джей заболел и опубликовал лишь пять выпусков.
Оставшись в 11 лет без родителей, Гамильтон был вынужден работать в торговой кампании конторщиком, но уже в юности изучал произведения Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Горация, Д. Локка, Ш. Монтескье, Д. Юма, С. Пуффендорфа1. Опыт коммерческой деятельности в юном возрасте научил Гамильтона скептически относиться к любым прекраснодушным объяснениям человеческих поступков. В дальнейшем, обосновывая свои предложения в сфере законодательства и государственного устройства, Гамильтон неизменно и последовательно апеллирует к природе человека.
Гамильтон исходит из того, что природный эгоизм человека, причем в самом примитивном виде, вечен и неизменен. Так, его оценка общества выразилась в краткой и афористичной фразе, брошенной однажды на банкете: «Народ - это всего лишь огромный зверь!»2.
Отстаивая право американских колоний на независимость от Англии, Гамильтон отказывается признавать любые аргументы формально-правового характера, к которым прибегают его оппоненты - так называемые лоялисты, выступавшие против независимости колоний, и обращается к природе человека: «Не старые пергаменты и не покрытые пылью юридические своды являются хранилищем священных прав человека. Эти права, словно лучом солнца, вписаны в книгу человеческой природы рукой самого бога и никогда не могут быть уничтожены или скрыты властью простых смертных»3.
Показательно, что именно эти слова вынесены в качестве эпиграфа к оригинальному американскому изданию Конституции США4. И именно человеческая природа в данном высказывании рассматривается как главный источник прав человека.
Признание эгоистического начала главной движущей силой в деятельности человека напрямую связано с пониманием Гамильтоном основных целей и приоритетов в дея- тельности государства. Так, отвечая на призывы лоялистов, сторонников Англии, руководствоваться интересами не только колоний, но и метрополии в войне американских колоний и Англии, он утверждает: «Самосохранение - вот главный закон человеческой природы. Когда на карту поставлены наши жизни и собственность, было глупо и неестественно воздерживаться от мер, способных сохранить их, только по той причине, что они могут причинить ущерб другим»5.
Таким образом, интересы другого государства предлагается принимать во внимание лишь постольку, поскольку они не противоречат интересам собственных граждан. Приоритеты в деятельности властных институтов обозначены Гамильтоном прямо и недвусмысленно - «жизнь и собственность» человека.
Обращает на себя внимание тот факт, что Гамильтон даже в юном возрасте был далек от надежд на совершенствование человека. Так, в 1775 году он пишет своему единомышленнику Джону Джею, что в большинстве случаев людьми движут не разум и знания, а страсти: «Должное средство против этого трудно найти даже среди более развитых людей и почти невозможно среди тех, кто не за-„ 6
нимается интеллектуальной деятельностью» .
Однако не следует считать, что Гамильтон полностью не доверяет мнению общества. Не полагаясь на добродетель, он изыскивает оптимальные варианты сочетания прав и обязанностей. В 1777 году, после победоносного завершения войны с Англией, он высказывается за то, чтобы законодательная, исполнительная и судебная власти существовали бы не в виде коллективных органов, а возглавлялись бы людьми, выбираемыми «реально и не номинально»7. Таким образом, проявляется характерная для Гамильтона уверенность в том, что только персонифицированная власть может быть ответственной.
Один из важнейших постулатов политических и правовых воззрений Гамильтона -неизбежность и естественность имущественного неравенства. «Имущественное неравенство составляет огромное и важнейшее различие в обществе. Оно так же вечно, как и свобода»8. По логике Гамильтона, такое положение вещей является неотвратимым следствием природного различия человеческих способностей.
Признавая за каждым человеком право на эгоистическую мотивацию, Гамильтон отка зывается считать поступки основной массы людей всегда продуманными и рациональными. «Говорят, что глас народа - глас божий, но как бы часто это ни повторяли и ни принимали на веру, в действительности это не так. Народ буен и изменчив, он редко судит или решает правильно»9. Позже мыслитель постоянно утверждает, что в конечном счете, решения, принятые народом, часто негативно сказываются на всех сферах его жизни. Таким образом, средний человек часто страдает от собственной недальновидности.
Статьи американских мыслителей, прежде всего Гамильтона, опубликованные в «Федералисте», опираются не столько на абстрактные принципы права или логические умозаключения, сколько на врожденные свойства, имманентно присущие природе человека.
Так, выступая против планов конфедеративного устройства будущих США, за создание федерации бывших колоний, Гамильтон обосновывает свою позицию тем, что независимые друг от друга государственные образования неизбежно вступят в жестокую конкуренцию друг с другом. Причиной этого называется «то обстоятельство, что люди амбициозны, мстительны и алчны»10. Неискоренимая враждебность людей по отношению друг к Другу У Гамильтона неизбежно переносится и на межгосударственный уровень. Причинами ее являются «жажда власти, желание первенствовать и господствовать - ревность к власти или жажда равенства и безопасности»11.
Для авторов «Федералиста» весьма характерно проведение аналогий между межгосударственными и человеческими отношениями. Например, в одной из совместных статей Гамильтона и Мэдисона проводится такое недвусмысленное сравнение: «Народы относятся друг к другу, как человек к человеку, с той печальной разницей, быть может, что питают к другому меньше добрых чувств, чем человек, и меньше сдерживают себя, когда предоставляется случай извлечь из чужой глупости выгоду»12.
Взаимную вражду государств Гамильтон считает неизбежной, поэтому сторонников идеи вечного мира называет «мечтателями и фантазерами»13. По мнению мыслителя, изменение формы правления с монархии на республику здесь ничего принципиально не меняет. Он полагает, что агрессивность присуща республикам так же, как и монархиям, поскольку в любом случае эти государства «управляются людьми»14.
Проблема социального взаимодействия не сводится к преобладанию эгоистических мотивов. Гамильтон обращает внимание на то, что и люди и нации часто действуют вопреки своему объективному благу.
Наличие самих искренних благих намерений у «тех, кому вверено ведение дел общества» никак не гарантирует реального обеспечения интересов общества. «Совершенно справедливо, что люди обычно стремятся к ОБЩЕСТВЕННОМУ БЛАГУ [выделено Гамильтоном]. Они часто при этом ошибаются»15. Эта одна из главных посылок в рассуждениях Гамильтона.
Обращаясь к сторонникам идеи вечного мира между государствами, Гамильтон задает вопрос: «Если в этом и состоит их истинный интерес, следуют ли они ему на деле? Разве не получалось, напротив, так, что мимолетные страсти и непосредственные интересы ставили под активный и строгий контроль поведение людей, а не общие или отдаленные соображения политики, пользы и справедливости?»16
По всей вероятности, Гамильтон считал этот вопрос риторическим и проясняющим суть рассматриваемой проблемы. По логике Гамильтона, прослеживаемой в «Федералисте», именно недальновидность среднего человека часто приводит к тому, что своими действиями он наносит ущерб собственным же интересам. Это означает, что предоставленная людям полная свобода может принести им вред. В силу этого обстоятельства свобода у Гамильтона является не абсолютной самоцелью, а лишь способом обеспечить права, прежде всего на жизнь и собственность, именно в такой последовательности. Следует отметить, что подобное отношение к проблеме свободы является характерным не только для Гамильтона, но и в целом для представителей консервативного направления правовой мысли.
Гамильтон считает, что «чувство ответственности прямо пропорционально ее неделимости» . То есть чем меньше людей, наделенных властью, принимает решение, тем больше вероятность, что оно будет продуманным и дальновидным.
Ставка на персонализированные широкие полномочия объясняется тем, что Гамильтона отнюдь не пугает перспектива масштабных злоупотреблений властью и даже установления тирании в США. Для него само собой разумеющимся является право людей на само-
Антропологическое обоснование законодательства в трудах А. Гамильтона защиту с оружием в руках не только от уголовных преступников, но и от зарвавшейся государственной власти.
«Если представители народа предадут своих избирателей, тогда им не останется никаких средств, кроме осуществления первоначального плана самозащиты, которое имеет первостепенное значение у всех позитивных форм правления»18. Однако у Гамильтона отсутствует подробная аргументация в пользу сохранения права на самозащиту. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод, что он считал такое право совершенно естественным и не видел необходимости в его специальном обосновании.
А. Гамильтон, различая демократию «прямую» и «представительную», выступает за применение в США последней19. Такая позиция связана с недоверием к способности народа непосредственно принимать сложнейшие политические решения.
Рассуждая о структуре органов власти, авторы «Федералиста» также апеллировали к человеческой природе. Так, в совместной статье Гамильтона и Мэдисона говорится, что свойственная народу поспешность решений практически может проявиться в законодательном собрании, особенно в однопалатном. В свою очередь это обстоятельство приведет к негативным последствиям для самого народа, но будет осознано им лишь в отдаленной перспективе. «Народ, разжигаемый случайными страстями или желанием обрести неположенные блага, или введенный в заблуждение искусной ложью заинтересованных лиц, может добиваться мер, которые впоследствии сам же будет с такой же страстной го- 20 товностью порицать или проклинать» .
Решение данной проблемы Гамильтон и Мэдисон видят в создании в самом законодательном собрании дополнительного органа, призванного сдерживать принятие поспешных и нерациональных решений. Но этот орган не должен избираться непосредственно народом. В качестве одного из позитивных примеров реализации этого принципа американские мыслители приводят британскую палату лордов .
При этом Гамильтон является не только сторонником принципа разделения властей, но и предлагает «РАСШИРЕНИЕ ОРБИТЫ [выделено Гамильтоном], в пределах которой будут действовать такие системы»22. Это предложение исходит из того, что по возмож- ности люди используют данные им властные полномочия в собственных целях.
В совместной статье Гамильтон и Мэдисон утверждают, что частые выборы, как это ни парадоксально на первый взгляд, снижают ответственность представителей власти перед населением. Обращается внимание на то, что «народ не может оценить, какова доля влияния годичной ассамблеи на события, исход которых является результатом взаимодействия многих и осуществляющихся в течение нескольких лет мер»23. Иначе говоря, частая смена власти затрудняет понимание народом реального влияния конкретных лиц на ход событий в стране.
Гамильтон указывает, что требования права будут учитываться лишь в том случае, если законы не декларативно, но на самом деле способствуют обеспечению основных потребностей человека. «Нации практически не обращают внимания на аксиомы, по сути своей противоречащие нуждам общества»24, т.е. здравый смысл важнее закона.
Кроме того, в совместной статье «Федералиста» Гамильтон и Мэдисон указывают на то, что постоянные изменения, вносимые в законодательство, пусть даже с наилучшими намерениями, неизбежно оказывают отрицательное воздействие на общество. Проблема в том, что частые изменения законодательства увеличивают разрыв между общепринятыми стереотипами поведения и требованиями закона. «Закон, согласно определению этого слова, должен быть правилом поведения, но как может быть правилом то, что мало кому известно и еще менее постоянно»25.
Иначе говоря, темпы трансформации законодательства определяются не только формально защищаемыми при этом интересами общества, но интеллектуальной способностью большей части общества адаптироваться к изменяющимся требованиям права.
Таким образом, перманентный и часто непреодолимый разрыв между укладом жизни, повседневными стереотипами поведения, с одной стороны, и требованиями писаного права, с другой, порождает не только конфликт различных социальных норм, но и негативное отношение в обществе к законодательной политике в целом и к тем государственным институтам, которые ее реализуют.
Если вопреки заявлениям законодателей, требования закона реально расходятся с интересами среднего человека, то он неизбежно убедится в этом на собственном опыте, что в свою очередь и определит его отношение к праву. По всей видимости, именно абсолютизация законов как самодостаточного явления безотносительно к их содержанию и защищаемым интересам является главной причиной так называемого «правового нигилизма», столь характерного для населения России.
Гамильтон последовательно проводит идею о том, что масштабы противозаконных действий определяют и масштабы ответных действий со стороны как частного лица, так и государства: «Используемые средства должны соответствовать серьезности бесчинств»26. Таким образом, Гамильтон, понимая всю неизбежность преступных посягательств на права людей, не ограничивает масштабы вынужденного применения ответных средств.
Гамильтон последователен в своих рассуждениях, когда предлагает совершенствовать не человека, а систему власти и законодательства. Консерватизм Гамильтона не отрицает возможности прогресса человека и общества в целом, но этот прогресс, по его мнению, не может идти быстрыми темпами. Соответственно не должны быть скоропалительными и изменения в сфере государственного устройства и законодательства.
Для современной России подобные соображения представляются более чем актуальными. Прежде всего необходимо исходить из того, что законодательство должно строиться в расчете на существующую в обществе систему ценностей, менталитет, традиции, обычаи. Универсальные нормы права, в равной степени эффективные в разных странах, - это либо миф, либо в лучшем случае лишь весьма отдаленная цель, достижимая только в том случае, если в различия между этими странами по вышеперечисленным параметрам будут постепенно нивелироваться. Вместе с тем существуют и некоторые общие закономерности построения государственных институтов.
В частности, необходимо воздерживаться от абсолютизации роли коллегиальных органов власти и соответственно от максимального расширения их полномочий. Тем не менее предпочтение персонифицированным формам организации власти, которое проходит красной нитью через рассуждения Гамильтона, предполагает и адекватную ответственность конкретного лица, наделенного властными полномочиями.
Для коллегиальных представительных органов власти предпочтительнее иметь двухпалатную структуру, поскольку две палаты в
Антропологическое обоснование законодательства в трудах А. Гамильтона какой-то мере уравновешивают друг друга. Разные способы формирования таких палат увеличивают шансы на то, что принимаемые решения будут рациональными.
-
1 Печатное В.О. Гамильтон и Джефферсон. - М., 1984. -С. 13.
-
2 Покровский Н. Джефферсон вчера, сегодня и вчера // Шелдон Г. Политическая философия Томаса Джефферсона. -М., 1996.-С. 11.
-
3 The Papers of Alexander Hamilton: Vol. 1-25. New York; London, 1961 - 1977, Vol. 1., p. 122. Цит. по: Согрин B.B. Идейные течения в американской революции XVIII века.-М„ 1980.-С. 102.
-
4 The Constitution of the United States.Washington D.C.Thirteenth edition, 1991.
-
5 Печатнов В.О. Указ. соч. - С. 18.
-
6 Hamilton A. Writings. - New York, 2001. - P. 44.
-
7 Ibid. Р. 46-47.
-
8 Печатнов В.О. Указ. соч. - С. 66.
-
9 Там же.
-
10 Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. - М., 2000. - С. 52.
-
11 Там же.
-
12 Там же.-С. 413.
-
13 Там же. - С. 55.
-
14 Там же.
-
15 Там же.-С. 467-468.
-
16 Там же. - С. 55.
-
17 Там же. - С. 483.
-
18 Там же. - С. 191.
-
19 The Papers of Alexander Hamilton, Vol. 1, p. 255; Vol. 5.
-
p. 150. Цит. по: Согрин B.B. Указ. соч. - С. 260.
-
20 Федералист. - С. 17.
-
21 Там же.-С. 421.
-
22 Там же. - С. 73.
-
23 Там же. - С. 416.
-
24 Там же. - С. 176.
-
25 Там же. -С. 413.
-
26 Там же. - С. 189.
Список литературы Антропологическое обоснование законодательства в трудах А. Гамильтона
- Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон. -М., 1984. -С. 13.
- Покровский Н. Джефферсон вчера, сегодня и вчера//Шелдон Г. Политическая философия Томаса Джефферсона.-М., 1996.-С. 11.
- The Papers of Alexander Hamilton: Vol. 1-25. New York; London, 1961 -1977, Vol. 1., p. 122.
- Согрин В.В. Идейные течения в американской революции XVIII века. -М., 1980. -С. 102.
- The Constitution of the United States.Washington
- D.C.Thirteenth edition, 1991.
- Печатнов В.О. Указ. соч. -С. 18.
- Hamilton A. Writings. -New York, 2001. -P. 44.
- Ibid. P. 46-47.
- Печатнов В.О. Указ. соч. -С. 66.
- Там же.
- Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. -М., 2000. -С. 52.
- Там же.
- Там же.-С. 413.
- Там же.-С. 55.
- Там же.
- Там же. -С. 467-468.
- Там же.-С. 55.
- Там же.-С. 483.
- Там же.-С. 191.
- The Papers of Alexander Hamilton, Vol. 1, p. 255; Vol. 5. p. 150.
- Согрин В.В. Указ. соч. -С. 260.
- Федералист. -С. 17.
- Там же.-С. 421.
- Там же. -С. 73.
- Там же.-С. 416.
- Там же.-С. 176.
- Там же. -С. 413.
- Там же.-С. 189.