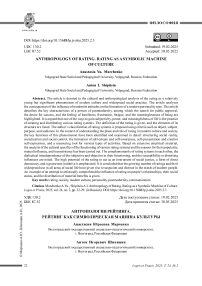Антропология рейтинга. Рейтинг как символическая машина культуры
Автор: Марченко А.Ю., Шипицин А.И.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена культурно-антропологическому анализу рейтинга как относительно молодого, но значимого феномена современной культуры и распространенной социальной практики. Осуществлен анализ последствий влияния модернистских установок на формирование современного типа личности. Дается описание ключевых характеристик человека эпохи постмодерна, среди которых особо выделяются поиск общественного одобрения, стремление к успеху, чувство одиночества, разочарования, усталости, бессмысленности бытия. Утверждается, что одним из способов обретения субъектности, власти, осмысленности жизни является практика создания и распространения различного рода рейтинговых систем. Дается определение рейтинга, перечислены элементы его структуры. Предложена авторская классификация рейтинговых систем с использованием таких критериев, как объект, субъект, цель, аудитория. В контексте осмысления места и роли рейтинга в современной культуре и обществе выявлены и подробно рассмотрены ключевые функции данного феномена: структурирование социальной реальности, социализация и социальный контроль, формирование самооценки и самосознания, самопрезентация и творческое самовыражение, измерительный инструмент различных видов деятельности. На обширном эмпирическом материале осуществлен анализ культурной специфики функционирования различных рейтинговых систем, причин их популярности, взаимного влияния и противоречивости. Отмечена комплементарность рейтинговых систем друг другу, диалектическая взаимообусловленность субъективного и объективного в их функционировании, подверженность искажающим влияниям. Подчеркивается высокий потенциал рейтинга, позволяющий ему выступать в качестве инструмента социальной справедливости, формы прямой демократии и низовой инициативы. Делается вывод о том, что рост числа рейтингов и их массовое применение во всех областях социальной жизни породило в сознании современного человека установку на подозрительность и недоверие. Приводится пример попытки художественного осмысления влияния рейтинга на взаимоотношения людей, их социальный статус, распределение материальных благ.
Рейтинг, общество, современная культура, личность, постмодерн, коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/149149467
IDR: 149149467 | УДК: 130.2 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2025.2.3
Текст научной статьи Антропология рейтинга. Рейтинг как символическая машина культуры
DOI:
Цитирование. Марченко А. Ю., Шипицин А. И. Антропология рейтинга. Рейтинг как символическая машина культуры // Logos et Praxis. – 2025. – Т. 24, № 2. – С. 22–29. – DOI:
Каждой культурной эпохе соответствует свой специфический тип личности. В свою очередь, знаковые достижения эпохи создаются личностями определенного типа. Человек эпохи постмодерна сложен для описания, но при этом определенные его характеристики проявляют себя со всей очевидностью и простотой. С одной стороны, современный человек с самого детства непрерывно занят поисками общественного одобрения, встраиванием в различного рода социальные иерархии и структуры коммуникации. Важнейшей формой социального взаимодействия становится процесс получения грамот, положительных оценок, эффективных контрактов, лайков, просмотров и подписок в соцсетях. С другой стороны, наш современник все больше тяготится бессмысленностью идеологии консюмеризма и пресыщенностью жизни исключительно «здесь и сейчас», стремится к ощущению подлинности и осмысленности собственного существования (хотя не всегда это стремление артикулировано и осознано), к поиску проблесков Бытия среди бесконечной повседневности быта.
Эпоха модерна с присущими ей прогрессизмом, сциентизмом и оптимистическим культуртрегерством пообещала своим наследникам многое: победу над смертельными болезнями и проникновение в тайны микро- и макромиров, межличностную гармонию и утопические проекты справедливого общественного мироустройства. Со всей очевидностью неоправдавшиеся ожидания не только породили эсхатологический алармизм, ресенти-мент и постапокалиптические настроения, но и сформировали человека невротического, фрустрированного, разочарованного в насущном и тоскующего по несбывшемуся. Можно согласиться с исследователями, утверждающими, что в конечном итоге «постмодернизм в целом и постмодернистская концепция человека в частности представляют собой, в первую очередь, реакцию на закономерный и неизбежный кризис новоевропейского социокультурного проекта» [Пигалев 2017, 9].
Важным способом преодоления этой ущербности и бессилия, дающего иллюзию власти, приобщающего субъекта ранжирования к фантомному, но все же структурированию реальности, является, на наш взгляд, участие в создании и распространении различного рода рейтингов. Одним из популярных эпите- тов для описания современного общества является «общество оценивания» или «общество аудита» [Dahler-Larsen 2012; Power 1997; Strathern 2000]. Субъект в подобном обществе считает себя вправе раздавать разного рода оценки и ставить «звезды» другим участникам социальных интеракций. Более того, зачастую он принуждается к этому тем или иным способом («пожалуйста, оцените качество оказанной вам услуги по данной шкале!»). Благодаря этой процедуре homo evaluator обретает долю субъектности, укореняя себя в Бытии.
Что же такое рейтинг? В строгом наукометрическом смысле рейтинг (rating – «оцени этот объект по шкале от 1 до 10 баллов») необходимо отличать от рэнкинга (ranking – «вот 10 объектов, нужно расположить их от лучшего к худшему»). Тем не менее эти два процесса воспринимаются как элементы единого целого: общим является наличие в их структуре таких элементов, как объект и субъект ранжирования (коллективный или индивидуальный), его исходная установка, цели и набор критериев оценки, а также целевая аудитория, воспринимающая результат ранжирования и изменяющая под его воздействием свои планы и социальные стратегии. Потому для упрощения можно использовать только понятие «рейтинг», чаще употребляемое в отечественной культуре.
Говоря о разнообразии рейтингов, можно выделить несколько критериев их классификации. По объекту ранжирования рейтингованию может подлежать продукция человека, результаты деятельности (научные журналы, ценные бумаги), личности как носители определенных значимых статусов (политики, миллионеры, скандальные звезды, врачи в вашем районе), социальные институции (страны по уровню коррупции, регионы по уровню социального самочувствия, политические партии, рестораны, отели, высшие учебные заведения и т. п.).
В зависимости от субъекта ранжирования , рейтинги могут быть персональные (10 любимых книг известного бизнесмена или политика) и институционализированные (шортлист престижной книжной премии, номинанты на награду по мнению киноакадемии).
В зависимости от преследуемых целей рейтинги можно в рабочем порядке классифицировать на развлекательные, ресурсные
(распределение премий и надбавок, стипендиального фонда, финансирование вузов, принятие кадровых решений), просветительские. Также нельзя не упомянуть в данной связи о так называемых антирейтингах – ранжированных списках людей, предметов, явлений и т. п. с отрицательными качествами, основанных на результатах опросов общественного мнения и мнении экспертов. Антирейтинги зачастую являются инструментом «черного пиара» и выступают в качестве инструмента конкурентной борьбы.
Наконец, в зависимости от целевой аудитории рейтинги могут быть общедоступными и направленными на массовую аудиторию или сфокусированными на конкретной группе людей с определенными общими характеристиками. Например, суперпопулярный у киноманов рейтинг IMDb – Internet Movie Database IMDb, в переводе с английского «Интернет-база кинофильмов». В этой базе на начало 2025 г. собрана информация о более чем 7 млн фильмов и сериалов, а также более чем о 12 млн персоналий, связанных с кино и телевидением, – актерах, режиссерах, сценаристах и т. д. Принципиальной особенностью базы является возможность редактирования информации и выставления оценок любым зарегистрированным пользователем. Кроме того, рейтинги могут быть профессиональными (таковы, например, кредитные рейтинги, присваиваемые организациям специализированными рейтинговыми агентствами).
В рамках осмысления места и роли рейтинга в современной культуре попробуем выделить основные функции рейтинга как социокультурного явления. Во-первых, рейтинг через ранжирование ограниченных ресурсов структурирует социальную реальность. Как писал А.И. Пигалев, «культура как целостность предполагает согласованность как времени, так и пространства, наличие устойчивого хронотопа» [Пигалев 2001, 29]. Современный человек ощущает непрерывное ускорение исторического времени, протейность и симу-лятивность реальности, а следовательно, кризис традиционной идентичности. Невозможность классических способов «укоренения» в бытии влечет необходимость создания искусственной матрицы структурирования реальности через ее упрощение и оценивание.
Если определить культуру как «развернутое во времени и пространстве самоосуще-ствление человека» [Шипулина, Шипулин 2016], можно сказать, что постоянное усложнение объективной реальности, с каждым десятилетием все менее поддающейся если не контролю, то хотя бы осознанию, вызывает потребность в упрощении способов осмысления этой реальности. Редукция многообразия к однонаправленному перечню позволяет создать иллюзию человекоразмерности и подвластности индивиду того или иного сегмента бытия. Задавая ту или иную систему критериев оценки, он выстраивает реальность определенным образом, исходя из своих представлений и насущных потребностей.
Современная культура вообще избегает сложности. Рейтинг выстраивает оцениваемые явления в одном направлении, сводя все разнообразие измерений, достоинств и недостатков к простой последовательности. Один из исследователей пишет: «Всякий рейтинг – это попытка оценить сложное явление одной цифрой. Соблазн максимально упростить ситуацию, чтобы получить простые ответы на простые вопросы: “так все плохо или хорошо?” и “а как у соседа?”» [Одинцов 2021, 36].
Вообще парадоксальность человека эпохи цифрового постмодерна проявляется в сочетании в нем, с одной стороны, подросткового максимализма, когда по каждому поводу необходимо иметь и непременно высказывать свое особое мнение, инфантильного стремления раздать оценки и навесить ярлыки, ощущая таким образом собственную значимость и власть через количество поставленных «звезд» и лайков («оцениваю, следовательно, существую»). С другой стороны, очевидна и своего рода усталость от классического понимания жизненного успеха, разочарование в идеологии консюмеризма и бескомпромиссного «достигаторства». Примером в данном случае может служить педагогический тренд на безоценочность. Современные продвинутые родители при желании похвалить ребенка отказываются от оценочных патерналистских высказываний («Молодец! Умница!»), стараясь способствовать формированию внутренней, а не только внешней мотивации. Первые отметки в школе в соответствии с современной практикой в РФ принято ставить не ранее третьей четверти второго класса.
Во-вторых, социальная функция рейтинга связана с потребностью в социализации и социальном контроле: освоение и исполнение общественных норм, участие в воспроизводстве статусно-ролевой системы объективируется и становится измеримым в ходе получения определенных баллов, оценок или «звездочек». Пассажир или водитель такси, студент в ходе занятия, продавец маркетплейса ведут себя тем или иным образом во многом ради получения определенной оценки от партнера по коммуникации. Наиболее развитые институциональные формы функция социального контроля рейтинга приобрела в Китае, где активно разрабатывается и внедряется политика системы социального кредитования. Представляя собой широкую нормативную базу, предназначенную для представления отчетов о «благонадежности» частных лиц, корпораций и государственных структур по всему Китаю, система социального кредитования направлена на повышение уровня доверия (не только финансового) в китайском обществе. Подробный анализ того, как устроена и работает данная система и насколько оправданы обвинения в цифровой диктатуре и тотальном контроле над жизнью человека, представлен в статье «Китайская система социального кредитования: что это такое и как она функционирует?» [Donnelly web].
В-третьих, рейтинги играют немаловажную роль в формировании самооценки и самосознания. Наряду с другими параметрами, рейтинги задают систему координат для оценивания себя как успешного или не очень, успевающего или отстающего. Студент-отличник или высокорейтинговое агентство недвижимости зачастую позиционируют себя именно таким образом.
В-четвертых, рейтинги можно назвать одной из значимых форм саморепрезентации и творческого самовыражения, проявлением прямой демократии. При всей декларируемой демократизации различных сфер жизни, наш среднестатистический современник в реальности все меньше способен влиять на глобальные мировые тренды, процессы, происходящие в мире, собственном городе, а зачастую и в собственной семье. Участие в сис- темах (взаимного или нет) оценивания позволяет индивиду выразить свое недовольство или, наоборот, поощрить партнера по коммуникации. «Пять звезд», поставленные пассажиром таксисту, а покупателем продавцу или парикмахеру, сегодня вполне заменяют традиционные чаевые, поскольку являются важнейшим фактором формирования репутации и позитивной узнаваемости.
В-пятых, всевозможные рейтинги, индексы и оценки являются важнейшим измерительным инструментом различных видов деятельности и социальных процессов. Современный тип капитализма с его ориентацией на менеджериальную эффективность и оптимальность диктует необходимость непрерывного оценивания ситуации с помощью разнообразных методик и подходов, сочетающих количественные и качественные, объективные и субъективные показатели. При этом используемые в управлении социальными процессами инструменты оценивания и сравнения претендуют на свою универсальность и объективность, поэтому активно внедряются в различные сферы деятельности – от бизнеса и производства до науки и искусства. Например, сегодня сложно представить российский вуз, который бы не стремился занять более высокое место в том или ином рейтинге университетов (мировом, национальном, профессиональном) и не внедрил в работу ученых и преподавателей те или иные показатели эффективности, как бы эта система оценивания не называлась – KPI (key performance indicator– «ключевые показатели эффективности») или «эффективный контракт». Преобразуя большие объемы информации в списки, схемы и таблицы, рейтинги помогают принимать адекватные ситуации управленческие решения, распределять ограниченные ресурсы, формировать положительный имидж, повышать конкурентоспособность организации.
Однако в погоне за экономической эффективностью рейтинги зачастую используются в качестве инструмента измерения успеха там, где их быть не должно, на что справедливо указывает М.В. Юрасова: «Требованием сегодняшнего дня являются простота, понятность и объективность оценки. Фактически встает вопрос о сведении любой сложной оценки к совокупности простых. Абсурдность такой постановки очевидна как с точки зрения здравого смысла, так и с возвышенной философской точки зрения. Понятно, что не существует простой величины или совокупности простых величин для оценки работы врача или учителя точно так же, как и государственного управленца. Но есть требование общества, и ему как-то нужно соответствовать» [Юрасова 2017, 140].
Переходя от перечисления функций рейтинга к интерпретации его культурной специфики следует отметить, что при всей видимой несвязанности различных видов рейтинга они оказываются зачастую комплементарны друг другу. Персон, упоминающихся в рейтинге миллиардеров, легче встретить в пятизвездочных ресторанах и отелях, а не в придорожных кафе или бюджетных хостелах. Книги и фильмы, разрекламированные блоггером-миллионником, с большей вероятностью приобретут статус бестселлеров и войдут, в свою очередь, в список номинантов престижной международной премии.
Рейтинги часто не только связаны между собой, но и взаимны. Яркий кейс – параллельное оценивание друг другом водителя и пассажира такси. У всех, кто хотя бы иногда пользуется услугами сервисов такси, есть тот или иной рейтинг, зависящий от того, как вы себя вели во время поездок. В конечном итоге рейтинг выступает в качестве инструмента социальной справедливости. К условно хорошему пассажиру такси приедет быстрее, и с большей долей вероятности машина будет более высокого класса и с не курящим в салоне водителем. Студент, исправно посещавший академические занятия, с большей долей вероятности будет получать стипендию. Продавец маркетплейса, предлагающий качественные товары и, следовательно, обладающий высоким рейтингом, скорее достигнет коммерческой рентабельности.
Рейтинг – постмодернистское, секулярное воплощение идеи социальной справедливости, проявление прямой демократии. Если официальная статистика может быть сфальсифицирована и не всегда заслуживает доверия, то народный рейтинг (если допустить его реальное существование) как проявление низовой инициативы выражает правдивое отношение людей к оцениваемому объекту, являясь инст- рументом справедливого распределения социальных благ и элементом института репутации.
Безусловно, все знают цену рейтингам. Эта цена зачастую весьма невысока. Согласно популярному закону Кэмпбелла, «чем более какой-либо количественный социальный индикатор используется для принятия решений, тем больше он подвержен искажающим влияниям, извращая и нарушая социальные процессы, отслеживать которые он предназначен» [Campbell 1979, 85]. Организации, являющиеся объектами регулярного проводимого рейтингования, прикладывают все возможные усилия, вплоть до уголовно наказуемых, чтобы «подкрутить» те или иные показатели и таким образом поднять свою позицию в рейтинге, имея целью не столько объективно улучшить сервис или качество производимых товаров и услуг, сколько повысить шансы успешно выглядеть в общем списке. Но при этом даже делая скидку на эту симулятивность и потенциальную непрозрачность критериев и процедур ранжирования, мы в них участвуем, распространяем их и множим со все увеличивающейся скоростью. Вряд ли можно лучше описать этот парадокс, чем обратившись к сфере академического рейтинга. Студент-отличник, претендующий на все возможные виды поощрения, часто будет иметь свой высокий рейтинговый статус за счет усидчивости, трудолюбия и высокой посещаемости, а не за счет выдающегося интеллекта и способностей. В то же время его более талантливый и продвинутый в интеллектуальном отношении однокурсник может оказаться внизу рейтинговой таблицы из-за неидеальной посещаемости, природной лени или коммуникативной некомпетентности. При этом, как ни парадоксально, преподаватель при всем желании не может игнорировать необходимость их ранжировать именно таким образом, понимая всю условность и необъективность подобной рейтинговой оценки.
Кроме того, в соответствии с идеями классиков диалектики, рейтинги демонстрируют лабораторный образец ситуации перетекания субъективного в объективное и наоборот. Каждый отдельный посетитель ресторана вполне может быть несправедлив и пристрастен в его оценке, но если этих оценивших посетителей несколько сотен или тысяч и большая их часть низко оценивает заведение, указывая на одни и те же проблемы, велика вероятность того, что очередной посетитель, не поверивший подобной оценке, также будет разочарован и солидарен с предшествующими критиками.
Перетекание объективного в субъективное также можно проиллюстрировать на общеизвестном примере зачетки, на которую сначала работает студент, а затем она «отвечает ему взаимностью». Преподаватель, видя высокий рейтинг студента, начинает относиться к нему как к заведомо одаренному, статья в высокорейтинговом рецензируемом журнале пользуется презумпцией доверия читателя, а спектакль в театре с более дорогими билетами, которые необходимо покупать заранее, обещает потенциальному зрителя большее удовольствие, чем спектакль студенческого театра миниатюр.
Переизбыток рейтингов в современной коммуникации можно проанализировать и в свете кризиса социального доверия. Происходит своеобразный аутсорсинг последнего: на смену ситуации, когда один из субъектов взаимодействия обладает репутацией (например, продавец товара или услуги), а второй (потенциальный покупатель) – в большей или меньшей степени доверяет этой репутации, приходит репутация как то, чем «владеет» вообще третья сторона (курирующая платформа): «IT-технологии и платформы сделали из репутации как чего-то неуловимого, но доступного и разделяемого всеми членами той или иной формальной или неформальной группы исчисляемую и прозрачную метрику, доступную любому пользователю» [Картавцев, Космарский 2021, 10].
Налицо никем не артикулированная, но интуитивно бесспорная презумпция недоверия. Если некто претендует на некоторый социальный успех – он априори обязан озаботиться наличием рейтинга. Не иметь рейтинга то же самое, что иметь низкий рейтинг. Никем не оцененные в «звездах» и отзывах гостиница, кафе, продавец на маркетплейсе вызывают подозрение как не заслуживающие доверия. Фильм, который никто не оценил на IMDb или Кинопоиске, вызывает обоснованное подозрение потенциального зрителя. Подозрительность как парадигма современного мышления проявляется в данном случае весьма ярко.
Такое социокультурное явление, как экспансия рейтингов в различные сферы жизни человека и общества представляет профессиональный интерес не только для ученых – философов, культурологов, социологов, – но и находит отражение в художественной культуре. Так, один из эпизодов популярного научно-фантастического сериала «Черное зеркало» под названием «Нырок» (режиссер Джо Райт, 2016) посвящен осмыслению последствий массового использования системы социального рейтинга на основе взаимных оценок пользователей социальных сетей. В несколько гиперболизированной, но при этом достоверной и эстетически выразительной форме показано влияние рейтинга на человеческие взаимоотношения, распределение материальных благ, социальный статус и место человека в обществе.
Сегодня, в условиях кризиса метанарративов, атомизации общества, социальной аномии, «сокращенного пребывания в настоящем» [Люббе 2016] рейтинг являет собой не просто прикладной инструмент управления социальными процессами, а символическую машину культуры, функционирование которой не исчерпывается утилитарными операциями оценки и сравнения товаров или услуг. Отличаясь многообразием форм, рейтинг играет значительно более важную, но в то же время неоднозначную роль в жизни человека и общества. Он имплицитно выполняет функции упорядочивания мира и структурирования социальной реальности посредством их упрощения; играет важную роль в социализации, социальном контроле и формировании самооценки индивида; является формой презентации и самовыражения; выступает инструментом социальной справедливости и прямой демократии; наделяет современного человека субъектностью, а его бытие – хоть каким-то смыслом.