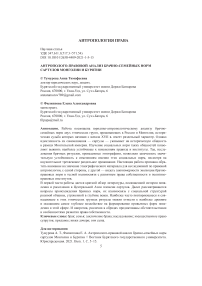Антрополого-правовой анализ брачно-семейных норм сартулов Монголии и Бурятии
Автор: Тумурова Анна Тимофеевна, Филиппова Елена Александровна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence
Рубрика: Антропология права
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена юридико-антропологическому анализу брачно-семейных норм двух этнических групп, проживающих в России и Монголии, историческая судьба которых начиная с начала XVII в. имеет раздельный характер. Однако идентичность их самоназвания - сартулы - указывает на историческую общность в рамках Монгольской империи. Изучение социальных норм таких общностей позволяют выявить наиболее устойчивые к изменениям правила и институты. Так, исследования брачных ритуалов, проведенные этнографами, позволили запечатлеть значительную устойчивость к изменениям именно этих социальных норм, несмотря на внушительное трехвековое раздельное проживание. Настоящая работа призвана обратить внимание на значение этнографического материала для исследований по правовой антропологии, с одной стороны, с другой - видеть закономерности эволюции брачно-правовых норм в тесной взаимосвязи с развитием права собственности и политико-правовых институтов.В первой части работы дается краткий обзор литературы, посвященной истории появления и расселения в Центральной Азии племени сартулов. Далее рассматриваются вопросы происхождения брачных норм, их взаимосвязь с социальной структурой родовой общины, утраченной в глубине веков. Наиболее часто повторяющиеся и совпадающие в этих этнических группах ритуалы можно отнести к наиболее древним и оказавшим самое глубокое воздействие на формирование привычных форм поведения в этой сфере. И напротив, различия в обрядах продиктованы обстоятельствами и особенностями развития права собственности.
Брак, семья, заключение брака, наследование, имущественное право супругов, приданое, инжи дочери, онч сына
Короткий адрес: https://sciup.org/148317918
IDR: 148317918 | УДК: 347.611.1(517.3+571.54) | DOI: 10.18101/2658-4409-2021-1-5-15
Текст научной статьи Антрополого-правовой анализ брачно-семейных норм сартулов Монголии и Бурятии
Тумурова А. Т., Филиппова Е. А. Антрополого-правовой анализ брачно-семейных норм сартулов Монголии и Бурятии // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2021. Вып. 1. С. 5–15.
О появлении сартулов на территории нынешней Бурятии есть несколько известных преданий, опубликованных и комментируемых краеведами и историками, которые свидетельствуют о том, что это немногочисленное племя является осколком огромной империи, небольшой группой семей, занесенных буйными ветрами междоусобных войн (Бусагту-ханы буцалгаанаар, сайд ханы самаргаа-наар), бушевавших в XVI в. на просторах монгольских степей.
Большинство сартулов некогда обитали в Монголии, начиная с ее западной части до самого востока страны, откуда часть сартулов перекочевала на левобережье реки Селенги, дальше перешли русло реки Джиды и расселились в ее долине по верховьям малых рек [8].
Согласно родовым преданиям, бурятские сартулы из Халхи переселились в предгорья Хамар-Дабана в начале XVI в. Их окончательное переселение датируется 1700 г. По данным монгольских источников, западные сартулы переселились примерно в 1630-х гг. Это зафиксировано в некоторых исторических хрониках монголов. А также в книге (1868) селенгинского тайши Юмдэлига Ломбоцыренова написано: сартулы, руководимые человеком по имени Хулэг, подданные монгольского Цэцэн-хана, расселились по верховьям малых рек в долине реки Джиды [9].
В работе Самбу Галданова говорится, что в начале XVII в. несколько семей, всего примерно 40–50 человек, ушли из Халха-Монголии в северные пределы. Имеются данные о том, что в 1690 г. около 1200 человек пересекли границу.
В «Бичихан бичиг» записано, что сартулы, руководимые неким Хулэгом, пришли из Ара-Монголии. Сын Хулэга Олто был тайшой, его сын Дулхинзэ вместе с казаком Клочихиным из Желтуры (которому он спас жизнь) по поручению Саввы Рагузинского в 1728 г. устанавливал границу к западу от Кяхты по горе Шаблин до владений тайши Тун хуны, за что ему был пожалован титул тайши сартулов. Сын Дулхинзы — Аюша, сын Дэлгэр, сын Юмцэн, сын Галсан, все они были тайшами [5].
После переселения сартулов прошло не менее 13–14 поколений. Все они в эти годы жили бок о бок с бурятами, эвенками, ойратами и другими малыми народами.
Главным их занятием стала охрана границ, в связи с чем они были возведены в казаческое сословие, с правом ношения оружия, освобождены от уплаты налогов, а также добились других послаблений.
Службу мужчины несли с 20 до 45 лет. Из целого ряда отличившихся казаков назначались сотники и атаманы, среди них Тудэб Менжиков, Дашажав Бадмаев, Бата Айсуев, Жамбал, Бальжа.
Исследователь истории Средней Азии Г. Е. Грум-Гржимайло писал, что во времена завоеваний Чингисхана на западной окраине Монгольской империи проживали «сартагоол», или «сартоул», которые были вывезены в Туркестан, но уже в ХIII в. часть из них перекочевала на восток Монголии, на земли Цэцэн-хана [6]. В настоящее время они в основном проживают в Завхан аймаке Монголии.
Сартулы как историческая общность попадали в поле зрения таких исследователей, как Доржи Банзаров [1], Базар Барадин [2], а также Б. О. Долгих [7].
В записках Юмдэлига Ломбоцыренова утверждается, что сартулы живут в Бухаре в Узбекистане.
В «Сокровенном сказании монголов» говорится, что богатуры из сартулов и их командиры показали себя удачливыми и умелыми воинами. Однако они попали под влияние табангутских богов, потому были повторно завоеваны Чингисханом и приведены под силу «Монх Тэнгэри» [10].
В. В. Бартольд отмечал, что в начале ХIII в. сартулы, занимавшие Восточный Туркестан и города Семиречья, не стали воевать с Чингисханом, добровольно вошли и сохранили свои прекрасные города от разграбления. По приказу Чингисхана в городах были посажены его военачальники. Из города Ургэнчи прибыли сартулы Ялабач и Масхуд — сын с отцом из рода Хоромши, и рассказали Чингисхану о культуре своего города. Сын Хоромши Масхуд вместе с монгольскими военачальниками правили городами Бухара, Сэмисгяб, Ургэнчи, Удан, Хисгар, Уриан, Гасандарил, затем привез отца в Бежин и правил там. Ялабач сын Масхуда, имеющий богатый опыт управления городами, помогал править китайцами, рядом с монгольскими правителями служили сартулы.
Чингисхан в садах Семиречья сартулов провел долгие семь лет (1218–1225), где баторы сартулов командовали его подразделениями, даже правовые дела доверял сартулам [3].
История сартулов имела множество рукописных вариантов, но все они были уничтожены в огне 30-х гг. ХХ в. Те, кто читал эти предания, говорили, что сартулы ранее жили у подножия Сарата уул и назывались сартулами в память о горе, которая светилась «лунным светом в темноте».
Сартулы ранее были многочисленным народом и свободно кочевали на степных просторах, начиная с запада Монголии до самого Востока, а также с юга Бурятии до степей Забайкалья (Даурии). Прибывшие из Халха-Монголии семеро сыновей одного отца расселились по девяти речным долинам Джиды.
Сартулы делились на два крыла — сартулы «шара азаргын» и сартулы «зээрдэ азаргын», такое деление поддерживалось в соревнованиях, скачках и других больших празднествах.
Внутри сартульского племени люди делились по происхождению на хара-нууд, хачанууд, табангууд, атагантанууд, ашабагадууд, уряанхантанууд, хүмээнтэ-нүүд и др. Алцаг, Тори, Ухэр-Чулуун, Бургалтай, Нарин, Гэгээтэй, Цагаатай, Учоотай, Боргой — девять речных долин сартулов в Джидинском районе.
Есть сведения о том, что и во Внутренней Монголии живет народ, называющий себя сартулами [9].
Как это следует из вышеприведенного материала, научных исследований по истории этнографической группы чрезвычайно мало, как и литературы, в которой освещались бы их этнические особенности. В этой связи следует отметить, кроме работы Менжигийна, работу Галины Номогоновны Очировой «Свадебный обряд сартулов Монголии и Бурятии», написанную по материалам полевых исследований в 1981–1982 гг. в Джидинском районе Бурятской АССР и исследований 1983 г. в четырех сомонах Дзавханского аймака МНР, где проживают сартулы бывшего Нэ-цэн-сартул хошуна. В МНР это сомоны Яруу, Сонгино, Цэцэн-уул, Нумрэг, в Бурятии — села Нижний Бургалтай, Оёр, Гэгэтуй, Верхний Торей, Ичетуй, Цагатуй. По воспоминаниям стариков-информаторов, которые были очевидцами свадебного ритуала или слышали рассказы отцов и матерей о его порядке, удалось собрать некоторый материал по традиционной свадебной обрядности сартулов [11].
Собранные этнографами материалы, освещающие в деталях свадебные обряды сартулов Бурятии и сартулов Монголии, то есть одной этнической группы, но разобщенных в результате геополитических процессов, в которые они были втянуты более трех веков назад, убедительно свидетельствуют об устойчивости социальных норм, регламентирующих брачно-семейные отношения. Факторов, способствующих длительному сохранению этих норм, можно назвать несколько. Прежде всего, это свидетельство устойчивости норм обычного права. Кроме этого, стремление, обусловленное психологическим настроем, сохранить древние обряды, что характерно именно для традиционных народов; схожесть и однородность во многом социально-экономических условий жизни этого народа; общность религиозных устоев; культурная общность среды, в которой они обитают, отсутствие влияния иной культурной среды, способствующие сохранению языка и национальных корней.
С точки зрения всеобщих брачных норм свадебные обряды сартулов содержат многочисленные указания на генезис брака, в этом они, безусловно, носят важные общие черты с брачными ритуалами практически всех народов мира. Особенностью их является только то, что они содержат очень многое из этих первоначальных норм.
Определенные выводы о возрасте вступления в брак можно сделать из небольшого фрагмента, в котором говорится, что «женская одежда была трех основных форм: детская до 13 лет, девичья до свадьбы и собственно женская, которую надевали после замужества» [11, с. 163].
Следовательно, по достижении девицей 14-летнего возраста (в традициях монгольских народов возраст включал в себя год внутриутробного развития) она вступала в возраст девичества, когда могла быть сосватана и выдана замуж. Обычно все сложные брачные приготовления, выплата калыма, достижение согласия о размере приданого невесты длились два-три года. Поэтому необходимо согласиться с теми исследователями брака и семьи у бурят, которые утверждают, что в среднем брачный возраст наступал в 17–18 лет [4].
Однако необходимо оговориться, что ограничения брачного возраста касались только женщин. Практика заключения брака и начало брачного сожительства для мальчика таких строгих ограничений не имели, поэтому повсеместно у бурят был распространен обычай женить малолетних мальчиков на взрослых женщинах [4, c. 21].
Природа этого явления, считаем, кроется в самой сути калымного брака. Многодетные родители, страхуя себя на случай упадка скотоводческого хозяйства и невозможности платить калым и женить таким образом сыновей, стремились как можно раньше «купить» жену сыну, а проблему ухода за стадами малолетнего сына решали тем, что выбирали взрослую невестку.
Однако необходимо отметить два взаимосвязанных с калымным браком обстоятельства: первое — невозможность преодолеть обычай, запрещающий выдавать замуж девочек, не достигших зрелости; второе — фактически законодательное определение размера калыма, который не мог быть уменьшен по договоренности сторон.
При этом анализируемый этнографический материал свидетельствует о том, что описанные нами обстоятельства очень редко встречались собственно в Монголии, в частности у сартулов Завханского аймака Монголии. Думается, что это связано с тем, что размер калыма определялся соглашением сторон и учитывал материальное положение и возможности родителей. Кроме этого, в условиях номадного выпаса скота в Монголии у подавляющего большинства кочевников отсутствовали трудности в оплате традиционного калыма.
Начнем с момента сватовства, и в первой же норме мы встречаемся с описанием того, что на предложение о сватовстве женская сторона сразу не отвечает, говорит, что им нужно посоветоваться с родственниками.
Из этого небольшого фрагмента следует, что изначально сватовство и бракосочетание молодых были делом двух общин и в меньшей степени делом двух семей. В нормах завханских сартулов есть данные о том, что брак должен был соответствовать правилам родовой экзогамии — «высшие сказали, что молодые подходят по " модо-чулуу " ». Из комментария составителя следует, что понятие «модо-чулуу» раскрывается как представление о родовой экзогамии. Тем не менее запрет на бракосочетание с представителем собственного рода видится в такой степени естественным явлением, что не подлежит практически никаким интерпретациям.
Но хотелось бы все же выйти за рамки очевидного правила о запрете внутриро-довой брачной связи и акцентировать внимание на сущности брака как межродового союза. И здесь речь не идет о взаимосвязи всех родственников с той и другой стороны, возникающей из факта заключения брака. Дело в том, что организация внешних за пределами родовой общины связей строилась на основе брачных норм. Суть этой взаимосвязи можно в полной мере осознать только учитывая два основных принципа, определявших характер взаимодействия родовой общины вовне. Первый принцип — дуальной эндогамии: запрет на внутриродовые брачные связи и одновременно с этим запрет на вступление в брачные отношения за пределами дуальной родовой организации. Члены родовой общины вступают в брак с представителями только одной, составляющей дуальную организацию, общины. Таким образом, в эпоху родовой организации брак имел характер обменного или, другими словами, кросскузенного брака. В эпоху формирования дуальной организации сыновья женились практически на дочерях сестры их отца. При численном разрастании родового сообщества брак уже мог и не совпадать с точностью до кросскузенного, однако степень близости кровнородственных отношений была весьма высокой по современным понятиям. Второй принцип — эквивалентности брачного союза: брак сына одновременно совпадал с выдачей дочери замуж. То есть чтобы женить сына, необходимо было отдать замуж свою дочь. Родовые общины обменивались дочерьми, соблюдая при этом правила эквивалентности. Требования к невестам базировались на идее равенства, которое касалось возраста, здоровья, обученности, внешней привлекательности и т. д.
Из названных принципов рождались долговременные социальные связи, основанные на принципиально иных, чем внутриродовые, отношениях.
Брачный договор включал в себя двухсторонние правовые обязательства взаимной безопасности, недопустимости психического и физического насилия, имущественного равенства и т. д. Очевидно, что поначалу речь шла о правах и безопасности женщин, отданных в другую общину. Но со временем требования неприкосновенности были распространены на всех представителей дуальной организации. По той же закономерности развивались требования эквивалентности. С развитием матримониальных отношений принципы эквивалентности способствовали хозяйственному взаимодействию, что само по себе является основой для формирования новой общности.
Однако с точки зрения социальной эволюции следует отметить возникновение и развитие амбивалентных общественных отношений: с одной стороны — отношения внутриродовые, построенные на половозрастной иерархии и общности имущества и коммуналистических принципов их распределения; отношения межсоциорные, построенные на взаимном договоре двух равных, свободных, самостоятельно хозяйствующих общин, чье взаимодействие основано на равном участии и предусматривает распределение его результатов в равных долях. Следовательно, брак — это социальный институт, на базе которого начинают формироваться амбивалентные социальные нормы, сущность которых определяется двумя типами социальных связей внутри дуальной родовой организации. Амбивалентность обычая и обычного права и дуальность родовой общины и родовой организации в целом явление, не получившее своего научного объяснения и трактовки.
Как явление амбивалентность проявляется во множестве социальных норм и институтов, наблюдаемых и зафиксированных различными исследованиями, но упорно не замечаемая правоведением. Свойственная современному право-пониманию сосредоточенность на позитивном праве не позволяет констатировать исторически сложившуюся взаимосвязь между элементами системы права, взаимосвязь между частным и публичным правом, первичность норм брачносемейных в генезисе права.
Обращаясь к свадебным обрядам сартулов, отмечаем, что отсутствуют вышеописанные признаки брака-анда, характерного для родового строя. Следовательно, мы застаем этот народ на иной стадии развития, на что указывают признаки брака покупного — калымного — брака.
В статье о происхождении калымного брака подробно описаны социальные процессы, которые привели к трансформации обменного брака и формированию калымного брака [12]. Этот процесс можно восстановить в деталях благодаря множеству архаичных по своей сути элементов свадебных обрядов. Так, в свадебных обрядах значительное внимание уделяют нагацо — отцу или брату матери невесты. Такое отношение характерно практически для всех этнических свадебных обрядов. В литературе дается различное толкование широко распространенному феномену. С нашей точки зрения, из данного зафиксированного этнографами обстоятельства ясно вытекает вывод о том, что родовая община в прошлом была универсальной социальной общностью, сформировавшей человека как социальное существо. Нагацо — брат матери, дочь которого приходила в качестве невестки, и он — главная фигура, поддерживающая незыблемость социальных норм, гарантирующих неприкосновенность, равный статус, материальное и иное обеспечение нового члена сообщества.
В системе социальных отношений, частью которой являются описанные свадебные ритуалы, персона нагацо уже не играет важной роли, как раньше, а постоянная апелляция к фигуре нагацо, выделение его из перечня родственников, множество определений, кто есть нагацо, и его значимость на свадьбе обозначают лишь его былую роль, почти преданную забвению, но древность свадебных обрядов не позволяет умолчать о его правах и в настоящее время быть на свадьбе детей главной фигурой. В этом же ряду сведения о том, что у дурбэтов, дзахчинов, олётов ехали свататься его мать, сам жених и несколько сопровождающих (при этом отец в качестве сватающегося субъекта не упоминается. Думаем, что это не случайно). По всей видимости, мать едет в свою родовую общину, к своему брату, чтобы привести в свой дом в качестве невестки дочь своего брата.
Также можно отметить такую деталь, что первоначально родители становятся сватами, а потом их дети становятся, согласно их договоренности, мужем и женой в соответствии с традиционными обрядами. Одновременно с этим мы встречаем указания на то, что дети иногда самостоятельно от родителей становятся мужем и женой, после чего родители мужа едут в семью жены с тем, чтобы констатировать свой статус как сватов и договориться о формальностях.
Данный фрагмент следует отметить в целях показать, что развитие института брака шло от брачного договора между родовыми общинами к договору между брачующимися мужчиной и женщиной. Брачный церемониал в этой части передает аспекты исторического развития социального института.
В своей давней работе «Обычное право бурят» (2004) [13] нами был отмечен такой примечательный факт — молодожены в монгольской семье никогда не проживали в одном доме или в одной юрте со своими родителями. Свадебные приготовления всегда включали этап строительства, изготовления и наполнения дома или юрты для молодой семьи. В связи с этим важно отметить, что женитьба означала в юридическом плане хозяйственное отделение сына от отца, юридический факт наступления полной дееспособности, права выступать в общественных отношениях от своего личного имени и в своих частных интересах. Последнее не касалось только младшего сына, именуемого отхон хуу , который не имел морального права на отделение от отца даже после женитьбы, оставаясь членом семьи своего отца или усыновителя до его смерти. Однако данное обстоятельство означало его право на наследование всего имущества, дома, земельных наделов, скота.
Старшие дети мужского пола имели право только на выдел части стада отца, то есть на получение онч сына.
В этнографической литературе имеются многочисленные сведения о переезде сына в айл своей невесты, где он проживал оговоренное сторонами время — месяц, год, несколько лет, по-разному. Возможно, что это своего рода отработка в счет уплаты калыма. Для сына несостоятельных родителей, возможно, это было единственной возможностью жениться. А для состоятельных родителей кратковременное пребывание в айле невесты — дань традиции. Не очень понятная для современников традиция складывалась, по всей вероятности, в период формирования калымного брака как отголосок обменного брака. Во времена распада родовой общины, по всей видимости, существовало требование жениться за пределами фратрии, но в пределах своего племени. В последующем границы собственной фратрии размываются, остаются различимыми только границы племени за счет единого языка, обычаев и мифов об общем прошлом. Соответственно и реализация обменного брака становится трудным делом. А в отсутствие эквивалентности соблюдения прав женщин неприкосновенность их жизни и здоровья могла быть решена только на основе материальных гарантий. Так постепенно складывался весьма тонкий, но с точки зрения права весьма изощренный институт калымного брака.
Продолжая комментарий свадебных обрядов, приведем несколько слов о традиционном составе свадебного поезда: ероолчин — знаток благопожеланий, дуу-чин — исполнитель свадебных песен, сенчин — разливатель молока, кумыса, хундгачин — разливатель вина и водки. Каждый исполнял свою роль. Такая определенность в функциях каждого из членов группы также является отголоском родовых отношений. Родовая община существовала на принципах неделимости родовой общности. Поэтому в суровых условиях Сибири общность составляла многотысячный коллектив, который мог существовать только на основе жесткого разделения труда. Каждый член родовой общины выполняет строго определенную общественную работу, качественное выполнение порученной работы, проявленное при этом мастерство и отдача, высоко ценились родовичами. Община представляла собой многолюдный и потому сильный коллектив. Знаменитые мастера своего дела, пусть это будет тамада, певец, знаток благопожеланий, искусный мастер по дереву, по железу и другие, прославляли свой род, и их личное присутствие на сватовстве или свадьбе или ореол их славы придавали вес жениху или цену невесте.
Главными юридическими составляющими брачного договора являлись калым ( суй ), приданое невесты ( инжи ), выдел сына ( онч ).
Размер калыма в виде определенного количества домашних животных устанавливался соглашением родителей. Это общее правило. Однако правовые документы более раннего периода указывают на то, что размер калыма зависел от целого ряда условий, которые устанавливались так называемым общественным договором. Так, общественным договором, в подписании которого принимали участие все главы родов, устанавливали андзу, размер возмещения за причиненный вред. Первоначальный смысл такой выплаты заключался в том, что он был размером возмещения за нарушение брачного договора, который включал, кроме обмена невестами, еще и ответственность за нарушение неприкосновенности личности и имущества. Таким образом, андза служила гарантией нерушимости брачного союза всех членов дуальной организации, а также гарантией неприкосновенности личности и имущественных прав. При любом из перечисленных нарушений условий общественного договора виновная сторона обязана была возместить причиненный моральный, физический и другой вред.
Согласно преданиям, древняя андза была установлена в размере 100 голов скота.
В последующем размер андзы неоднократно снижался, и последний из известных ее размеров в 27 голов скота был установлен общественным договором селенгинских бурят в 1735 г. [13, с. 42].
С упадком обычного права как у бурят, так и у монголов представители сартуль-ских родов размер калыма уже не соотносили с размером андзы , а устанавливали произвольно по взаимному согласию. И это хорошо подтверждается исследуемым этнографическим материалом.
Что касается инжи , то есть приданого невесты, то его размер оговаривался уже во время свадебных торжеств в айле жениха. То, что называют айлчалгаа — приезд молодоженов в гости к родителям жены, имело целью получения инжи в виде домашних животных. Излишне говорить, что размер инжи сопоставлялся с полученным родителями калымом. Можно предположить, что инжи был по размеру несколько меньше калыма, поскольку часть калыма рассматривалась как плата за невесту ее родителям. И получившая инжи дочь не могла претендовать в будущем на имущество после смерти родителей.
Не будет лишним сразу оговориться, что с упадком родовых отношений, другими словами — с выделением и укреплением самостоятельности малой семьи, калымный брак приходит в упадок и на смену приходит брак по взаимному согласию. Согласие родителей и атрибуты калымного брака становятся символическими, снисходительной данью традициям отцов и дедов.
Дары сыновней стороны родителям невесты уже сведены к простому угощению, проявлениям уважения и рассчитаны на будущее мир и согласие обеих сторон. Напоминает о былом только символика этих даров. Так, этнографы сообщают, что перед юртой невесты на белый войлок ставили есен сэнжидээ — девять разных видов жертвенной провизии; чай из пяти сагидээ . Все эти числовые символы, конечно, связаны с числами домашнего стада и пяти видов домашних животных.
Говоря о многовековых традициях, отраженных в свадебных обрядах, нельзя обойти вниманием еще более древние брачные символы — солнце и луну. «Невесту и жениха усаживали на белый войлок, каждого на свой узор, символизирующий долголетие....У баятов и дэрбэтов изображают солнце и луну; жениха сажали на " солнце " , невесту — на " луну " , затем они поклонялись солнцу».
В эпоху дуальной родовой организации общины выходили на облавную охоту под руководством выбранного главы, при этом, замыкая круг, левый фланг шел слева направо, то есть ходом Луны, а правый фланг справа налево — по Солнцу. Направления флангов никогда не менялись, каждая родовая община навечно получала свое «правильное направление». Следовать правильному направлению учили детей с малых лет. Поклонение Солнцу или Луне определяло не только наиболее древние верования людей, но и первый значимый идентифицирующий социальную общность критерий. С точки зрения древнего брака любой ребенок рождался от союза Солнца и Луны.
И последнее замечание — свадебные обряды сартулов во множестве включают разного рода состязания представителей той и другой стороны: хом бэдрэх, гал гаргах, гэры надан, гадзааны наадан, хургэды наадан, бэлээ буляалдаан, угтамжи, бухачин и др. В целом они все направлены на то, чтобы в дружеской борьбе заявить о себе как о будущих женихах и невестах. Это своего рода смотр молодых, адресованный родителям подрастающих детей, знакомство друг с другом, а также демонстрация силы и ловкости в отстаивании равного статуса в общественном договоре.
Так испокон веков в переплетении обычаев и обычного права рождалась семья и правовой союз двух общин, основанный на нерушимом договоре двух равных, независимых, самостоятельных родов с целью объединения на правовых началах двухсторонних усилий для общего блага и достижения общих интересов.
Список литературы Антрополого-правовой анализ брачно-семейных норм сартулов Монголии и Бурятии
- Банзаров Д. Собрание сочинений / ответственный редактор Г. Д. Санжеев ; подготовка к печати и примечания Г. Н. Румянцева ; биогр. очерк П. Т. Хаптаева ; Акад. наук СССР. Ин-т востоковедения, Бурят-Монгол. науч.-исслед. ин-т культуры. Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1955. 375 с. Текст : непосредственный.
- Барадин Б. Бурят-монголы. Краткий исторический очерк оформления бурят-монгольской народности : оттиск / Бурят-Монгольское научное общество им. Д. Банзарова. Верхнеудинск, 1927. Текст : непосредственный.
- Бартольд В. В. Образование империи Чингисхана // Записки Восточного Отдела. 1896. Т. X. Текст : непосредственный.
- Басаева К. Д. Брак и семья у бурят: вторая половина XIX — начало XX века. Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1980. 157 с. Текст: непосредственный.
- Бурятские летописи / ответственный редактор Ш. Б. Чимитдоржиев. Улан-Удэ, 1995. С. 133–163. Текст : непосредственный.
- Грум-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край : в 3 т. Т. 1. Описание природы этих стран. Москва, 2013. С. 25–36. Текст: непосредственный.
- Долгих Б. О. Родовой и племенной состав Сибири в XVII веке. Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1960. 622 с. Текст : непосредственный.
- История Бурятии: в 3 томах / под редакцией Б. Базарова. Т. II. XVII — начало ХХ в. Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. С. 23. Текст : непосредственный.
- Менжигийн Д.-Д. Буряад ороной сартуул уг изагууртан. Улан-Удэ, 1994. С. 5–6. Текст : непосредственный.
- Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием Mongrol-un Niruca tobciyan. Юань Чао Би Ши. Монгольский обыденный изборник / перевод С. А. Козина. Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1941. Т. I. Текст : непосредственный.
- Очирова Г. Н. Свадебный обряд сартулов Монголии и Бурятии // Традиционная культура народов Центральной Азии : материалы и иссле- дования. Новосибирск : Наука, 1986. С.160–176. Текст : непосредственный.
- Тумурова А. Т. Происхождение калымного брака (по материалам обычного права бурят) // История государства и права. 2009. № 14. С. 27–31. Текст : непосредственный.
- Тумурова А. Т. Обычное право бурят: Селенгинское уложение 1775 г. Улан-Удэ : Издательство Бурятского госуниверситета, 2004. С. 40–66. Текст : непосредственный.