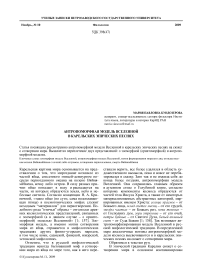Антропоморфная модель вселенной в карельских эпических песнях
Автор: Кундозерова Мария Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 10 (104), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению антропоморфной модели Вселенной в карельских эпических песнях на сюжет о сотворении мира. Выявляется переплетение двух представлений: о зооморфной (орнитоморфной) и антропоморфной моделях.
Зооморфная модель вселенной, антропоморфная модель вселенной, мотив формирования морского дна, отождествление колена вяйнямёйнена с кочкой либо островом, сотворение первочеловека, смерть вяйнямёйнена
Короткий адрес: https://sciup.org/14749503
IDR: 14749503 | УДК: 398(47)
Текст научной статьи Антропоморфная модель вселенной в карельских эпических песнях
Карельская картина мира основывается на пред- ставали верить, все более удалялся в область ху-
ставлении о том, что мироздание возникло из частей яйца, снесенного птицей-демиургом посреди первозданного океана на колено Вяйня-мёйнена, кочку либо остров. В силу разных причин яйцо попадает в воду и распадается на части, из которых образуются земля, небо и небесные светила. Согласно концепции Н. А. Криничной, «такое яйцо (по сути, сама водоплавающая птица) в космогонических мифах служит исходным “материалом” для первотворения. Подобного рода “птичьи” образы – отголоски древних космологических представлений, связанных с зооморфной (а в данном случае – с орнито-морфной) моделью Вселенной» [1; 157]. Зооморфная модель, а именно мотив сотворения мира из яйца, отражается в мифологических традициях других финно-угорских народов, в том числе коми, саамской, финской, ижорской, эстонской мифологиях.
Отметим, что в русской мифологической традиции некогда бытовавший миф о сотворении мира из яйца по мере того, как в него пере дожественного вымысла, пока и вовсе не перебазировался в сказку. Зато так и не изжила себя до конца более поздняя, антропоморфная модель Вселенной. Она сохранилась главным образом в духовном стихе о Голубиной книге, согласно которому компоненты космоса образуются от частей тела Иисуса Христа, а также от некоторых материализованных абстрактных категорий, маркированных именем Христа: солнце красное – от Божьего лица, млад светел месяц – от его грудей, звезды частые – от Божьих риз, ночи темные – от Господних дум, зори утренние – от его очей, ветры буйные – от Святого Духа, белый вольный свет – от Суда Божия [1; 158]. Так возникает ан-тропоморфизированная модель Вселенной в русской мифологической традиции. В определенной мере аналогичные мотивы антропоморфной модели космоса высвечиваются и в карельских эпических песнях на сюжет о сотворении мира.
Обратимся к текстам рун.
В эпической традиции Карелии сюжет о сотворении мира в основном контаминирован с текстами рун о мельнице Сампо, открывающихся описанием сборов Вяйнямёйнена в путь и его попадания в морские воды. Здесь птица, чаще всего нырок, гусь или орел, сносит яйцо на колено Вяйнямёйнена, дрейфующего в открытом море. В данном сюжете он изображается в ипостаси первочеловека. В севернокарельской версии рун встречается упоминание о формировании Вяйнямёйненом, плавающим по первозданным водам, ландшафта морского дна, что происходит, как правило, до возникновения мироздания (лишь в четырех вариантах более поздней записи данный эпизод относится ко времени после сотворения мира), например:
Kuh hänen bokat koski,
Sih hiän rannat luaitteli;
Kuh hänen polveh koski, Sih hiän pohjat potkai;
Kuh hänen kynnet koski, Sih hiän kallivot takou;
Kuh hänen parta koski, Sih hiän luvvot luikoi.
Luotoni on merellä luotu,
Sih on suari siunualtu [5; № 39, 56–65].
Где боками касался, Там берега созидал;
Где коленями касался,
Там дно становилось (букв. пинал);
Где ногтями касался,
Там скалы выковывает;
Где бородой касался, Там рифы сглаживал.
Небольшой риф в море создан, Там остров появился.
Согласно данному примеру, компоненты Вселенной берут начало от частей тела Вяйня-мёйнена: берега из боков, дно из колен, скалы из ногтей, рифы из бороды. В большинстве вариантов Вяйнямёйнен также создает рыбные тони, отмели, ямы, даже рыбные косяки, например:
Kussa päin muaha kiändy,
Siihi hauvan siunuali,
Kussa kylin muaha kiändy, Siihi koron siunuali.
Kussa jaloin muaha kiändy,
Siihi loi lohie parven [7; № 4, 63–67].
Где головой к земле поворачивался, Там яму создавал,
Где боком к земле поворачивался, Там отмель создавал.
Где ногами к земле поворачивался, Там создавал косяк лососей.
В разных вариантах упомянутые части дна появляются вследствие движения разных частей тела. Например, яма (hauta) может образоваться при движении головы, ног; отмель (korko) – при движении бока, рук, груди, колен; тоня (apaja), часто лососевая (lohiapaja), – при повороте бо- ком, спиной, животом; остров (suari) – при движении головы либо лежа. Отметим также, что в горизонтальном положении (лежа) Вяйнямёйнен создает тоню (apaja), в вертикальном (сидя или стоя) – рифы (luoto) и каменистые пороги (kari), например:
Kuhu moatu moata lässä,
Siihi siunasi apajan,
Kalahauvan kaivatteli.
Kuhu seisottu merellä, Siihi luopi luotoloja, Karipäitä kasvatteli [7; № 84, 68–73].
Где лежал рядом с землей,
Там создавал тоню,
Рыбную яму выкапывал.
Где становился в море,
Там создавал рифы,
Каменистые пороги выращивал.
Мотив формирования морского дна давно находится в поле зрения финских исследователей [6; 62]. В частности, в нем видели отголоски широко распространенного дуалистического мифа о сотворении земли Богом и чертом, который заканчивается объяснением неровностей земли: черт прячет у себя во рту горсть земли, и, когда она начинает разбухать, ему приходится выплюнуть ее, в результате чего на ровной поверхности земли образуются неровности и горы [6; 63–64].
На наш взгляд, в основе мотива формирования морского дна лежит архетип сотворения мира из частей тела первочеловека, который выявляет себя и в мотиве отождествления колена Вяйнямёйнена с кочкой либо островом. К примеру, в традиции Приладожской Карелии, помимо того, что птица вьет гнездо на колене (polven piässä) или лопатках (labaluille) Вяйнямёйнена (а также в единичном варианте на лопатках Иисуса – Jeesuksen on lapaluilla), птица может свить гнездо в разных локусах, хотя в большинстве своем – это более или менее завуалированное колено Вяйнямёйнена. Начнем с того, что Вяй-нямёйнен сам поднимает (nosti) колено (polvi), лопатку (lapaluu), свою верхнюю часть (lake-hensa) из моря (merestä), мрачной морской глубины (meren synkästä syvästä), волны (lainehesta) либо из того места, где он умер (kuhun on kuollut Väinämöinen), чтобы они стали зеленой кочкой (vihannaksi mättähäksi), тростниковой кочкой (ruogo-mättähäine), дерном (turpehekse), свежим дерном (tuoreheksi turpeheksi). В одной из рун птица сама принимает колено за травяную кочку, ивовую подстилку:
Luuli heinämättähäksi,
Pajupehkon pantavaksi [8; № 58, 22–23].
Отметим также, что смерть Вяйнямёйнена является предпосылкой для сотворения земли, образом которой в данном случае служит кочка или остров.
В некоторых рунах птица устраивает гнездо также на осоковой (saramätäs) либо зеленой кочке (vihanta mätäs), на острове Има(н)тра, что находится посреди морского полюса (Ima(n)tran suarella, keskell’ on meren navan), острове Си-мандро (Simandron soareen), изящном острове (soriah soareh), осоковом островке (sara-soarek-sene), что в параллельном стихе оказывается коленом Вяйнямёйнена, например:
Löyti saramättähän,
Liity Väinön polven piähän [8; № 35, 22–23].
Нашла осоковую кочку,
Спустилась на колено Вяйно.
Здесь мы в очередной раз видим проявление синтаксической синонимии, согласно которой колено Вяйнямёйнена отождествляется с кочкой.
В одной из рун на колене дрейфующего Вяй-нямёйнена рождается остров, который замечает птица:
Katsovi’ saari merelle,
Ruokoheinä ruostuneeksi,
Turpeheksi turvonneeksi [8; № 14, 38–40].
Смотрит – остров в море,
Тростник ржавеет,
Дерн разбухает.
Мотив отождествления колена Вяйнямёйне-на с кочкой либо островом заключает в себе идею сотворения мира из тела первочеловека. Встречается также вариант, где ветер и волна превращают Вяйнямёйнена в кочку (то есть сотворение мира из тела первочеловека происходит при участии природных стихий – воды и воздуха):
Tuuliba häntä tuigutteli,
Hänt’ on aaltoni ajeli,
Hänen tuuli turbeheksi, soatto soarimättähäksi [8; № 22, 30–33].
Ветер его ударял,
Волна его носила,
Укачало его в дерн,
Сделало островной кочкой.
Аналогичный мотив антропоморфизации компонентов мира обнаруживается и в ижорской руне на сюжет «На корабле убитый брат» («Lai-vassa surmattu veli»), согласно которой утонувший брат подает голос из воды и предупреждает (иногда это делает батрак), чтобы родные впредь не брали из моря воду, не ловили в море рыбу и не вылавливали топляки, не стирали на морских камнях, потому что все это кровь и плоть погибшего, например:
Älkää minun emoini
Ottaa meroista vettä
Leipoja seatakseen,
Kuin ottaa meroista vettä,
Niin ottaa pojan verta! [1; № 58, 103–107].
Пусть вовеки мать родная
Не берет воды из моря,
Чтобы тесто замесить;
Коль возьмет воды из моря – Зачерпнет сыновней крови!
(пер. Э. С. Киуру).
Älkää minun isoini
Pyytää meren kaloja,
Luoko verkkoja mereen;
Kuin pyytää meren kaloja,
Pyytää pojan kylkiluita! [1; № 58, 109– 113].
Пусть вовеки мой отец
В море здесь не ловит рыбу, Сети в море не бросает;
Коль наловит рыбы в море –
Ребра сына соберет! (пер. Э. С. Киуру).
Elkäähä miun sissoin
Sotkia meroin kivoil,
Kuin sotkoo meroin kivoil,
Niin sotkoo velloin pääni pääl [4; № 17].
Пусть моя сестра
Не стирает на морском камне,
Если станет стирать на морском камне, Будет стирать на голове брата
(пер. Э. С. Киуру).
Исследователи ижорского эпоса затрудняются однозначно объяснить происхождение мотивов отождествления морской воды с человеческой кровью, а рыб, морских камней и топляков – с частями человеческого тела. Ряд исследователей видят в этой слитности некий наивный символический смысл – полную зависимость материального благополучия человека от моря и опасность, таящуюся в море [1; 206], совершенно не замечая мифологической основы анализируемого мотива, или же предполагают, что этот мотив может восходить к мифу о происхождении моря и его обитателей из частей тела великана [1; 206]. Данное предположение как раз находит подтверждение в рассматриваемых нами карельских эпических песнях. Другие исследователи подчеркивают важность и очевидность не просто связи образа моря и умершего человека, а «срастание моря и мира мертвых через единство внутренних объектов» [2; 56–57]. Мнение о локализации загробного мира за водой или под водой подтверждается и нашими материалами. Однако в данном случае речь скорее идет о перевоплощении первочеловека через смерть в соответствующие части мироздания.
Идея сотворения мира из частей тела первочеловека, являясь стадиально более поздней по сравнению с орнитоморфной моделью мироздания, проявляется в мотивах формирования морского дна, а также в мотиве отождествления ко- лена Вяйнямёйнена с кочкой либо островом. Типологически близкий ижорский мотив соотнесения морской воды, рыб, камней и топляков с кровью и плотью человека выводит нас на обратный генезис – происхождение первочеловека из морской первостихии. Например, акту сотворения мироздания, согласно карельской эпической поэзии, сопутствует акт сотворения первочеловека из трех стихий: земли (чурка еловая, бревно сосновое), воды (море) и воздуха (ветер):
Siitä vanha Väinämöinen
Sormin sortuvi merehen, Käsin käypi lainehisiin. Kulki siellä kuusi vuotta Sekä seitsemen keseä, Kulki kuusissa hakona,
Petäjäissä pölkyn päänä [7; № 15, 7–13].
Тогда старый Вяйнямёйнен
Пальцами упал в море,
Руками оперся в волны.
Плавал там шесть лет
И семь лет,
Двигался чуркою (стволом) еловой,
Бревном сосновым.
Таким образом, в карельской эпической поэзии переплетаются два разных представления: о зооморфной (в данном случае – орнитоморф-ной) модели Вселенной (происхождение частей мироздания из яйца) и антропоморфной (образование компонентов космоса из частей тела первочеловека – Вяйнямёйнена).
Список литературы Антропоморфная модель вселенной в карельских эпических песнях
- Ингерманландская эпическая поэзия: Антология/Сост., автор вступ. ст., коммент. и пер. Э.С. Киуру. Петрозаводск: Карелия, 1990. 246 с.
- Конькова О.И. Ижорский мир: формирование и конструкция. Пространство и время//Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 2. Сакральная география и традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севера: Сб. науч. статей. Архангельск: Поморский ун-т, 2006. С. 53-68.
- Криничная Н.А. Мифологема сотворения мира и ее христианская трансформация (русско-карельские параллели)//Межкультурные взаимодействия в полиэтничном пространстве пограничного региона: Сб. материалов медунар. науч. конф. Петрозаводск, 2005. С. 155-162.
- Народные песни Ингерманландии/Изд. подг. Э. Киуру, Т. Коски, Э. Кюльмясу. Л.: Наука, 1974. 516 с.
- Karjalan kansan runot. I osa. Toim. V. Jevsejev. Tallinn, 1976.
- Kuusi M. Suomalaisen luomistarun jäänteitä//KSVK. № 39. Helsinki, 1959. S. 43-72.
- Suomen kansan vanhat runot I. Helsinki, 1908.
- Suomen kansan vanhat runot VII. Helsinki, 1929.