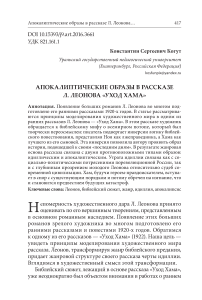Апокалиптические образы в рассказе Л. Леонова "Уход хама"
Автор: Когут Константин Сергеевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
Появление больших романов Л. Леонова во многом подготовлено его ранними рассказами 1920-х годов. В статье рассматриваются принципы моделирования художественного мира в одном из ранних рассказов Л. Леонова - «Уход Хама». В этом рассказе художник обращается к библейскому мифу о всемирном потопе, который был творчески переосмыслен: писатель подвергает инверсии логику библейского повествования, представляя Ноя как лжеправедника, а Хама как лучшего из его сыновей. Эта инверсия позволила автору проявить образ истории, подошедшей к своим «последним дням». В результате жанровая основа рассказа связана с двумя противоположными типами образов: идиллическим и апокалиптическим. Утрата идиллии связана как с социально-политическими потрясениями пореволюционной России, так и с глубинным прозрением молодого Леонова относительно судеб современной цивилизации. Хам, будучи героем-правдоискателем, вступает в спор с существующим порядком и потому обречен на изгнание, что и становится предвестием будущих катастроф.
Леонов, библейский сюжет, жанр, идиллия, апокалипсис
Короткий адрес: https://sciup.org/14748978
IDR: 14748978 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3661
Текст научной статьи Апокалиптические образы в рассказе Л. Леонова "Уход хама"
Н епомерность художественного дара Л. Леонова принято оценивать по его вершинным творениям, представленным в основном романным наследием. Появление этих больших романов зрелого художника во многом подготовлено его ранними рассказами и повестями 1920-х годов. Обратимся к одному из его рассказов — «Уход Хама» (1922). Наша цель — увидеть принципы моделирования художественного мира рассказа. Леонов, трансформируя жанр библейского предания, придает жанровой структуре своего рассказа черты идиллии. Вглядимся в художественный смысл этой трансформации.
Библейский сюжет, лежащий в основе рассказа «Уход Хама», уже неоднократно был объектом внимания в работах о раннем творчестве писателя [3, 57–58]; [7, 69–71]; [8, 7–8]; [1, 18]; [13, 34]; [9, 97]; [12, 197]. Однако Леонов не только использует предание о Всемирном потопе и о предшествующих ему событиях, но и демонстративно отступает от него:
Ветхий Завет
И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время… (Быт. 6:5).
Уход Хама
Тогда цвела земля.
Не оставались бесплодны поля: платил колос земледельцу семь полных горстей зерна за зерно. Домой не возвращался без добычи зверолов <…> Цвела черная плоть земли, которая — как рабыня под солнцем, господином1.
Образ цветущей и плодоносной земли в рассказе открывает перед читателем отличную от библейской картину. Если в оригинальном сюжете причиной потопа стало развращение человеческих сердец, вызвавшее презрение Бога, то Леонов в своем рассказе исключает факт людского греха, создавая идиллический образ мира. В этом мире существование человека неотделимо от природной жизни: земледелец и его поля, зверолов и животные, виноградарь и грозди винограда живут одной взаимозависимой жизнью. «Сигналом» идиллии, по замечанию М. М. Бахтина, является «сочетание человеческой жизни с жизнью природы, единство их ритма, общий язык для явлений природы и событий человеческой жизни» [2, 473]2.
Наиболее полно в рассказе прорисована пастушеская идиллия, близкая к пасторали: «Пел пастух, ведя вечерних овец к водопойному корыту…» (133). Раз и навсегда заданный на земле порядок и «обилие дней» человеческого рода на ней размывают временные границы повествования, что подчеркнуто повторами: «Тогда цвела земля» (133); «цвела черная плоть земли» (133); «Цвело и пело всё» (133); «Земля цветет» (134); «Тогда цвела земля» (135); «Цветут лилии в Салиме…» (142); «Цветет забывшая земля…» (142). Многократные повторы создают не только образ цветущей земли, но утверждают состояние мира как вечно цветущего. Такая повторяемость привычна для жанра идиллии3.
Мир рассказа Леонова «дышит» осмысленностью раз и навсегда заведенного порядка как должного, что выражено родовой связью ветхозаветных поколений: «Она — Селла, жена Сима <…> А вот женщина Иска, она родила Иафету Фираса и Мадая <…> Вот женщина Кесиль, жена Хама…» (134). Эта родовая связь и образует единство жизни, присущее идиллии.
В противоречие с библейским преданием в рассказе вступает не только картина мира, но и образ Хама — одного из детей Ноя. Если в библейском повествовании сын Ноя изгнан за совершенный им грех, то у Леонова он не совершает злого деяния. Вот поведение Хама в день, когда Ной и его дети узнали о близящемся потопе: «Когда услышал, запел Иафет, потрясая топором. Голос его был тягуч и низок, как звук рыкающего льва. Сим затаил усмешку, меря привычным глазом расстояние до неба, еще не грозившего дождем. Хам сидел, зажав лицо в коленях, и не говорил» (135). Вспыльчивости Иафета, подобной львиному рыку, и легкомысленной «усмешке» Сима противопоставлена молчаливая реакция Хама. Его задумчивая поза («зажав лицо в коленях») указывает на способность к рефлексии.
Молчаливостью в рассказе наделен также и Ной, однако смысл его безмолвия состоит не в мудрости, а в жестокости. Так, он отказывает Иавалу в спасении его сына: «Семя твое пожрут рыбы с зелеными пятнами на голове» (136). В чем причина такого ответа Ноя? Его беспощадной реплике, которая обрекает поколение Иавала на страшную смерть, предшествует долгое молчание: «Молчал Ной, три сына его молчали <…> Молчал Ной<…>» (136). И вот Ной уже готов внять обращенным к нему мольбам, но Иафет и Сим «подсказывают» отцу иное решение. В сцене «казни» не участвует один только Хам. Его вдумчивое бездействие противопоставлено жестокости Ноя и других его сыновей. Так, Сим «вдогонку швырнул камень» Иавалу, «но не убил» (137). И лишь после разоблачения лжеправедничества Ноя, идущим вразрез с библейским сюжетом, наступают темные дни земли: Иавал, обреченный на смерть, уходит в город, над которым «висел зной блуда женщины Киттим» (137). Так начинает меркнуть картина цветущей земли и наступает «темная ночь».
Разрушение идиллического мира4 в рассказе связывается не столько с божественным гневом, который и стал причиной гибели всего живого на земле в библейском сюжете, сколько с человеческой жестокостью: «Над водой летит уцелевшая птица. Жалобен крик птицы, потерявшей гнездо. Она кружит ослабевшим крылом и садится на ковчег Ноя, плывущий во тьме. Рука человека высовывается из окна в крыше и машет бичом и прогоняет птицу. Она подымается высоко, но ветер бросает ее в пучину. Жалобен крик птицы, падающей в пучину» (138). Деяния человека оказываются не менее гибельными, чем деяния Бога. Леонов, по сути, прибегает к удивительной инверсии ветхозаветных событий: вне ковчега гибнут те, кто больше всех заслуживает спасения, а в ковчеге находятся лжеправедники. И, словно понимая свою «обособленность», они связывают последнего праведника: «Кричит из затворяемого ковчега связанный братьями Хам» (137).
Именно Хаму в рассказе открыт подлинный смысл произошедшей «гибели земли». Этот смысл он вкладывает в свою «Песнь о Начале», которую поет Ною. Сочинение Хама свидетельствует о зрелости его идей, которые он, подобно истинному художнику, сумел превратить в Песню5. Согласно Песне, у Отца в руках были солнце и земля, а Его лик отражался в водах мрака. Это отражение стало «вторым Отцом» земли. Хам поет о борьбе Бога и Дьявола, называя второго «похитителем земли». Их вечная битва в метафизических «пустотах и глубинах» открывает подлинный смысл произошедшего потопа: «В те дни сказал похититель: ты умрешь, думающая о солнце. Я кладу конец дням земли. Криком людей не сжалится ухо Отца» (140). Хам, передавая слова «похитителя земли», сообщает Ною о том, что именно он, а не Бог, задумал потоп и уничтожение всего живого на земле. И потому Ной, сам не зная того, поклонялся дьяволу. Почему же так произошло?
Диалектика ложного и истинного Бога в рассказе тесно связана с сердечной жизнью человека: жестокий Ной слышал «глас» того, кто столь же жесток, в то время как Хам ощущает присутствие истинного Бога. Эта странная инверсия у Леонова проявлена двумя встречами.
В первую встречу Ной слышит «отдаленный гул» и принимает его за божественное откровение. «Встрече»-предвестию
Ноя предшествует разговор Хама с незнакомцем у источника. Этот незнакомец говорит сыну Ноя не о гибели земли, а, наоборот, о ее великолепии: «Я сказал: земля, хорошо. Он ответил: да» (134). И если Ной слышит откровение ночью, среди молний и гор, то Хам встречает незнакомца при свете дня. Этот незнакомец не является человеком, а только «подобен» (134) ему.
Песня Хама, являясь кульминацией рассказа, расставляет акценты над каждой из этих встреч: Ной говорил с «похитителем земли», а Хам — с Богом. Не веря словам Хама, Ной гневается на него: «Или ты думаешь, что поклонялся похитителю в благостную ночь завета?.. <…> Твоя цена — цена пса!..» (140), — затем бьет его бичом. Кроме того, Песнь Хама проявляет причину его богоборческого бунта: глубинную несправедливость потопа, унесшего жизни невинных людей и неправоту Бога, Который допустил их смерть. Недоумения Хама в определенной мере родственны тем вопросам, которыми задавался молодой Леонов: «Ветхий Завет — от дьявола (отсюда — образ Похитителя земли), Новый Завет — от Христа. Как будто все там и было объяснено, но я не мог понять одной “механики”: каким образом Бог, который сотворил мир, людей, стал топить людей и все живое на земле…»6.
Наконец, наступает время отблагодарить Бога: «На ближнем камне принес благодарную жертву Отцу пастух Ной. У него были глаза вора, когда он раскладывал огонь. Дымились благовония, но отнимал их от ноздрей Отца смрад земли.
Потом пошли новые дни» (141).
Портрет Ноя, приносящего жертву, «прорисован» одной характеристикой: «глаза вора» указывают на Ноя-обманщика, деяния которого не связаны с божественной волей. Отсутствие этой связи подчеркнуто «благовониями», которые не доходят до Отца. «Новые дни», начавшиеся после потопа, открывают новый временной цикл и вмещают в себя не только новозаветное время, но и судьбы современной цивилизации и, шире, будущее человечества7. Но в основу этого будущего здесь, у жертвенного камня, закладываются обман, заблуждение и жестокость. Уже в раннем рассказе Леонов выражает идею, которая станет одной из центральных в его зрелом творчестве: человечество и созидаемая им цивилизация, сами того не подозревая, находятся в руках Дьявола, поскольку сбились с пути в своих древних истоках8. Похититель земли, согласно Песне Хама, «пришел неслышно» и обманом получил власть. Его зловещее «неслышное» присутствие в сердцах людей продолжается9.
О творческом переосмыслении библейского мифа ранним Леоновым пишет А. А. Дырдин: «И, хотя раннее творчество писателя обусловлено сочетанием народнической, неореалистической и символистской традиций, уже в это время библейский миф вовлекается в образно-философскую систему писателя в качестве по-новому истолкованной глоссы» [6, 60–61].
Вслед за потопом как «концом дней» возникает разобщенность среди оставшихся в живых людей. Леонов, искусно стилизуя письмо под библейский слог, рисует картину ее начала:
Ною подходит Сим, второй сын Ноя.
— Я Сим. Благослови меня.
Ной:
— Но Иафет первенец мой.
Слова, исходящие с дрожащих губ Сима:
— Я давал тебе хлеб и дам до конца дней. Выя моя — дом твой. Рука моя — посох тебе. Иафет!.. кто станет опираться на облако и ходить по краю обрыва? (141)
Перед нами разворачивается картина братской борьбы: Сим пытается оболгать своих братьев, чтобы получить почесть и благословение отца. Ной же напоминает Симу о других своих сыновьях, но тот указывает отцу на их ненадежность: Иафет подобен «облаку», а Хам «неплодный». Оболгав своих братьев и получив желаемое благословение, Сим горделиво приговаривает: «Я все топчу, и все идет за мною» (142). Робкий сын Ноя постепенно превращается в страшного владыку, который вслед за устроившим потоп Богом желает «растоптать» бытие.
Для понимания произошедшего следует учитывать социально-политический контекст. Рассказ «Уход Хама» Леонов писал уже после событий 1917 года, оставивших глубокий след в его сознании. З. Прилепин в биографии писателя обращает внимание на апокалипсический характер восприятия Леоновым революционных катастроф [10, 38–74]. Образ Сима, способного растоптать «всё», возможно, и был навеян потрясениями, которые пережил юный художник. Более того, «революционно»-богоборческий характер Хама также близок по своему пафосу общим настроениям русской общественной жизни 1917–1920-х годов и во многом предвосхищает гонения на таких же правдоискателей — писателей, мыслителей, ученых.
Хам, отвергнутый и прогнанный отцом, поет свою последнюю Песню: «Ветер гонит в спину меня. Когда приду на место, не стоящее под непогодой, положу четыре камня, высеку огонь. Я обсушу мокрую спину и пошлю камень в ту сторону, где твои стада. Пусть ты, услыша свист его, вспомнишь жалобные дни ковчега» (143). Находясь в изгнании, Хам лишь укрепляется в надежде обрести счастливый дом на земле. В этом доме он будет защищен от «непогоды» и согрет огнем. Образ уютного дома Хам противопоставляет ковчегу, «жалобным» дням которого приходит конец: если огонь, разведенный Иафетом, «пожирал крышу» убежища, то Хам закладывает символический фундамент дома. Сын Ноя в своей Песне «рисует» себя хранителем огня: «…это Тот, который там, вверху, велел вам забыть об огне <…>» (143). Символический смысл огненной стихии проявлен правдоискательством Хама, его желанием озарить человеческую жизнь светом истины10. И именно это желание обрекает Хама на изгнание из родных краев.
Таким образом, в основу своего рассказа Л. Леонов положил библейский сюжет о Всемирном потопе. Но этот сюжет творчески переосмыслен. Заимствуя из Ветхого Завета образ спасительного ковчега, имена персонажей и общую событийную канву, писатель изменяет их смысл. Так, Хам оказывается не столько грешником, сколько истовым правдоискателем. Но именно герой-правдоискатель в художественном мире Леонова обречен на изгнание и презрение. Этот мир проходит разные исторические циклы, изображение которых связано с усилением либо с разрушением идиллической образности. Результат этого движения открывает идейно-философскую основу рассказа: вслед за потопом наступает разобщенность людей и изгнание лучшего из сыновей Ноя. Данный сюжет связан с социально-политической ситуацией пореволюционной России, пониманием тупиковости «прогрессивных» путей, которыми пошло человечество и современная цивилизация, и потому каждый последующий виток истории будет скатываться в «глубины и пустоты». Эсхатология истории мудро увидена писателем в самых древних пластах культуры. Этот взгляд на историю состоит не в еретическом своеволии автора, а в его глубинном прозрении, которое Леонов и запечатлел в рассказе.
Список литературы Апокалиптические образы в рассказе Л. Леонова "Уход хама"
- Батурина Н. В. Смысловые доминанты прозы Л. М. Леонова//Альманах современной науки и образования. -2015. -№ 11 (101). -С. 17-19.
- Бахтин М. М. Собрание cочинений: в 7 т. Т. 3: Теория романа (1930-1961 гг.). -М.: Языки славянских культур, 2012. -879 с.
- Вахитова Т. М. Художественная картина мира в прозе Леонида Леонова (структура, поэтика, эволюция). -СПб.: Наука, 2007. -317 с.
- Гумбольдт В. Язык и философия культуры. -М.: Прогресс, 1985. -452 с.
- Дырдин А. А. Вещественность пространства и метафизика мира вещей в прозе Л. М. Леонова//Художественно-философские модели мироздания в творчестве Л. М. Леонова и в русской литературе XIX -начала XXI столетий: материалы VIII Международной научной конференции. -Ульяновск: УлГТУ, 2011. -С. 51-59.
- Дырдин А. А. Проза Леонида Леонова: метафизика мысли. -М.: ИД «Синергия», 2012. -294 с.
- Зорина А. О. Поэтика рассказов Леонида Леонова 1920-х годов: дис. … канд. филол. наук. -Киров, 2015. -146 с.
- Лысов А. Г. Раннее творчество Леонида Леонова. Концепция культуры: автореф. дис. … канд. филол. наук. -Л., 1980. -20 с.
- Петишева В. А., Лобова Е. П. Мифопоэтические мотивы в произведениях Л. М. Леонова 1920-30-х годов//Вестник ВЭГУ. -2011. -№ 4. -С. 96-102.
- Прилепин З. Леонид Леонов: «Игра его была огромна». -М.: Молодая гвардия, 2010. -569 с.
- Серафимова В. Д. Пьесы Андрея Платонова в соотнесении с его прозой и в историко-литературном контексте (Н. Эрдман -«Самоубийца», К. Тренев -«Опыт», Л. Леонов -«Уход Хама» и др.)//Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. -2010. -№ 3. -С. 144-151.
- Туева А. О. Разновидности хронотопа в рассказах Л. М. Леонова 1920-х годов//Филологические науки. Вопросы теории и практики. -2014. -№ 10. -С. 195-200.
- Якимова Л. П. Вводный эпизод как структурный элемент поэтики Леонида Леонова. -Новосибирск: Изд-во Сибирского отд-я РАН, 2012. -248 с.