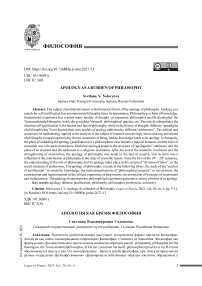Апология как бремя философии
Автор: Соловьева Светлана Владимировна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Предметом проблематизации выступают исторические формы апологии философии. Апология как поиск самооправдания сопровождал философию с момента ее появления. Философия как форма знания, фундаментального опыта создала множество образцов мысли: μεταφυσική, philosophia ancilla theologiae, die Transzendentalphilosophie, kritik der zynischen Vernunft, philosophical practice и пр. В статье обосновывается мысль о том, что самооправдание - бремя и судьба философии, при этом в истории мысли разные «парадигмы философствования» сформировали собственные образцы апологии, обращенные к разным «адресатам». Критическая и конструктивисткая методология, примененная к анализу предмета исследования, убедительно показывает, что любое движение философии в сторону легитимации собственных конструктов бытия, реальности, знания приводит к ее апологии. В Античности местом разворачивания апологии (оправдания) философского дела стала судебная инстанция, а формой исполнения - риторическое высказывание. Средневековая апология приобретает строй «апологетики» (защиты), а место ее создания и адресат - религиозная институция. По окончании научной революции и укрепления университетов апология философии производилась перед лицом науки, а ее формой была рефлексия вклада философии в исследование научного разума. Начиная с рубежа XIX-XX вв. осмысление роли философии и ее апология происходят в системе «разделения труда», или социальной структуры профессий. Апология философии производится в следующих формах: исследование «контекста оправдания» в научном познании, институционализация «философской практики» в университетах, экспертиза и легитимация этического опыта прощения, защиты заложников ресентимента и витимности. Ранжированость современного философского опыта порождает разнообразие форм его апологии.
Апология, защита, оправдание, философия, философ, профессия, университет
Короткий адрес: https://sciup.org/149140532
IDR: 149140532 | УДК: 101.9(091) | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2021.4.1
Текст научной статьи Апология как бремя философии
DOI:
Цитирование. Соловьева С. В. Апология как бремя философии // Logos et Praxis. – 2021. – Т. 20, № 4. – С. 5–14. – DOI:
Проблема апологии философии: исторический контекст
Философ, однажды появившись в культуре, сразу фактом своего существования сформировал вопрос: зачем он нужен обществу? За долгую историю существования в культуре были даны сотни уникальных ответов, но этот вопрос до сих пор актуален.
Апология как поиск самооправдания сопровождал философию с момента ее появления. Если, по словам А.Л. Доброхотова, «эмпирическая наука не нуждалась в такого рода апологии», то спекулятивная мысль не имела сходных гарантий в открытии «объективной общезначимой истины» [Доброхотов 1986, 6]. Открытие бытия, числа, слова выступило подспорьем апологии, хотя изначально защита философии становится бременем и судьбой мысли, при этом каждая историческая эпоха создала и «парадигму философствования» [Конев 1991], и собственные образцы апологии.
Шаг первый – Античность. Исторически первая форма апологии философии принадлежит Сократу / Платону. Тут апология встроена в судебную риторику и выполнена под ее формальным влиянием, но, по сути, предстает в жертвенности мыслителя. Сократ на суде не искал оправдания: «Ни одного из них [близких и детей] я не привел сюда и не буду просить вас об оправдании. Почему же, однако, я не сделаю ничего подобного? Не вследствие надменности, афиняне, не из презрения к вам. <…> Мне кажется, и несправедливым – просить судью и стараться избегать наказания просьбами; судью следует наставлять и убеждать» [Платон web].
Во времена прямой демократии апология философии необходима для выстраивания границы поля познания. Платон пишет о том, что философ обязан вносить в общественный быт то, что он «усматривает наверху», включая набросок общественного устройства [Платон 1994, 281]. Апологетический характер философствования усиливала конкуренция с софистами и риторами, оказывающими заметное влияние на легитимацию рационального знания. Платон перечисляет искусства, где преуспевают софисты: искусство очищать, различать, искусство обучать, воспитывать. Софист – это «платный охотник за молодыми и богатыми людьми», «крупный торговец знаниями, обращающими к душе», «борец в словесных состязаниях», «искусник в прекословии», который учит этому других [Платон 1993, 294–295]. Философа в отличии от софиста «нелегко различить из-за «ослепительного блеска» божественного, он выделяет «предметы диалектического знания», занимаясь наукой «людей свободных» [Платон 1993, 324–325]. Борьба философии и софистики за признание наполнена драматизмом и жертвенностью. Местом представления апологии (защиты) философа выступает судебная инстанция, формой исполнения – риторическое высказывание.
Второй шаг – Средневековье. «Philosophia anсilla theolоgiae» или «сredo ut intеlligаm» сбли- жают дело философа с мастерством апологета и встречаются на территории мудрости. Августин различил Мудрость Господню и мудрость сотворенную – разумную природу, ставшую «светом от созерцания света», но имеющую ограниченную силу оправдания: «Мудрость, которая творит, отличается от той, которая сотворена; как правда оправдывающая отличается от правды, восстановленной оправданием. И о нас ведь сказано, что мы оправданы Тобой» [Августин 2000, 203]. Метафора светоносности оправдания – характерный образ христианского миросозерцания.
Апология – не только защита, подпорка, но и выявление связанности мышления с «правдой бытия». Апологетика стала местом пересечения античного Логоса и способом «прилепиться к Богу, пребывая в самом себе». Как пишет В.В. Бычков, апологеты, пытаясь защитить христианскую веру, выступили в «чине первых философов культуры»; апологеты – это не ученые или философы, но «активные деятели, реальные бойцы, защитники и строители новой религиозной жизни» [Бычков 1995, 63]. Мудрость апологета – в критическом исследовании и адаптации античной культуры к нуждам нового ментального порядка; культура поздней Античности «руками апологетов как бы выворачивала себя наизнанку» [Бычков 1995, 65]. Хотя бремя философии принимает черты господства и превращается в апологетику, апология мудрости приобретает самые драматические очертания. Здесь на философию был возложен огромный груз и бремя ответственности – сокрыться и стать инструментом власти Слова как максимум, а как минимум – искусным защитником уже имеющихся истин. Философия не могла выйти из тени, неразличимости, с одной стороны, и тотальной инструментальности, с другой.
Шаг третий – Новое время, время испытания наукой. Очевидность места философии в культуре исчезает, начинается поиск новых форм апологии. Оправдание искали в рациональности, гуманности, свободе и пр. Философы сначала возглавили научную революцию, а потом ей же и проиграли: «наука сама себе философия» (позитивизм). Свержение схоластики (и ее опоры апологетики) с вершины интеллектуальной власти, формирова-
С.В. Соловьева . Апология как бремя философии ние концепта трансцендентального разума начиналось с «оправдания» дела философии с позиции научной картины мира. Бэкон назвал теологию и метафизику «идолами театра»; уже философия Пифагора, по его мнению, была подобна грубому и обременительному суеверию. Декарт захватывает философским инструментарием поле теологии, показывая, что познание Бога и души «надлежит доказывать скорее доводами философии, нежели теологии» [Декарт 1994б, 4]. Рациональное познание метафизических вопросов он считает «самым полезным свершением в философии» [Декарт 1994б, 5]. Философы включились в отвоевывание позиций внутри университетов. Декарт пишет о том, что отсутствие возможности свободно отвечать на аргументы медиков и теологов породило слухи на факультетах, что «плохо защищается новая философия, дабы люди сделали отсюда вывод, что философия эта не заслуживает публичного преподавания» [Декарт 1994а, 433]. Ситуация кажется до боли знакомой и современной.
В XIX в. идеалы научной рациональности объявили о себе во многих философских проектах. Дело философии тогда будет оправдано, когда она получит статус науки. Гегель ставит целью философию приблизиться к форме науки, «отказаться от своего имени любви к знанию и быть действительным знанием » [Гегель 2000, 10]. Философия XIX–ХХ вв. существует в контексте культа науки, будь то «сциентистская апологетика» или «антисциентистская критика» [Миронов 2005, 42]. Под напором науки философия превращается в ее методологический извод, а критическая традиция приводит к потере философией статуса «эпистемологически первичного» знания: она говорит не о мире, но о возможностях разума. «Философия есть система чистого разума (наука)», которая существует в варианте «пропедевтики» / критики (исследование способности разума в отношении всего чистого априорного знания) или в качестве метафизики ( спекулятивное и практическое применение чистого разума) [Кант 1994, 612]. Кант берет под защиту термин « идея », чтобы создать апологию трансцендентального применения разума, «определить влияние и ценность чистого разума» [Кант 1994, 287].
Современные формы апологии философии. Испытание профессией
Шаг четвертый – испытание профессией (XX–XXI вв.). Философ перешел в сегментированный мир профессий. Профессия преподавателя университета институциализировалась в эпоху Средневековья, а философский факультет существовал наряду с теологическим, медицинским и юридическим. Место философии внутри университета серьезно не оспаривалось. Такой символический атавизм, как Dоctоr of Philоsорhy, – лишнее тому свидетельство. Философ ушел из риторики, открытого политического процесса, рынка и площади, но остался в университете, занял свое место в системе академического знания.
Философ стал трудовой функцией как исследователь и преподаватель, включился в менеджмент знания, хотя сотнями лет выстраивал дистанцию по отношению к конкурентной борьбе за право на труд и право на голос. Если ранее он не оправдывал свое существование в мире профессий, то в современности все меняется. В XXI в. возникают дополнительные трудности, он встраивается в сервильное общество капитализма на прочих равных условиях с другими востребованными и менее экзотичными профессиями.
В документе «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (2012) философ в профессиональном поле присутствует в качестве научного сотрудника, стажера-исследователя (в области философии, истории и политологии), преподавателя (в колледжах, университетах и других вузах). Еще в начале ХХ в. исследование и преподавание стало производством и профессией, встроенной в научное государственно-капиталистическое предприятие, где профессиональное признание получают в условиях «строжайшей специализации» [Вебер 1990, 707].
Насколько философия может освоиться в мире профессий и профессионализма? Ситуацию усложняет то обстоятельство, что концепт «профессия» превращаться из перечня понятных навыков / знаний в гибкий, пересобираемый «портфель компетенций». Если опираться на старое понимание профессии, то философ вписывается в рынок труда: есть автономное сообщество, стабильная деятельность, требующая специальных навыков и выступающая источником дохода. Если наполнять новым содержанием понятие профессионализма, то философское дело может быть рассмотрено как «воображаемое сообщество», общность, базирующаяся на общей символике и идентичности [Щепанская 2011, 87]; или группа, обеспечивающая баланс сил во взаимосвязанной системе капиталистической экономики и рационально-правового социального порядка [Романов, Ярская-Смирнова 2011, 65]. Философ выдерживает эту систему критериев, но объем предложений на рынке труда фатально низок, и никакая форма апологии не «наращивает» социальное признание. Он все чаще рассуждает о возможной легитимизации в сфере PR, коммуникации («толмач, посредник, универсальный коммуникатор»), бизнесе (в команде организационных консультантов, психологов) [Говорунов web]. Профессиональная карьерная траектория философа теряет горизонты определенности.
Утрата эталонности классического университета, отсутствие идеологической востребованности усиливают рефлексию профессиональной идентичности философа. Ведущими площадками обсуждения проблемы стали СПбГУ, Российское философское общество (далее – РФО), журнал «Личность. Культура. Общество». В СПбГУ (2005–2011 гг.) прошли круглые столы, семинары «Философия как профессия» [Круглый стол 2005 web, Круглый стол 2011 web]. В.В. Савчук говорил о том, что сопротивление философии происходит и «изнутри философского сообщества» (сопротивляется жизни), и «извне, когда жизнь сопротивляется философии». Рядовым явлением преподавания становится мотивированное «искушение немысли». К.С. Пигров полагает, что философ и исследователь не отличаются, и, хотя философов называют «органическими дилетантами», подверстать древнее занятие под «прокрустово ложе» массового производства «получается плохо» [Круглый стол 2005 web]. Тематизация профессиональной идентичности философа представлена в монографии В.Е. Семенкова «Философское знание: модусы производства и признания», где уникальными «компетенциями» философа названы «навык чтения текстов», «навык ин- тертекстуальности». Исследуя стратегии, условия и модусы социального признания автор выделяет и описывает стратегии профессиональной идентичности философа («социальное микширование» и «профессиональный пуризм») [Семенков 2011, 75–102].
Вклад в борьбу за институциональное признание и апологию философии вносят Российское философское общество и открытая научная площадка журнала «Личность. Культура. Общество». В стратегии развития РФО заявлен проект «В защиту философии» (целевая аудитория – те преподаватели философии, которые занимаются научно-образовательной деятельностью и часто испытывают на себе бюрократическое давление). Инициативы РФО направлены и на профессиональное сообщество, и на тех, кто готов заниматься философией как формой интеллектуальной и экзистенциальной практики («Философские движения и практики» и «Народная академия философии»).
Проблема защиты философа и дела философии уже несколько десятилетий обсуждаемся в журнале «Личность. Культура. Общество». Ведущие исследователи Д.И. Дубровский, В.А. Конев, В.А. Лекторский, Б.В. Марков, В.Н. Мотрошилова, В.Н. Порус, Ю.М. Резник, В.Н. Розин, С.А. Смирнов, Г.В. Тульчинский, В.Н. Шевченко и многие другие представили собственное видение процессов, происходящих в профессиональном философском поле России. Обсуждая борьбу за институциональное признание философии в образовании («выпадение философии из высшего образования... есть симптом культурной катастрофы» [Порус, Резник 2020, 237]) или науке, ученые настаивают на необходимости существования философии в границах институтов, поскольку редуцирование философствования к практическому консультированию может приводить к потере ее специфики. Поэтому философия под силу только профессионалам [Докучаев, Резник 2021].
Иную позиция занимает Лу Маринофф, который философские практики рассматривает как интеллектуальный, этический и институциональный проект. Философские практики (консультирование клиентов, философия с группами и поклонниками, «корпоративный философ») серьезно расширяют репертуар ролей философа в обществе. Автор пишет о профессионализации деятельности (создании профессии и ее регулировании), стратегиях маркетингового продвижения через исследовательские программы IRB (Institutional review board, наблюдательный совет учреждения), создании сети профессиональных сообществ [Marinoff 2001]. В Нью-Йорке законодательное признание профессии находится в ведении Департамента образования и предполагает выполнение следующих требований: наличие аккредитованных профессиональными органами программ обучения в университетах, установленные критерии (включая экзамен) для сертификации практикующих специалистов, установленный объем знаний (отраженных в публикациях), установленный этический кодекс [Marinoff 2001, 199–227]. Американский исследователь полагает, что приоритетным для профессионализации философской практики выступает консультирование, а значит, на этом должны быть сосредоточены усилия сообщества по законодательному признанию.
Ориентация философии на легитимацию профессионального видения предполагает ее апологию, обращенную к разным институтам и группам. В Античности апология как оправдание философии разворачивалась в суде в форме риторического высказывания. Средневековая апология философии получает форму апологетики (защиты, доказательства), а местом ее конституирования становятся религиозные институты. Рождение общества модерна, научная революция, рост университетов привели к необходимости апологии философии перед лицом науки в форме защиты вклада философии в исследование научного разума. На рубеже XIX–XX вв. апология философии осуществляется в горизонте мира профессий и системы «разделения труда». Современный стиль апологии философии часто носит апофатический характер: границы философии осмысляются через ее фундаментальные отличия от науки, политики, власти, «критического мышления» и пр. Ведущей формой апологии выступает экспертное суждение / заключение, вес которого, как показывает институциональная история философских наук, становится все менее значимым.
В философии науки ХХ в. эксплицированы процедуры «оправдания теории» через соотнесение ее с эмпирическими данными (верификация, фальсификация), что, по словам В.С. Швырева, привело к смягчению противопоставления «контекста оправдания» и «контекста открытия». Часть западных исследователей объясняют доминирование в 50–60-е гг. ХХ в. «свободной от ценности» философии науки политико-экономическими мотивами, где философы-аналитики монопольно «использовали институциональный контроль для маргинализации конкурирующих подходов» [Vaesen, Katzav 2019]. Указанный подход предполагает отказ от «ценностной нагруженности» философского исследования науки. За этой формой апологии кроется знакомая стратегия обретения философией своего места – профессионализация через «отвоевывание» места в дисциплинарной сетке наук. Пример такого рода апологии математики и философии дается в статье В.А. Еровенко [Еровенко 2018].
Институциональный и научно-образовательный контекст апологии философии не является единственным в современной культуре. Ему противостоит практическая философия, которая имеет бóльший уровень доступности, но более низкие профессиональные стандарты (она захватывает только уровень философского просвещения).
Философия как этический проект. Множественность форм апологии
Любая апология предполагает ценностный выбор, рассмотрение чего-то со стороны значимости для человека. Это открывает значение философии как этического и экзистенциального проекта. В ХХ в. тема апологии предполагает обращение к тематике ресен-тимента и виктимности, жертвы. Может ли случиться так, что философия попадет в ловушку ресентимента, того чувства зависти, мстительности, которое она не одно столетие избирает предметом рефлексии?
Часть исследователей утверждает, что, возмущаясь, мы «обязательно заявляем о добре», а также «о нашем собственном статусе морального деятеля, заслуживающего уважения». Следовательно, практики негодования, включая эмоциональные, являются, по мнению А. Маклахлан, моральными. Подчеркивая моральную функцию негодования, она утверждает, что «философы оказали важную услугу разгневанным жертвам политического насилия, которые часто лишены голоса, за исключением их способности четко формулировать и выражать свое мнение» [MacLachlan 2010, 422–423]. Философы «спасли негодование», соединив его с «очевидными, узнаваемыми моральными ценностями»: справедливостью, привлечением других к ответственности, самоуважением. Апология философии как этический проект теряет черты универсальности и начинает вписываться в многоголосье социального хора, где голосом наделяется каждый, где не столько у всех, сколько у каждого есть индивидуальный этический и политический план философской рефлексии. А. Маклахлан разделяет феноменологию эмоциональности (emotional phenomenology) и философскую парадигму разумного негодования (philosophical paradigm of reasonable resentment), в основе которой лежат морально и политически ценные роли. «Оспаривая определения негодования (resentment), мы делаем больше, чем просто ведем дела в рамках философской систематики эмоций», – заключает автор [MacLachlan 2010, 423]. Так философ, осуществляя экспертизу ресенти-мента, призывает обратить внимание на политический и моральный смысл негодования, обиды. За феноменологией эмоций существует план исследования «разумных», социальных, политических оснований ресентимен-та. Поиск новых форм апологии философии позволяет включать в репертуар рефлексии травмированное и протестное мышление, где философия способна укореняться по «разным сторонам баррикад».
Внутри философии сокрыты разные формы самоисцеления, «прощения» и нравственного очищения от виктимности / ощущения жертвы до социальной машинерии и ресенти-мента. Самостоятельный философский опыт может быть рассмотрен как рационализованный этический проект современного человека, осуществляющего саморефлексию и са-мореформирование, выстраивающего свой экзистенциальный опыт под знаком чувства достоинства, обязанности уважать и признавать достоинство всех разумных существ. П. Санте в работе «Прощение и нравственное развитие» [Satne 2016] толкует нравствен- ную теорию Канта через интерпретацию прощения как важнейшего аспекта нравственной жизни. Сократ, М. Ганди, Н. Мандела сумели простить без ущерба для собственного достоинства, хотя часто прощение воспринимается как проявление слабости и малодушия, отказ от попытки сопротивления в ситуации ущемления человеческого в человеке [Satne 2016, 1052].
Апология (и вклад философии в этот культурный опыт) может быть осмыслена через понятие прощения, которое имеет глубокое религиозное содержание. Понятие оправдания – ведущая категория нравственной философии Владимира Соловьева. Он полагал, что любое целостное философское учение о нравственности не ограничивается констатацией базовых положений, характеризующих человеческую природу, но требует их дальнейшего развития и оправдания. Для Соловьева только принцип обладает неприкосновенностью, все остальное требует оправдания. Принцип же обладает статусом всеобщности и относится, как пишет философ, « ко всем без исключения ». Подобный статус приписывается следующему утверждению: « Принцип человеческого достоинства, или безусловное значение каждого лица, в силу чего общество определяется как внутреннее, свободное согласие всех , – вот единственная нравственная норма» [Соловьев 2012, 401]. Философия находит свое оправдание ровно в той мере, насколько она способна, подобно чистой математике, не заниматься «прожектерством» и «прорицательством», но формулировать и отвечать на вопрос: «При каких условиях общественные отношения в данной сфере соответствуют требованиям нравственного начала и обеспечивают данному обществу прочное существование и постоянное совершенствование?» [Соловьев 2012, 495]. Всякий переход от субъективного, индивидуального в план всеобщего требует своего оправдания, поэтому философия, считает русский мыслитель, становится одним из важнейших инструментов и показательным примером перехода от частного в план общности.
Философия вносит собственный вклад в культурный опыт апологии, особенно ее голос важен для современности, где для цивилизации «нового модерна» плюрализм, множе- ственность, возрастание свободы, проблема выбора (а не поиск истины!) будут иметь решающее значение. Поэтому вопрос об оправдании выбора, основанного на абсолютной свободе человека (что демонстрирует все актуальное искусство, включая перформансы М. Абрамович), приобретает фундаментальный смысл. У этого выбора кроме (ир)рацио-нального основания будет присутствовать этический план, который потребует оправдания добра, защиты морального начала. Вклад философии в конституирование этого опыта, работа по апологии есть практическое дело философии. Создавая апологию этическому опыту, она получает оправдание своему существованию в культуре. Защита и оправдание философии связаны с социальным опытом апологии. Так оправдание морального выбора становится оправданием философии.
Для исследовании апологии как бремени (?) философии является важным акцент на экспликации философского высказывания как ценностного, которое можно рассмотреть в широком социокультурном контексте. Он фиксирует этическую ответственность философии, ее «человекоцентризм», рассмотрение оправдательного довода в категориях достойного и недостойного. Через акт апологии, оправдания нормативное и ценностное высказывания включаются как в научный поиск (что выражает суть постпозитивизма), так и в реабилитацию философии в техногенном мире, где техническое (существо которого М. Хайдеггер фиксирует понятием «постав»), казалось бы, побеждает этическое и гуманистическое начало.
Список литературы Апология как бремя философии
- Агустин 2000 -АвгустинА. Исповедь / пер. М.Е. Сергееню. СПб.: Наука, 2000.
- Бычков 1995 - Бычков В.В. AESTHETICA РА1Ж1М. Эстетика Отцов Церкви: Апологеты. Блаженный Августин. М.: Ладомир, 1995.
- Вебер 1990 - Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. С. 707-735.
- Гегель 2000 - Гегель Г.В. Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000.
- Говорунов web - Говорунов А.В. Мастер и профессионал: философия как профессия // http:// philosophy.spbu.ru/1736/7618/8568.
- Декарт 1994а - Декарт Р. Глубокочтимому отцу Дине, провинциальному настоятелю Франции, Рене Декарт шлет свой привет // Декарт Р. Сочинения. В 2 т. Т. 2: пер. с лат. и фр. / сост., ред. и примеч. В.В. Соколова. М.: Мысль, 1994. С. 418-446.
- Декарт 19946 - Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом // Декарт Р. Сочинения. В 2 т. Т. 2: пер. с лат. и фр. / сост., ред. и примеч. B.В. Соколова. М.: Мысль, 1994. С. 3-72.
- Доброхотов 1986 - Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М.: Изд -во Моск. ун-та, 1986.
- Докучаев, Резник 2021 - Докучаев И. И., Резник Ю.М. Философ и его роль в обществе // Личность. Культура. Общество. 2021. Т. 23, №> 1/2 (109/110). C. 223-237.
- Еровенко 2018 - Еровенко В.А. «Апология математики» в разнообразных взаимодействиях философских и математических исследований // Гуманитарные науки в России. 2018. Т. 7, №№5. С. 335-345.
- Кант 1994 - Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения. В 8 т. Т. 3. М.: Чоро, 1994.
- Конев 1991 - Конев В.А. Философия культуры и парадигмы философского мышления // Философские науки. 1991. №№ 6. С. 16-29.
- Круглый стол 2005 web - Круглый стол «Философия как профессия / Philosophie als beruf» (20 июня 2005 г.) // http://anthropology.ru/ru/ text/govorunov-av/filosofiya-kak-professiya-teksty-vystupleniy.
- Круглый стол 2011 web - Круглый стол «Философия как профессия - 3 / Philosophie als beruf - 3» в рамках Дней философии в Петербурге (2011 г.) // http://anthropology.ru/ru/periodical/filosofiya-kak-professiya-philosophie-als-beruf.
- Миронов 2005 - Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры. М.: Соврем. тетр., 2005. Платон web - Платон. Апология Сократа / пер. С.А. Жебелева // https://www.plato.spbu.ru/ TEXT S/PLATO/Academia/001-03.pdf.
- Платон 1993 - Платон. Софист // Платон . Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2 / общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи; примеч. А.Ф. Лосева, А.А. Тахо-Годи; пер. с древне-греч. М.: Мысль, 1993. С. 275-345.
- Платон 1994 - Платон. Государство // Платон. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 3 / пер. с древне-греч.; общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи; авт. вступ. ст. и ст. в примеч. А.Ф. Лосев; примеч. А.А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1994. С. 79-420.
- Порус, Резник 2020 - Порус В.Н., Резник Ю.М. О современной ситуации в отечественной философии (23 марта 2020 г.) // Личность. Культура. Общество. 2020. Т. 22, вып. 1/2 (№ 105/106). С. 226-238.
- Романов, Ярская-Смирнова 2011 - Романов П., Ярская-Смирнова Е. Идеологии профессионализма и социальное государство // Романов П., Ярская-Смирнова Е. (ред.). Антропология профессий, или Посторонним вход разрешен. М.: Вариант: ЦСПГИ, 2011. С. 64-82. (Библиотека Журнала исследований социальной политики).
- Семенков 2011 - Семенков В.Е. Философское знание: модусы производства и признания. СПб.: Алетейя, 2011.
- Соловьев 2012 - Соловьев Вл. Оправдание добра / отв. ред. О.А. Платонов. М.: Ин-т рус. цивилизации: Алгоритм, 2012.
- Щепанская 2011 - Щепанская Т. Символизация повседневности и неформальный контроль в профессиональном сообществе (по материалам сравнительно-этнографического исследования профессий в России, конец XX - начало XXI вв.) // Романов П., Ярская-Смирнова Е. (ред.). Антропология профессий, или Посторонним вход разрешен. М.: Вариант: ЦСПГИ, 2011. С. 85-112. (Библиотека Журнала исследований социальной политики).
- MacLachlan 2010 - MacLachlan A. Unreasonable Resentments // Journal of Social Philosophy. 2010. Vol. 41, №№ 4 (Winter). Р. 422-441. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9833.2010.01508.x.
- Marinoff 2001- Marinoff L. Philosophical Practice. N. Y.: Academic Press, 2002. DOI: https://doi.org/ 10.1016/B978-0-12-471555-4.X5000-4.
- Satne 2016 - Satne P. Forgiveness and Moral Development // Philosophia. 2016. №> 44. Р 1029-1055. DOI: https:/ /doi.org/10.1007/s11406-016-9727-6.
- Vaesen, Katzav 2019 - Vaesen K., Katzav J. The National Science Foundation and Philosophy of Science's Withdrawal from Social Concerns // Studies in History and Philosophy of Science. Part A. 2019. Vol. 78. P. 73-82. DOI: https:// doi.org/10.1016/j.shpsa.2019.01.001.