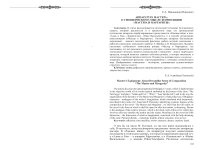Аппаратура мастера: о сновидческом смысле композиции «Мастера и Маргариты»
Автор: Иваньшина Елена Александровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (33), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается оптический потенциал булгаковского сюжета, который реализуется и в предметном мире его произведений (оптические аппараты, атрибутированные героям повести «Роковые яйца» и пьес «Адам и Ева», «Блаженство», «Иван Васильевич»), и в способе организации повествования («Мастер и Маргарита»). Оптические аппараты булгаковских персонажей - аналоги писательской фантазии, работа которой соотносима с работой сновидения, описанной в работах З. Фрейда и П. Флоренского. Выявляя системные особенности композиции романа «Мастер и Маргарита», мы показываем, что вся реальность романа в том виде, в каком она открывается для затекстового читателя, является сновидческой. Сновидение - аналог творческого процесса, который является главным событием романа, в которое вовлечены и затекстовые двойники автора и читателя. Упомянутое в романе пятое измерение - измерение творческой фантазии, структурированное с помощью сновидческого кода. Изображенные сновидения - метатропы, удваивающие художественную структуру, тексты в тексте.
Рефлексия, машина времени, зеркало, память, сновидение, творчество, смерть
Короткий адрес: https://sciup.org/14914488
IDR: 14914488
Текст научной статьи Аппаратура мастера: о сновидческом смысле композиции «Мастера и Маргариты»
О чем бы ни писал М. Булгаков, он так или иначе высказывался о себе. В частности, автор неоднократно предъявляет читателю аппаратуру мастера. В «Роковых яйцах» эта аппаратура получает вещественное воплощение в оптических камерах, в которых воспроизведен красный луч, в «Адаме и Еве» - в аппарате Ефросимова, а в «Блаженстве» и «Иване Васильевиче» - в машине Рейна/Тимофеева. Различные оптические аппараты не только способствуют развитию событий в фабульном плане, где они являются атрибутами персонажей, но и представляют собой аналоги авторской фантазии как силы, в которой определяющим моментом является специфическое креативное зрение. В аппаратуре материализуется нематериальный творческий инструментарий мастера. Те возможности, которые предоставляет аппаратура, есть у писателя, и главная возможность - свободное передвижение в пространстве и времени посредством слова. Машина времени выполняет функцию метатропа по отношению ко всему «аппаратному» ряду: булгаковский текст выполняет функцию машины времени и рефлексирует на эту тему1.
Оптическая аппаратура у Булгакова осмысливается как активатор культурной памяти. Это инструмент визуализации невидимого, подобный микроскопу или зеркалу. Зеркало - метафора памяти и сновидения. Работа памяти и работа сновидения имеют сходные механизмы (вытеснение, замещение, сгущение, монтаж образов). Память - актуализация утраченного, вытесненного; сон - реактивация прошлых (вытесненных) впечатлений (переживаний). Память - театр теней, зеркало, в котором отражается нечто отсутствующее (и некто). В зеркале памяти преодолеваемым расстоянием становится время; посредством зеркальных отражений времена сводятся в одном пространстве, приобретающем свойство панхронности. Идея панхронизма связана с идеей музея, библиотеки, лавки древностей, кладбища. Функции зеркала выполняет и книга - основная в булгаковском мире машина времени.
Происходящее в повести «Роковые яйца» замешано на оптике и зрительной игре, в которую втянуты глаз, зеркало, объектив микроскопа и искусственный свет, с помощью которых создается новая, отраженная и искаженная реальность, морочащая сознание. Открытие Персикова сделано ночью, а ночной мир - мир бессознательного. Со сферой бессознательного связан и сюжет повести: в его основе лежат принципы вытеснения и замещения. И описание камер, и тот факт, что Рокк служил в ансамбле кинематографа «Волшебные грезы», и сам принцип монтажа как подмены в кадре одного объекта (птицы) другим (змеи) отсылают к идее кинематографа. Кино - воплощение философии оптической иллюзии.
Подобно сновидению работает и машина времени. Происходящее в пьесах о машине времени легко представить как сон инженера, тем более что в первой ремарке пьесы «Иван Васильевич» о Тимофееве сказано: «глаза от бессонницы красные»2. Числа, которые произносит изобретатель, пробуя механизм, напоминают гипнотический счет или счет при погружении в наркоз. Аппарат Тимофеева конкурирует с кино, как сам Тимофеев - с кинорежиссером Якиным, к которому уходит жена Тимофеева.
В одном из черновых вариантов пьесы «Адам и Ева» происшедшая катастрофа и все последовавшие за ней события оказываются грезой профессора, не покидавшего комнаты Адама3. Рассуждая о том, что происходит вокруг него, Ефросимов восклицает: «Это сон!»4. Кроме того, профессор просит присутствующих сказать ему формулу хлороформа5, что тоже связано с мотивом сна/смерти. Хлороформ - средство для наркоза, носящее несколько зловещий оттенок. Текст пьесы подобен сновидению, принцип «работы» которого - сокрытие мыслей сновидца (причины сновидения), придание им приемлемых цензурой форм (явное содержание сновидения).
Появление Ефросимова в «Адаме и Еве» совпадает с радиотрансляцией «Фауста». Аналогичным образом появление Иоанна Грозного в «Иване Васильевиче» связано с трансляцией «Псковитянки». Воланд появляется в костюме оперного Мефистофеля. Опера - тот аллегорический реквизит, который вписан в театрализованное пространство памяти, хорошо разбирается на цитаты (музыкальные, костюмные) и, следовательно, компактно переносится во времени. Оперная музыка - канал, связывающий данный текст с текстом культуры. Оперный фон, как и музыкальный фон в целом, в булгаковских текстах является знаком цитатное™ (пародийности), маркером ретрансляции. С оперой так или иначе связаны все помнящие булгаковские персонажи. Сниженным аналогом оперы (и театра как такового) является кинематограф.
Радиопередача, радиосвязь имеет отношение к идее сохранения звука как герметизации живого голоса в плотно закрытой бутылке. Радио в данном случае может рассматриваться как метатроп, поскольку язык радиоволн сближался с поэтическим языком. Поэзия обнаруживает в этой - «машинной» - версии культуры собственное инобытие и старается идентифицировать себя с ним6.
Аппарат Ефросимова напоминает фотографический. Фотопоэтика, как и радиопоэтика, в начале XX в. соотносилась с фигурой тайновидца в искусстве7. В способности преодолевать любые преграды и покровы функция тайновидца в искусстве соотносима с функцией рентгеновских лучей (ср. с лучом, открытым прозорливым профессором Персиковым).
В романе «Мастер и Маргарита» некая аппаратура упомянута в связи с сеансом черной магии в Варьете и в связи с клиникой Стравинского, но никакой специальной аппаратуры ни зрители Варьете, ни пациенты Стравинского не видят. Загадочная аппаратура остается «за скобками» и является арсеналом приемов (средств), с помощью которых автор магически воздействует на читателя. Автор в «Мастере и Маргарите» подобен и Персикову, и Ефросимову, и Рейну-Тимофееву. Его аппаратура -фантазия, дурман вымысла, с помощью которого «жизнь как она есть» превращается в цветное звуковое кино. Художник организует бегство читателя в спасительный сказочный мир, где исполняются желания (ср. с фрейдовским определением сна как исполнения тайных желаний). Могущество автора - могущество Воланда, который везде был и все видел, а потому может все подтвердить.
Вопрос о сновидениях в «Мастере и Маргарите» в той или иной мере затрагивается во многих работах8. Их авторы рассматривают сон как прием, с помощью которого изображаемая реальность оценивается как фантастическая. Вместе с тем, Е.А. Яблоков говорит о «неразрывности понятий, обозначающих различные формы существования “виртуальной” реальности: искусство/сон/смерть/Истина», лежащей в основе эстетики писателя9. Говоря о взаимной перекодировке снов и реальности10, Е.А. Яблоков соотносит реальность сна и художественную реальность как предельно сближенные, местами отождествленные11. О.И. Акатова в своем диссертационном исследовании отмечает, что близость природы сновидения и творческого процесса является осознанной Булгаковым основой его художественного мира12. Е. А. Яблоков развивает идею близости сна, смерти и театра. О театрализации пространства сна (применительно к сну Босого) пишет и В.В. Химич13. Поэтике сновидений в «Мастере и Маргарите» посвящена глава работы С. Кульюс14. Исследовательница отмечает, что сны и сновидения у позднего Булгакова, «являясь органической функциональной частью художественного единства, как правило <...> полифоничны, насыщены аллюзиями, реминисценциями, элементами пародии и автопародии, становятся одним из средств авторской игры с разновременными пластами и элементами культуры и литературы»15.
В названных работах в основном рассматриваются фрагменты булгаковской прозы, являющиеся сновидческими с точки зрения фабулы (фрагменты, в которых сновидцами явлены герои). Однако если говорить о «Мастере и Маргарите», то здесь сновидческой является вся реальность романа в том виде, в каком она открывается для затекстового читателя. В романе о творчестве эксплицирована связь, существующая между сновидением и фантазированием. Изображенные сновидения -метатропы, удваивающие художественную структуру, тексты в тексте. Помимо объявленных сновидений, в «Мастере и Маргарите» есть сновидения неявные (Бал) и не совсем сновидения (сеанс черной магии). Эти представления можно рассматривать как относящиеся к уровню автометаописания (саморазоблачения).
О том, что мир «Мастере и Маргариты» сродни миру сказок об Алисе, мы уже однажды писали16. Свое видение этой родственности приводит М. Йованович17. Все, о чем рассказано в кэрролловских сказках, происходит как бы (именно так зовут в переводе Н. Демуровой Черепаху, с которой встречается Алиса в своих странствиях), те. в снах любимого автором ребенка. Персонажи сказки - мнимости, сновидческие гротески из прочитанных книг. Персонажи «Мастера и Маргариты» - переодетые на новый манер, но вполне узнаваемые литературные фигуры, которые расставляет по своему усмотрению гроссмейстер-автор. Фигуры эти взывают к узнаванию, отгадке, как Шалтай-Болтай. Чтобы их узнать, надо хоть что-то читать, т.е. обладать культурной памятью. «Его нельзя не узнать, мой друг», - говорит мастер своему читателю Ивану о Воланде. Иван оказывается в положении Алисы, которая путается в стишках.
«Мастер и Маргарита» - каламбурный роман, как и сказки об Алисе. Вспомним знаменитый каламбур Воланда, который, назвавшись историком, ни к селу ни к городу добавляет: «Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!». Вот Берлиоз, как и обещано, по маслу идет на верную смерть: верную, потому что она уже была отрепетирована Толстым в «Анне Карениной», а здесь все идет уже как по маслу в буквальном смысле. Вспомним дверцу, ведущую в нору, в глубине которой Алиса видит сад удивительной красоты и ломает, голову, как туда попасть. «Если б моя голова и прошла, - подумала бедная Алиса, - что толку! Кому нужна голова без плечей?»18. У Булгакова мы сталкиваемся с аналогичным головоломным каламбуром, героем которого становится Берлиоз, который теряет голову. Его разумная голова пригодится автору как раз без плечей: именно в таком виде она пройдет в сновидческое пятое измерение бала. Берлиоз теряет голову буквально, Иван - фигурально:
сходит с ума, т.е. с того ума, занять который пытался поэту редактор в жанровом поучении по поводу написания антирелигиозной поэмы. Словом, происшествие на Патриарших, - вариант горя от ума, отрепетированного некогда Грибоедовым (см. каламбурное название пятой главы «Было дело в Грибоедове»), Иван и Берлиоз - раздвоенное читательское «я»: Иван -«я» поэтическое, наделенное даром воображения, «девственно чистое» (не «испорченное» знанием), верующее, склонное к обольщению вымыслом; Берлиоз - «я» прагматическое, сомневающееся, не подверженное иллюзиям и требующее доказательств («я»-редактор, цензор). Смерть Берлиоза - смерть цензуры. Последняя, как известно, фигурирует не только в тоталитарных режимах, где она является «регулятором» свободы слова, но и в теории сновидений, где она тормозит работу бессознательного.
Каламбурный фокус демонстрируется на знаменитом сеансе в Варьете, где, одевая и без того доверчивых дам, их умудряются еще и обуть (в смысле надуть), в результате чего расположенные к разоблачению гражданки оказываются за пределами театра в весьма пикантном облачении. И, наконец, нельзя не вспомнить «зазеркальный» поступок Афрания, адекватно откликнувшегося на просьбу Пилата спасти Иуду из Кириафа. Только в «зазеркальном» смысле спасти следует понимать как убить19. Именно так понимает двусмысленный приказ прокуратора его тайный агент, и как раз такой - обратный, «зазеркальный» - смысл вкладывает в свои слова осторожный Пилат.
Сновидческий монтаж с перетеканием предметов и признаков из романа в роман (имеется в виду написанное мастером о Пилате и написанное кем-то о мастере), в результате чего московский и ершалаимский компоненты пронизаны многочисленными синонимическими мотивными связями, проанализированными в известной статье20 (подобными же связями пронизаны и две сказки об Алисе: вторая сказка призвана вернуть Алису в то время, когда она была героиней первой истории), заставляет вспомнить лавку Овцы с «перетекающими» друг в друга экспонатами (ср. с взятой из романа о Пилате бутылкой Фалернского вина, которым отравили мастера и Маргариту). В романе этой лавке соответствует сновидческий магазин, в котором и одевают доверчивых гражданок.
Композицию романа П. Абрахам возводит к рисунку на обложке книги П.А. Флоренского «Мнимости в геометрии» (гравюре, выполненной В. Фаворским)21 и утверждает, что в произведение (Булгакова) входит пространство книги (Флоренского)22. Вряд ли Булгаков намеревался художественно проиллюстрировать выкладки ученого, тем более что в своей книге П.А. Флоренский рассматривает художественную модель Данте. Возможно, термин Флоренского в данном случае является знаком, отсылающим к дантевской модели, по природе своей являющейся моделью сновидческой, кинематографической, основанной на монтаже, позволяющем совмещать в одном изображении различные временные и пространственные координаты (панхронизм и пантопизм). «Гораздо большее значение для Булгакова имели <...> эксперименты с художественным пространством в литературе, в частности, в творчестве Л. Стерна, Э.-Т.-А. Гофмана, Н.В. Гоголя, а книга Флоренского лишь придала этому опыту терминологическую определенность»23.
Упомянутое в романе «пятое измерение» - измерение творческой фантазии, структурированное с помощью сновидческого кода, что не противоречит рассмотрению художественного пространства «Мастера и Маргариты» как пространства книги (письма), т.к. искусство, по П. Флоренскому, есть «оплотневшее сновидение»24. Термин Флоренского («пятое измерение») Булгаков «разыграл» по-своему, хотя произвол его по отношению к заимствованному определению в данном случае не велик. Булгаковская вечность - пространство мнимости, понимаемой как фантазия.
Главным событием «Мастера и Маргариты» становится событие сотворения и рецепции текста (устного или письменного). В концентрической системе романа сфокусированы три письменных текста: хартия Левия Матвея, роман мастера и московский роман (геральдическая конструкция). Эти тексты подобны. Читатель оказывается свидетелем создания и рецепции трех текстов (реципиентом последнего по времени создания текста становится он сам), причем каждый последующий текст включает в себя предыдущий; пространство письма расширяется по мере приближения зрительной перспективы, так что и автор, и читатель втянуты в воронку текста и отражены в его зеркале. Позицию затекстового читателя воспроизводит в тексте читатель изображенный; читательское поведение разыгрывают в романе Пилат, Маргарита, Иван Бездомный (верные читатели), Кайфа и Берлиоз с Латунским (читатели-критики, или цензоры). Реальность «Мастера и Маргариты» является для затекстового читателя тем же, чем являются для Пилата слова Иешуа, а для Маргариты и Ивана - история Иешуа и Пилата, рассказанная мастером и Воландом. Некто прямо на наших глазах сочиняет роман, в котором другой герой знакомится с другим романом, в котором, в свою очередь, третьи лица задумываются над смыслом сказанных слов.
Московский роман для затекстового читателя должен стать тем же откровением, каким роман о жестоком прокураторе Иудеи явился Ивану, а хартия Левия Матвея - Пилату. Читатель «Мастера и Маргариты», подобно Пилату и Ивану, попадает в зависимость от чужого слова и жаждет встречи со своим автором, которого ему предстоит «извлечь» из сновидческой реальности текста. Этот искомый автор - тот, кто сочинил роман о другом мастере, который, в свою очередь, сочинил роман об Иешуа, -присутствует в ткани романа, отсутствуя на этом свете. Лабиринтообразная структура романа - структура памяти; автор как центр этого лабиринта подобен мастеру и Иешуа. Воскрешение автора моделируется структурой романа как выяснение того, что он сказал перед смертью (что завещал своему читателю). Задача читателя - распутать лабиринт романа и - на основании метаописательных данных, которыми оснащен текст (ср. с ключами), - выявить закономерности, которыми обусловлен процесс его развертывания.
Булгаковский роман устроен таким образом, что следствия в нем предшествуют причинам, как и в зазеркальной стране, где сначала произносится приговор, а уж потом ведется следствие. Следствие в «Мастере и Маргарите» - роман, который некто сочинил о мастере и Маргарите, а причина - роман мастера о Понтии Пилате. Этот роман, в свою очередь, является знаком культурной памяти (те. всех литературных источников, представленных в образе одного текста). Автор московского романа - некий литератор-инкогнито, который подобен Ивану Бездомному. Он знает роман мастера и пишет его продолжение. Московский роман пародийно соотнесен с ершалаимским. Для автора московского романа существует роман некоего мастера, поглощающий его целиком. Поведение автора - поведение ученика, соперника и соавтора неизвестного мастера; свой роман автор пишет под воздействием аффектов, вызванных романом предшественника; мир чужого слова является возбудителем его собственной творческой фантазии.
Ключом к сновидению, по 3. Фрейду и П. Флоренскому, является событие, послужившее его причиной. Причина сновидения пребывает вне реальности сна и переходит в сновидение в преображенном виде, нередко являясь в событийной канве сновидения не причиной, а следствием (именно такие примеры рассматривает П. Флоренский). Точно так же ершалаимский роман присутствует в московском романе, как бы впечатываясь в него своей мотивной структурой, хотя порядок соединения и заполнения элементов внутри структуры получается иным, свободным. Композиция «Мастера и Маргариты» телеологична, как и композиция сновидения в описании П. Флоренского: московский роман (следствие) развивается ввиду ершалаимских фрагментов (конечной, телеологической причины), как бы «упирается» в них, как сновидение «упирается» в собственную причину, чтобы эта причина была обнаружена сновидцем, психический аппарат которого, исходя из цензурных соображений (цензура - термин 3. Фрейда), вытеснил ее в глубины подсознания (в «подвал», те. туда же, куда автор московского романа поселил своего предшественника, старшего по цеху, мастера).
Время в сновидении, с точки зрения дневного сознания, течет обращение, оно как бы вывернуто через себя. Как раз такое - от следствий (московский роман) к причинам (ершалаимский роман) - обращенное время сновидения и структурировано в развертывании повествования. Это и объясняет «вывернутость» композиции большого романа, где первая глава предшествует второй, а не выводится из нее, как следовало бы при дешифровке сновидения. Из обращенной, сонной перспективы изображения автор читателя не выводит намеренно, как бы оставляя его в театре своих снов, делая его соучастником своего творческого процесса. Развертывание повествования - развертывание пространства сновидения художника и изображение жизни как творческого процесса.
Автор и читатель в «Мастере и Маргарите» - соучастники этого процесса, структурированного как сновидческое событие. В этом событии читатель участвует как зритель (ср. с Иваном), а автор как гипнотизер (ср. с Воландом). Массовый гипноз, разыгранный в булгаковском романе, - это добровольный самообман, которому подвержен каждый добросовестный (в смысле склонности к обольщению) читатель. Встретившись на страницах романа, автор и читатель спасают друг друга: автор спасает читателя от культурной амнезии нового исторического времени, а читатель спасает автора от смерти. Сновидческое пространство романа - пространство встречи автора и читателя, пространство желанной мнимости.
Согласно Фрейду, сновидение в превращенной форме реализует сокровенные желания сновидца. Пилату надо знать, что сказал Иешуа перед смертью, винил ли его, прокуратора. Пилат не договорил с безумным философом. Чтобы договорить, надо повернуть время вспять, как будто казни не было. Желание Ивана - узнать продолжение истории Пилата, которую отказывается досказать мастер. Желание Маргариты - вернуть мастера и его сожженный роман. Все перечисленные желания осуществимы только во сне. Исходя из идеи близости сна - смерти - театра, которая варьируется Булгаковым в различных фабульных конфигурациях25, а также принимая во внимание характерную для писателя установку на самоостранение и «взгляд на возможную собственную судьбу из “другой” жизни, из “посмертной” реальности»26, и надо смотреть сон, пространство которого совпадает с пространством романа. Чтение романа должно отменить смерть автора, как сон Пилата должен отменить смерть Иешуа, а Бал - подобную смерти изоляцию мастера и гибель его романа. Опытом, на основе которого строятся наши представления об иной действительности, опытом перехода границ является опыт сновидческий; именно сон определяет первоначальные представления о смерти, так же как о воскресении27.
Путешествие Маргариты, как и путешествие Алисы во второй сказке, начинается перед зеркалом; коробочка с кремом падает на часы, и с этого момента для нее идет другой, параллельный отсчет времени. Этот крем аналогичен маслу, с помощью которого заснул мертвым сном плохой читатель Берлиоз. Аналогичным образом рядом с масличным жомом истекает кровью неверный Иуда.
М.О. Чудакова возводит сон Маргариты (гл. 19) и «бал висельников» к сну Татьяны из «Евгения Онегина», что позволяет рассматривать сон как план интерпретации, способ кодирования изображенной реальности и выводит роман на сновидческую интертекстуальную орбиту28. Заметим, что тот же «бал висельников» восходит не к одному, а к нескольким литературным балам, в числе которых - и сонный бал «Гробовщика», и скандальные рауты романов Достоевского, и бал «Золушки». Эту орбиту расширяет замечание М. Орлова о том, что шабаш, по мнению «скептического Лафатера», - нечто вроде сновидения, вызванного искусственно29. Кроме того, сновидцем является и герой Фантастической симфонии Г. Берлиоза: шабаш - реальность его видения30.
Бал - кульминация романного спектакля, который разыгрывается в виду предчувствуемой автором смерти, и Маргарита в этот театр смерти (который начинается не с вешалки, а с виселицы) идет готовая на все, становясь заложницей своей любви к мастеру и его роману. Что является для нее большей ценностью: любовник или его книга? Вопрос может показаться некорректным, но в том-то и дело, что Маргарита не только тайная жена мастера, но и тайная читательница его романа. Жизнь мастера как автора напрямую зависит от того, будут ли читать его книгу. Бессмертие автора - во власти читателя, поэтому они всегда вместе. Эту обоюдную ответственность автора и читателя друг перед другом и показывает бал. Это ритуально разыгранное воспоминание (поминанье), театр памяти, построенный как текст в тексте: память о прошлом предъявлена здесь Маргарите как чужая память (память Фриды, вещным аналогом которой является знаменитый платок). Бальное пространство панхронно, а кроме того, вмещает в себя все романные топосы (это одновременно квартира, храм, театр, клиника, где у каждого гостя есть своя история болезни, кун- сткамера, где экспонируются пороки, а также библиотека, где извлекаются из небытия рукописи). Воскресшие мертвецы на балу - инсценированные воспоминания, или цитаты. Бал представляет собой подобие литературного салона, загробного книжного шабаша, где читательница попадает в ожившую библиотеку и обязана выражать свое восхищение всем книгам поровну. Книги (или их герои) являются из камина как великие покойники, восстающие из пепла. Бал создает перспективу, обратную смерти (отсюда возникает и мотив перевернутого бинокля), является аналогом обратной перемотки киноленты, осуществлением тех встреч в библиотеке, которые планировал Пилат, когда думал спасти Иешуа.
Бал - артефакт, подменяющий смертельный исход другим, желаемым. Он может быть прочитан как необъявленный сон Маргариты, восходящий к сну Адриана Прохорова («Гробовщик»), В свою очередь, историю мастера и Маргариты можно трактовать как сон Ивана Бездомного31.
Бал как событие встречи Маргариты (читатель) с мастером (автор) развернут в сновидческой реальности, из которой Маргарита не возвращается (ср. с Пилатом, который в финале романа оставлен в реальности желанного сна).
В романе как бы конкурируют два сна: сон Ивана о казни, которая состоялась на Лысой горе (гл. 16), и сон Пилата, в котором эта казнь оказывается небывшей (гл. 26). После этого сна наступает мучительное пробуждение прокуратора. В гл. 32 всадники прилетают в финал романа о Пилате, где застают героя, мучимого бессонницей. Желаемое сновидение не приходит к жестокому игемону. Такова воля мастера, который не менее жесток, чем его герой. Каменная рамка, в которую оправлена эта картина, -камень запечатленного слова, которое довлеет над прокуратором Иудеи как проклятие. Пилат пребывает в том положении, в котором оставил его мастер. Облаченный в каменное слово, герой застыл в ожидании читательского суда (авторский суд лишил прокуратора возможности видеть спасительный сон, в котором он идет по лунной дороге со своим драгоценным спутником). Читателем, проявляющим милосердие к герою, здесь является Маргарита. Но груз приговора может снять с Пилата только автор, дописав более гуманный финал истории по просьбе читателей (см. реплику Воланда: «Ваш роман прочитали <...> и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен»32).
Мастер не в силах сделать небывшей казнь, которую помнит все человечество, но он может выбрать другой миг в бытии героя, в котором милосерднее было бы оставить его навеки, поставив точку в романе. Чтобы поступить с Пилатом так, как Маргарита поступает - используя право читателя - с Фридой (которой ее орудие убийства тоже подают в финале чьей-нибудь книги), или так, как пишущий московский роман поступил с Маргаритой и мастером, его надо оставить спящим и видящим желаемый сон, в котором он бредет навстречу любимому собеседнику по укатанной лунной дороге. «Милосердная высшая сила посылает персонажам сон в знак распространения на них своей воли, в знак их причастности к ней»33. Высшая воля - воля автора. Последовавший за прощением камнепад -ритуальная очистительная процедура, освобождение памяти34. Падение камня маркирует рождение зрения, его незамутненность, отсутствие прошлого35.
Сочинивший московскую историю оказался к своим героям милосерднее. Он сделал так, что мастер и Маргарита умерли вместе. Эта смерть разыгрывается в воображении пишущего, корректирующем реальность, где герои умирают порознь36. Такой финал открывается Ивану. Для других мастер умер в своей палате в клинике Стравинского, а Маргарита - в своем особняке («Всегда точный и аккуратный Азазелло хотел проверить, все ли исполнено, как нужно. И все оказалось в полном порядке. Азазелло видел, как мрачная, дожидающаяся возвращения мужа женщина вышла из своей спальни, внезапно побледнела, схватилась за сердце и, крикнув беспомощно: - Наташа! Кто-нибудь... ко мне! - упала на пол в гостиной, не дойдя до кабинета»37). Просмотрев этот вариант, Азазелло возвращается в свое измерение, к поверженным любовникам, которые лежат в подвальчике мастера.
«Сон - это семиотическое зеркало, и каждый видит в нем отражение своего языка»38. Если этическим центром романа является сон Ивана о казни на Лысой горе (гл. 16), то предшествующий этому сну сон Никанора Ивановича Босого (гл. 15) - удвоение сновидческого кода в зеркале автопародии. Сон Никанора Ивановича - сеанс саморазоблачения автора романа, оптический фокус, в котором пересеклись сновидческий и театральный коды, с помощью которых структурировано художественное пространство «Мастера и Маргариты».
Сон Босого рассматривался как прием эзопова языка, театрализации табуированных жизненных реалий39. И. Абрахам видит в «Сне Никанора Ивановича» единственную главу, которая не входит в состав сложной координации временных пластов романа40, а в образе голубоглазого конферансье - автопортрет самого Булгакова, который в произведении изобразительного искусства обычно помещается в периферийной части холста41.
В сне Босого реальная история (процесс над валютчиками) и история литературная («Скупой рыцарь») переплетаются посредством театра таким образом, что литература превращается в реальную тюремную пытку, а история становится костюмированным фарсом (камерным театром). В сне воспроизводится телескопическая перспектива романа: перед нами театр в театре, образующий причудливую историко-литературную композицию. И именно в сне Босого автор сам добровольно расстается со своей «валютой», т.е. дает читателю ключи (коды) к прочтению романа, удваивая их в структуре самой презентации (вспомним, что именно возгласом «Ключи! Ключи мои!» заканчивается представление, разыгранное Куролесовым по Пушкину). Имеются в виду театральный, сновидческий и клинический коды, которые «разоблачаются» путем удвоения.
Сеанс в Варьете, бал и сон Босого - разные формы театральности, одновременно осуществляющие провокационную подмену реальности искусством, в процессе которой сцена и зрительный зал меняются местами. Эти эпизоды перестраивают восприятие романа, меняя зрительную перспективу, перефокусируя оптику с истории на зрителя (точнее, на связь между режиссером и зрителем) и являясь автопародийными отражениями эффекта, ожидаемого от самого процесса чтения (в роли читателя оказывается Босой). Кроме того, в них осуществляется пространственная интереференция: для Варьете это совмещение магазина и театра, для бала - квартиры и театра, для сна Босого - тюрьмы и театра. Между тремя данными эпизодами существует и другая - сновидческая связь: сначала автор погружает читателя в гипнотический транс (Варьете), потом читатель спит, не осознавая этого (происходящее на балу - сон Маргариты, в котором исполняется ее заветное желание), потом он просыпается и понимает, что это быт сон. Сеанс - театральная репетиция на глазах чужой публики, Бал - кульминация посвятительного действа, прорыв своего читателя (Маргариты) к автору (мастеру) через смерть и тлен ради воскрешения художника и его рукописи, сон Босого - взгляд автора со стороны на самого себя и своего читателя как на другого, высшая точка романтической иронии. Эффект пространственной интерференции захватывает и закадровое пространство, уподобляя его клинике (эта клиника расположена в квартире читателя, где - с подачи автора - он видит сон, в котором автор оживает и разговаривает с ним).
Онтологическим фокусом романа является смерть автора, соотнесенная со смертью Иешуа и мастера. Роман телеологичен, и его финал со смертью автора связан напрямую. Может, поэтому в «Мастере и Маргарите» так много разных смертей и говорящих покойников. Как и всякий человек, размышляющий об уходе, автор романа, наверное, задавал себе вопрос: «А что потом?» и пробовал в это потом вжиться. В первой главе Воланд смеется над попыткой Берлиоза запланировать поездку в Кисловодск: он замечает, что ничто из запланированного редактором (ни заседание МАССОЛИТа, ни поездка в Кисловодск) не может состояться по причине его внезапной скорой смерти. Однако сам этот разговор после смерти Берлиоза все-таки будет продолжен, хотя вестись он будет с головой покойного.
Ситуация разговора, прерванного смертью, но предполагающего продолжение, разыгрывается в изображенной реальности вымышленных персонажей, чтобы стать отражением реальной творческой перспективы, которую «планирует» для себя автор «Мастера и Маргариты». Встреча после смерти происходит и в финале романа, когда, после последних слов мастера, Пилат устремляется по лунной дороге к своему долгожданному собеседнику, чтобы отныне и навеки быть всегда вместе. Следовательно, разговор автора с читателем тоже может быть продолжен и после смерти автора, как будто ее не было. Ю.М. Лотман определяет сон как семиотический эксперимент, как сообщение, говорящее на непонятном языке. «Восприятие сна как сообщения подразумевало понятие о том, от кого это сообщение исходит. В дальнейшем, в более развитых мифологических сферах, сон отождествляется с чужим пророческим голосом, то есть представляет обращение Его ко мне. <...> Сон воспринимался как сообщение от таинственного другого <...>»42. Этот таинственный другой - автор. Автор романа подобен Иешуа, а читатель -Пилату. Смерти нет... Эти слова, попавшие в хартию Левия Матвея, возможно, и являются тайным посланием автора читателю, которое должно осуществиться в ходе чтения. Безжалостная к плоти, смерть зачастую бессильна перед словом. Автор планирует гораздо дальше, чем Берлиоз. После своей смерти он обещает читателю явиться к нему и поселиться в его квартире, потому что именно здесь должен состояться сеанс гипноза (чтение любимой книги). Читатель и не заметит, как сплетется рассказ,

не требующий никаких доказательств. Во время сеанса читатель потеряет покой, разделит с автором его тревогу и будет многократно вспоминать и перечитывать роман, а потом напишет продолжение, потому что подобное лечится подобным. За книгой они и встретятся, чтобы с этих пор никогда не расставаться: по одну сторону - доверчивый читатель, по другую -покойный автор. Книга станет их лунной дорожкой, площадкой, сводящей в фокусе пятого (литературного) измерения все возможные времена и лица. Фокус в том, что разговор автора с читателем задуман так, чтобы у читателя все время оставалось ощущение недоговоренности.
-
1 Иваньшина Е.А. Культура против истории: о работе машины времени у М.А. Булгакова // Михаил Булгаков, его время и мы. Краков, 2012. С. 43-58.
-
2 Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6. М., 2010. С. 130.
-
3 Булгаков М.А. Пьесы 1930-х годов. СПб., 1994. С. 341-342.
-
4 Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6. М., 2010. С. 15.
-
5 Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6. М., 2010. С. 14.
-
6 Хазан В. Из наблюдений над семантической поэтикой радио и телеграфа в поэзии XX века // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 53. Wien, 2004. P. 66-67.
-
7 Хазан В. Из наблюдений над семантической поэтикой радио и телеграфа в поэзии XX века // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 53. Wien, 2004. P. 52.
-
8 Спенделъ де Варда Д. Сон как элемент внутренней логики в произведениях М. Булгакова // М.А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1998. С. 304-311; Абрахам И. Роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Брно, 1993; Химич В.В. В мире Михаила Булгакова. Екатеринбург, 2003. С. 90-109; Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001. С. 164-181.
-
4 Яблоков Е.А. Роман Михаила Булгакова «Белая гвардия». М., 1997. С. 181.
-
10 Яблоков Е.А. Роман Михаила Булгакова «Белая гвардия». М., 1997. С. 166.
-
11 Яблоков Е.А. Роман Михаила Булгакова «Белая гвардия». М., 1997. С. 168.
-
12 Акатова О.И. Поэтика сновидений в творчестве М.А. Булгакова: автореф. дис. ... к.ф.н.: 10.01.01. Саратов, 2006. С. 17.
-
13 Химич В.В. В мире Михаила Булгакова. Екатеринбург, 2003. С. 105-106.
-
14 Кулъюс С. «Эзотерические» коды романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (эксплицитное и имплицитное в романе). Тарту, 1998. С. 99-118.
-
15 Кулъюс С. «Эзотерические» коды романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (эксплицитное и имплицитное в романе). Тарту, 1998. С. 102.
-
16 Иваньшина Е.А. Прогулка по пятому измерению с известным профессором // Художественный язык литературы 20-х годов XX века. Самара, 2003. С. 70-78.
-
17 Йованович М. Избранные труды по поэтике русской литературы. Белград, 2004. С. 41-50.
-
18 Кэрролл Л. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье. М., 1991. С. 15.
-
19 Фарино Е. Язык в языке (несколько наблюдений над полиглотизмом в «Мастере и Маргарите») // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 14. Wien, 1984. C. 139 -151.
-
20 Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. М., 1993. С. 28-82.
-
21 Абрахам П. Роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Брно, 1993. С. 140-142.
-
22 Абрахам П. Роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Брно, 1993. С. 143.

-
23 Фиалкова Л.Л. Москва в произведениях М. Булгакова и А. Белого // М.А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 363.
-
24 Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1993. С. 84.
-
25 Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001. С. 169.
-
26 Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001. С. 170.
-
27 Успенский Б.А. История и семиотика (восприятие времени как семиотическая проблема) //Труды по знаковым системам. Вып. 22. Тарту 1988. С. 78.
-
28 Чудакова М.О. Евгений Онегин, Воланд и мастер // Возвращенные имена русской литературы: аспекты поэтики, эстетики, философии. Самара, 1994. С. 5-10.
-
29 Орлов М.А. История сношений человека с дьяволом // Амфитеатров А.В. Дьявол; Орлов М.Н. История сношений человека с дьяволом. М., 1992. С. 382.
-
30 Кушлина О., Смирнов Ю. Некоторые вопросы поэтики романа «Мастер и Маргарита» // М.А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 301.
-
31 Ребель ГМ. Художественные миры романов Михаила Булгакова. Пермь, 2001. С. 122.
-
32 Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 7. М., 2007. С. 468.
-
33 Белобровцева ИЗ. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: конструктивные принципы организации текста. Тарту, 1997. С. 59.
-
34 Ямпольский М.Б. Демон и лабиринт (диаграммы, деформации, мимесис). М., 1996. С. 166.
-
35 Ямпольский М.Б. Демон и лабиринт (диаграммы, деформации, мимесис). М., 1996. С. 169.
-
36 Петровский М. Мифологическое городоведение Михаила Булгакова // Театр. 1991. №5. С. 30.
-
37 Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 7. М., 2007. С. 451.
-
38 Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2001. С. 124.
-
39 Кулъюс С. «Эзотерические» коды романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (эксплицитное и имплицитное в романе). Тарту, 1998. С. 112-118; Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001. С. 177-178.
-
40 Абрахам П. Роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Брно, 1993. С. 170.
-
41 Абрахам П. Роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Брно, 1993. С. 169, 172.
-
42 Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2001. С. 124.
Список литературы Аппаратура мастера: о сновидческом смысле композиции «Мастера и Маргариты»
- Иваньшина Е.А. Культура против истории: о работе машины времени у М.А. Булгакова//Михаил Булгаков, его время и мы. Краков, 2012. С. 43-58
- Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6. М., 2010. С. 130
- Булгаков М.А. Пьесы 1930-х годов. СПб., 1994. С. 341-342
- Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6. М., 2010. С. 15
- Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6. М., 2010. С. 14
- Хазан В. Из наблюдений над семантической поэтикой радио и телеграфа в поэзии ХХ века//Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 53. Wien, 2004. P. 66-67
- Хазан В. Из наблюдений над семантической поэтикой радио и телеграфа в поэзии ХХ века//Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 53. Wien, 2004. P. 52
- Спендель де Варда Д. Сон как элемент внутренней логики в произведениях М. Булгакова//М.А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1998. С. 304-311
- Абрахам П. Роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Брно, 1993
- Химич В.В. В мире Михаила Булгакова. Екатеринбург, 2003. С. 90-109
- Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001. С. 164-181
- Яблоков Е.А. Роман Михаила Булгакова «Белая гвардия». М., 1997. С. 181
- Яблоков Е.А. Роман Михаила Булгакова «Белая гвардия». М., 1997. С. 166
- Яблоков Е.А. Роман Михаила Булгакова «Белая гвардия». М., 1997. С. 168
- Акатова О.И. Поэтика сновидений в творчестве М.А. Булгакова: автореф. дис. … к.ф.н.: 10.01.01. Саратов, 2006. С. 17
- Химич В.В. В мире Михаила Булгакова. Екатеринбург, 2003. С. 105-106
- Кульюс С. «Эзотерические» коды романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (эксплицитное и имплицитное в романе). Тарту, 1998. С. 99-118
- Кульюс С. «Эзотерические» коды романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (эксплицитное и имплицитное в романе). Тарту, 1998. С. 102
- Иваньшина Е.А. Прогулка по пятому измерению с известным профессором//Художественный язык литературы 20-х годов ХХ века. Самара, 2003. С. 70-78
- Йованович М. Избранные труды по поэтике русской литературы. Белград, 2004. С. 41-50
- Кэрролл Л. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье. М., 1991. С. 15
- Фарино Е. Язык в языке (несколько наблюдений над полиглотизмом в «Мастере и Маргарите»)//Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 14. Wien, 1984. С. 139 -151
- Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе ХХ века. М., 1993. С. 28-82
- Абрахам П. Роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Брно, 1993. С. 140-142
- Абрахам П. Роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Брно, 1993. С. 143
- Фиалкова Л.Л. Москва в произведениях М. Булгакова и А. Белого//М.А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 363
- Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1993. С. 84
- Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001. С. 169
- Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001. С. 170
- Успенский Б.А. История и семиотика (восприятие времени как семиотическая проблема)//Труды по знаковым системам. Вып. 22. Тарту, 1988. С. 78
- Чудакова М.О. Евгений Онегин, Воланд и мастер//Возвращенные имена русской литературы: аспекты поэтики, эстетики, философии. Самара, 1994. С. 5-10
- Орлов М.А. История сношений человека с дьяволом//Амфитеатров А.В. Дьявол; Орлов М.Н. История сношений человека с дьяволом. М., 1992. С. 382
- Кушлина О., Смирнов Ю. Некоторые вопросы поэтики романа «Мастер и Маргарита»//М.А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 301
- Ребель Г.М. Художественные миры романов Михаила Булгакова. Пермь, 2001. С. 122
- Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 7. М., 2007. С. 468
- Белобровцева И.З. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: конструктивные принципы организации текста. Тарту, 1997. С. 59
- Ямпольский М.Б. Демон и лабиринт (диаграммы, деформации, мимесис). М., 1996. С. 166
- Ямпольский М.Б. Демон и лабиринт (диаграммы, деформации, мимесис). М., 1996. С. 169
- Петровский М. Мифологическое городоведение Михаила Булгакова//Театр. 1991. № 5. С. 30
- Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 7. М., 2007. С. 451
- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2001. С. 124
- Кульюс С. «Эзотерические» коды романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (эксплицитное и имплицитное в романе). Тарту, 1998. С. 112-118
- Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001. С. 177-178
- Абрахам П. Роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Брно, 1993. С. 170
- Абрахам П. Роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Брно, 1993. С. 169, 172
- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2001. С. 124