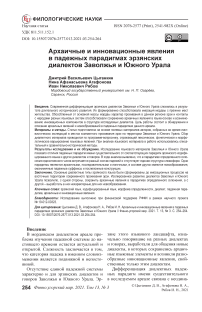Архаичные и инновационные явления в падежных парадигмах эрзянских диалектов Заволжья и Южного Урала
Автор: Дмитрий Васильевич Цыганкин, Нина Афанасьевна Агафонова, Иван Николаевич Рябов
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Современная дифференциация эрзянских диалектов Заволжья и Южного Урала сложилась в результате длительного исторического развития. Их формированию способствовала миграция мордвы с прежних мест жительства. Обособленный от основной массы мордвы характер проживания в данном регионе эрзи и контакты с народами разных языковых систем способствовали сохранению архаичных явлений в языке-основе и возникновению инновационных компонентов в структуре исследуемых диалектов. Цель работы состоит в обнаружении и описании архаичных явлений и новообразований в падежных парадигмах данного ареала. Материалы и методы. Статья подготовлена на основе полевых материалов авторов, собранных во время лингвистических экспедиций в местах компактного проживания эрзи на территории Заволжья и Южного Урала. Сбор диалектного материала проводился по программе-вопроснику, отражающей лексическое, фонетическое и морфологическое варьирование языковых явлений. При анализе языкового материала в работе использовались описательный и сравнительно-исторический методы. Результаты исследования и их обсуждение. Исследование языкового материала Заволжья и Южного Урала показало отличия падежных парадигм имени существительного от соответствующих парадигм эрзянского кодифицированного языка и других диалектов и говоров. В ходе анализа выявлено, что в парадигмах определенного склонения единственного числа встречается разный состав падежей и отсутствует единая структура словоформ. Одни парадигмы являются архаичными, последовательными и логичными, в составе других имеются новообразования, омонимичные падежные суффиксы и послеложные конструкции. Заключение. Основные диалектные типы эрзянского языка были сформированы до миграционных процессов на восточные территории современного проживания эрзи. Изолированное развитие диалектов Заволжья и Южного Урала позволило, с одной стороны, сохранить архаичные явления в парадигмах определенного склонения, а с другой – выработать в них нехарактерные для них новообразования
Эрзянский язык, кодифицированный язык, морфема определенности, диалект, падежная парадигма, архаичные и инновационные явления
Короткий адрес: https://sciup.org/147234580
IDR: 147234580 | УДК: 811.511.152.1 | DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.03.254-264
Текст научной статьи Архаичные и инновационные явления в падежных парадигмах эрзянских диалектов Заволжья и Южного Урала
В мордовском диалектном ареале проблема изучения падежной системы до настоящего времени остается актуальной и открытой. Сложность заключается в том, что категория падежа в именном словоизменении является подвижной и непостоянной.
Отсутствие единой падежной системы характерно и для эрзянских диалектов и говоров Заволжья и Южного Урала. Эр- зяне этого языкового ландшафта, изначально говорившие на разных диалектах и говорах, выработали для общения новые диалекты, в которых сохранились архаичные языковые элементы и возникли разнообразные инновационные явления, свойственные только этим диалектам.
Дифференциация диалектных падежных парадигм имени существительного в исследуемом ареале связана с неодина
ковым составом падежей в том или ином склонении, особенностями оформления отдельных падежей, характером падежеобразующей основы и различиями значений некоторых падежей.
Падежные системы эрзянских диалектов Заволжья и Южного Урала до настоящего времени не были предметом специального исследования. Имеющиеся работы ограничиваются рассмотрением отдельных уровней диалектной структуры мордовских языков. В течение ряда веков в мордовском языковом ландшафте Заволжья и Южного Урала сложились диалекты и говоры, сохранившие многие архаичные явления языка-основы. В процессе контактирования с языками других систем в них развились инновационные явления, характерные только для этого языкового ландшафта. Однако в настоящее время в диалектах Заволжья и Южного Урала происходят довольно глубокие процессы ассимиляции, в результате чего сфера функционирования этих диалектов сокращается, что требует скорейшей фиксации речи носителей языка и диалектных особенностей данного лингвистического ареала.
Обзор литературы
Изучению категории падежа в мордовских языках посвящен ряд работ. Основной проблемой в таких исследованиях является вопрос о количестве падежей в падежных парадигмах.
Состав падежных форм в именном словоизменении мордовских языков в той или иной степени рассматривался в самых ранних работах финно-угроведов Х. Габе-ленца [18], А. Алквиста [15], Ф. Видемана [25], Й. Буденца [17], Х. Паасонена [21]. В исследованиях этих авторов приводятся неоднозначная трактовка названий падежей и разное их количество.
Позже проблема состава падежных парадигм в мордовских языках была освещена в трудах Д. В. Бубриха [4, 39–
PHILOLOGY
41, 191–195 ], А. П. Феоктистова [12], М. Н. Коляденкова [7, 265–270 ], Л. Кере-стеша [20, 52–60 ], Р. Бартенс [16, 70–107 ], Д. Рютера [22], Р. Турунен [24], Н. Инаба [19, 207–225 ] и других ученых.
Д. Т. Надькин раскрывает причины неодинакового количества падежей в падежных парадигмах в нижнепьянском диалекте эрзянского языка и приводит некоторые уточнения к критерию словоизменитель-ности той или иной формы существительного [10, 10 ].
Процессы образования новых падежных форм на основе послеложных конструкций в верхне-алатырских говорах мокшанского языка на территории Нижегородской области описаны в работе К. И. Ананьиной1.
Проблеме падежа в эрзянском диалектном ареале посвящены исследования Д. В. Цыганкина [13; 14]. По его мнению, «отсутствие единого состава падежей в мордовских диалектах связано с рядом факторов, одним из которых является множественность диалектов эрзя- и мокша-мордовских языков»2.
Вопросы сохранения архаичных явлений и возникновения новообразований в падежных парадигмах отдельных диалектов Заволжья и Южного Урала рассматривались в работах Н. А. Агафоновой и И. Н. Рябова [1–3; 14].
Материалы и методы
Диалектный материал для исследования собран авторами в полевых условиях во время лингвистических экспедиций в местах компактного проживания эрзи на территории Заволжья и Южного Урала. Фиксация языкового материала осуществлялась с помощью разработанной ранее программы-вопросника, отражающей лексическое, фонетическое и морфологическое варьирование языковых особенностей3. Дополнительным источником послужили диалектные материалы словарного кабинета кафедры мордовских языков Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва.
В ходе исследования в работе применялись описательный и сравнительно-исторический методы.
Результаты исследования и их обсуждение
Эрзянские диалекты Заволжья и Южного Урала характеризуются отсутствием единой системы падежей в парадигмах определенного склонения имени существительного. В одних диалектах, как и в эрзянском кодифицированном языке, различают 10 падежных форм, в других их число колеблется от 9 до 3. Многие падежи кроме синтетических форм имеют аналитические конструкции.
В эрзянском кодифицированном языке суффиксами определенности являются -сь (в номинативе), -ть (в генитиве-аккузативе), -нть (в остальных падежах). В исследуемом ареале нами зафиксированы следующие варианты суффиксов определенности: -ś, -t́, -t́t́i-, -ńt́, -ś-/-ź-, -śt́ .
-
1. Морфема -ś . Она является универсальным показателем определенности в номинативе и встречается во всех диалектах и говорах эрзянского языка.
-
2. Морфема -t́ . Зарегистрирована в диалектах с. Старое Борискино, Старое До-мосейкино, Солалейка Северного района, Пронькино, Шестайкино, Кивацкое Бугурусланского района Оренбургской области. Эта морфема в генитиве-аккузативе полисемантична. В ней совмещены семантика генитива и семантика определенности. Данная морфема характерна для мокшанского литературного языка и некоторых эрзянских говоров юго-восточного диалекта с мокшанскими языковыми элементами на территории Мордовии и Пензенской области: ύiŕ- t́ – лес-DEF. SG-GEN/ACC ‘этого леса’, ύiŕ- t́- (t́)i – лес-DEF.SG-DAT ‘этому лесу’ и т. д.
-
3. Морфема -tti- . Встречается в говорах с. Шелехметь, Торновое Волжского района, Подстепки (бывшая Мордовская Борковка) Ставропольского района Самарской области. Она образована следующим образом: морфема определенности - t + падежный суффикс датива - ti :
-
4. Морфема -ńt . Встречается как в кодифицированном эрзянском языке, так и в косвенных падежах эрзянских говоров сел Абдулинского и Бугурусланского районов Оренбургской области, Похвист-невского района Самарской области, Ер-мекеевского района Республики Башкортостан.
-
5. Морфема -śt́ . Зафиксирована в эрзянских говорах сел Шенталинского района Самарской области и в Альметьевском районе Республики Татарстан. Встречается также в большеигнатовском [5, 158– 160 ] и приалатырском диалектах на территории Республики Мордовия [8, 43 ].
-
6. Морфема -ś-/-ź- . Характерна для эрзянских говоров сел Новомалыклинского района Ульяновской области: ύiŕ-e- ź -i-ń – лес-INT-DEF.SG-INT-GEN ‘этого леса’, ύiŕ-e- ź -ńe – лес-INT-DEF.SG-DAT ‘этому лесу’, vif-e- t - d e - лес-INT-DEF.SG-ABL/ ELA ‘об этом лесе’ и ‘из этого леса’ и т. д.
ύiŕ- t́-t́i -sa – лес-DEF.SG-DAT-INE ‘в этом лесу’, ύiŕ- t́ -t́i-sta – лес-DEF.SG-DAT-ELA ‘из этого леса’, ύiŕ- t́- t́i-g’e – лес-DEF. SG-DAT-PROL ‘по этому лесу’, ύiŕ-t́-t́i-ksa – лес-DEF.SG-DAT-CAUS ‘из-за этого леса’.
В генитиве-аккузативе компонент -ś несет утраченную семантику падежного суффикса генитива-аккузатива -ń , а компонент -t – семантику определенности единственного числа. В этой падежной форме произошло наложение трех суффиксов: -ń (генитив) + -ś (морфема определенности) + -t́ (морфема определенности). Поскольку стечение трех согласных – нехарактерное для эрзянского языка фонетическое явление, первый компонент морфемы (суффикс -ń ) выпадает и передает свою семантику следующему компоненту -ś .
В остальных падежных формах морфемой определенности является -śt , где произошло наложение двух древних дейктических суффиксов *-ś и *-t́ . Ср.: ύiŕ-e- ś-t́ – лес-INT-DEF.SG.GEN/ACC-DEF.SG ‘этот лес’, vif-se- st - лес-INE-DEF. SG ‘в этом лесу’, vif-ste- st - лес-ELA-DEF. SG ‘из этого леса’, ύiŕ-ga- śt́ – лес-PROL-DEF.SG ‘по этому лесу’, ύiŕ-t́em’e- śt́ – лес-ABE-DEF.SG ‘без этого леса’.
Таблица 1. Парадигма определенного склонения единственного числа говоров сел Новомалыклинского района Ульяновской области
Table 1. Paradigm of a certain declension of the singular number of dialects of the villages of the Novomalyklinsky district of the Ulyanovsk region
|
Падеж / Case |
Новомалыклинские говоры / Novomalyklin dialects |
Эрзянский литературный язык / Erzya literary language |
Русский язык / Russian language |
|
Номинатив / Nominative |
ḱiĺeύ-e-ś šакš-o-ś ύeĺe-ś |
килеесь чакшось велесь |
та береза тот горшок то село |
|
Генитив / Genitive |
ḱiĺeύ-e-ź-i-ń šакš-o-ź-i-ń ύe ĺe-ź-i-ń |
килеенть чакшонть веленть |
той березы того горшка того села |
|
Аккузатив / Accusative |
ḱiĺeύ-e-ś-t́ šакš-o-ś-t ύeĺe-ś-t́ |
килеенть чакшонть веленть |
ту березу тот горшок то село |
|
Датив / Dative |
ḱiĺeύ-e-ź-ńe šакš-o-ź-ńe ύeĺe-ź-ńe |
килеентень чакшонтень велентень |
той березе тому горшку тому селу |
|
Аблатив / Ablative |
kdev-e-z-de saks-o-z-de Me-i-de |
килейденть чакштонть веледенть |
о той березе о том горшке о том селе |
|
Инессив / Inessive |
ḱiĺeύ-e-ś-(ś)ńe šакš-o-ś-(ś)ńe ύeĺe-ś-(ś)ńe |
килейсэнть чакшсонть велесэнть |
в той березе в том горшке в том селе |
|
Элатив / Elativ |
kdev-e-z-d e saks-o-z-de ve^e-z-de |
килейстэнть чакшстонть велестэнть |
из той березы из того горшка из того села |
|
Иллатив / Illative |
ḱiĺeύ-e-ź-ńe šакš-o-ź-ńe ύeĺe-ź-ńe |
килеентень чакшонтень велентень |
в ту березу в тот горшок в то село |
|
Пролатив / Prolative |
ḱiĺeύ-e-ź-ga / ḱiĺeύeźiń e͔ zga šакš-o-ź-ga / šакš-o-ź-i-ń e͔ zga ύeĺe-ź-ga / ύeĺe-ź-i-ń e͔ zga |
килейганть чакшканть велеванть |
по той березе по тому горшку по тому селу |
|
Компаратив / Comparative |
ḱiĺeύ-e-ź-e-ška / ḱiĺeύeźiń e͔ jška šакš-o-ź-e-ška / šакš-o-ź-i-ń e͔ jška ύeĺe-ź-e-ška / ύeĺe-ź-i-ń e͔ jška |
килейшканть чакшошканть велешканть |
с ту березу с тот горшок с то село |
|
Абессив / Abessive |
ḱiĺeύ-e-ź-i-ń-t́eḿe / ḱiĺeύ-e-ś-t́eḿe šакš-o-ź-i-ń-teḿe / šакš-o-ś-tem’e ύeĺe-ź-i-ń-t́eḿe / ύeĺe-ś-t́eḿe |
килейтементь чакштомонть велевтементь |
без той березы без того горшка без того села |
В словоформах с морфологическим маркером -s- / -z- до настоящего времени сохранились последовательность и логичность структуры как в единственном, так и во множественном числе: основа слова + морфема определенности + падежный суффикс.
Диахронно морфема восходит к древней указательной местоименной основе *sy- . В интервокальной позиции суффикс -s- в некоторых косвенных падежах перешел в -Z- : ki^ev-e- z -i-n [береза-INT-DEF.SG.-INT-GEN] ‘этой березы’, kudo- z -ne [дом-DEF.
SG-DAT] ‘этому дому’, kudo- z - d e [дом-DEF.SG-ABL] ‘об этом доме’, kudo- z - d e [дом-DEF.SG-ELA] ‘из этого дома’.
Сравнительные парадигмы определенного склонения единственного числа эрзянских говоров сел Новомалыклинского района Ульяновской области и эрзянского кодифицированного языка приведены в табл. 1.
Как видно, в исследуемой парадигме встречается ряд нехарактерных для кодифицированного языка особенностей. Так, семантика генитива и аккузатива переда- ется при помощи разных морфем: z-i-n (kora-z-i-n ‘этого мужчины’, loman-e-z-i-n ‘этого человека’, ekaks-e-z-i-n ‘этого ребенка’) и -s-k (kora-s-k ‘этого мужчину’, lomań-e-ś-ḱ ‘этого человека’, e͔ kakš-e͔ -ś-ḱ ‘этого ребенка’).
В представленной парадигме элатив по формальным признакам совпадает с аблативом: kdev-e- z- d e [береза-INT-DEF.SG-ELA] ‘из этой березы’, kudo- z- d e [дом-DEF.SG-ELA] ‘из этого дома’, ύeĺe- z- d e [село-DEF.SG-ELA] ‘из этого села’, vir-e- z- d e [лес-INT-DEF.SG-ELA] ‘из этого леса’, рiks-e- z- d e [веревка-INT-DEF. SG-ELA] ‘из этой веревки’, ^ej-e- z- d e [река-INT-DEF.SG-ELA] ‘из этой реки’, saks-o- z- d e [горшок-INT-DEF.SG-ELA] ‘из этого горшка’, loman-e- z- d e [человек-INT-DEF.SG-ELA] ‘от этого человека’.
Омонимичность аблатива и элатива в анализируемых говорах объясняется наличием в составе этих падежных морфем древнего суффикса аблатива *-ta/-ta [11, 22–23 ; 23, 79 ].
Особый интерес в данной парадигме вызывает инессив. В указанной падежной форме, как и в номинативе, морфемой определенности является суффикс -s , а падежным суффиксом инессива служит -(s) ne : kilev-e- s -(s)ne [береза-INT-DEF.SG-INE] ‘в этой березе’, kudo- s -(s)ne [дом-DEF.SG-INE] ‘в этом доме’, vefe- s -(s)ne [село-DEF. SG-INE] ‘в этом селе’, vir-e- s -(s)ne [лес-INT-DEF.SG-INE] ‘в этом лесу’, lej-e- s -(s) ńe [река-INT-DEF.SG-INE] ‘в этой реке’.
Диахронно эрзянский падеж инессив образовался от двух древних падежных суффиксов: *-s (латив) и *-na/*-na (локатив) > *-sna/*-sna [11, 20-22 ; 23, 78 ].
Таким образом, в исследуемых говорах формант инессива -ne суффикса -(s)ne восходит к древнему локативу *-na/*-na, тогда как в кодифицированном языке и в других диалектах эрзянского языка соответствующий суффикс представлен только -s-овым формантом латива -s(-o)/-s(-e). В анализируемой словоформе инессива произошло наложение морфемы определенности -s на суффикс инессива -sna/-sna, в результате чего на стыке двух морфем появилась гемината [ss], которая впоследствии стала выполнять только функцию морфемы определенности, что позволило ей остаться в глухом варианте.
Архаичный суффикс инессива -sne / -sn^ после свистящих и шипящих согласных характерен также для говоров северо-западного диалекта на территории Республики Мордовия, Чувашской Республики и Нижегородской области [5, 155–157 ; 6, 109; 9, 61 ].
Отличительными чертами эрзянских диалектов Заволжья и Южного Урала по сравнению с грамматической системой литературного языка являются зависимость, открытость, проницаемость и вариантность. В них наблюдаются следующие инновационные процессы : возникновение новых падежных форм из послелогов; замена синтетических падежных форм аналитическими конструкциями.
В качестве иллюстрации редукции послелогов можно привести падежные парадигмы имени существительного в определенном склонении смешанных диалектов Самарской области. В мордовском диалектном ареале этого региона нами выделяются две группы смешанных говоров. К первой группе относятся говоры с. Под-степки Ставропольского района, Шелех-меть и Торновое Волжского района. Во вторую группу входят говоры с. Верхнее и Нижнее Санчелеево, Узюково, Новая Бина-радка Ставропольского района. Парадигма определенного склонения единственного числа говоров первой группы состоит из 11 синтетических падежных форм. Для второй группы в этой парадигме характерны 5 синтетических форм, другие же заменены аналитическими конструкциями.
Необходимо отметить, что все перечисленные говоры диахронно имеют мокшанскую основу. Известно, что в парадигме определенного склонения в мокшанском кодифицированном языке выделяются только три падежные формы: номинатив, генитив, датив. Остальные падежные формы в этих говорах являются новообразованиями, возникшими под влиянием эрзянского языка.
Падежные парадигмы определенного склонения единственного и множественного числа говоров выделенных нами групп в сравнении с эрзянским и мокшан-
Таблица 2. Парадигма определенного склонения единственного числа говоров сел Волжского и Ставропольского районов Самарской области
Table 2. Paradigm of a certain declension of the singular number of dialects of the villages of the Volzhsky and Stavropol districts of the Samara region
Как можно видеть, парадигма определенного склонения единственного числа первой группы говоров имеет ряд отличий от соответствующих парадигм второй группы и кодифицированных мокшанского и эрзянского языков.
-
1. Морфема определенности -ś встречается только в номинативе. В косвенных падежах морфемой определенности является суффикс -t .
-
2. Морфологический маркер генитива - t выражает две семантические функции: функцию определенного артикля и падежную функцию генитива. Флективность морфемы генитива является характерной для мордовских языков.
-
3. В представленной парадигме диалектные формы смешанных говоров в номинативе, генитиве и дативе совпадают с соответствующими формами мокшанского кодифицированного языка.
-
4. В аблативе, инессиве, элативе, ил-лативе, компаративе падежные формы близки к эрзянскому кодифицированному языку. Однако они не совпадают с аналогичными эрзянскими формами, так как образовались на основе падежной формы датива мокшанского языка с соответ-
- ствующим падежным суффиксом: vaĺma-t́-t́i-da ‘об этом окне’, vaĺma-t́-t́i-sa ‘в этом окне’, vaĺma-t́-t́i-sta ‘из этого окна’, vaĺma-t́-t́i-ge ‘по этому окну’, vaĺma-t́-t́i-ška ‘с это окно (по размеру)’.
-
5. На основе датива образовался и про-латив, но падежным суффиксом является мокшанский вариант суффикса пролатива -g’e : valma-t-ti-ge ‘по этому окну’, vir-t-ti-ge ‘по этому лесу’, pakśa-t́-t́i-g’e ‘по этому полю’.
-
6. В данной парадигме исключение составляет падежная форма абессива, которая образовалась на основе мокшанского генитива: vaĺma- t́ -ftəmə ‘без этого окна’, ύiŕ- t́ -ftəmə ‘без этого леса’, pakśa- t -ftəmə ‘без этого поля’. Указанное явление в абессиве характерно и для эрзянского языка.
-
7. Особенность парадигмы составляет падежная форма каузатива, образованная также на основе датива: vaĺma- t -ti-ŋksa ‘из-за этого окна’, ύiŕ- t -ti-ksa ‘из-за этого леса’, pakśa- t -ti-ksa ‘из-за этого поля’. В эрзянском кодифицированном языке и других диалектах каузативные формы не встречаются. Семантика каузативности передается аналитическими конструкциями.
Отметим, что подобные образования зафиксированы К. И. Ананьиной в верх-
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таблица 3. Парадигма определенного склонения множественного числа говоров сел
Волжского и Ставропольского районов Самарской области
Table 3. Paradigm of a certain declension of the plural of dialects of the villages of the Volzhsky and Stavropol districts of the Samara region
Парадигма второй группы смешанных говоров также характеризуется некоторыми особенностями.
-
1. Отличительную черту парадигмы составляет отсутствие единой для всех падежей морфемы определенности: в номинативе -ś , в косвенных падежах -t́/ -ńt́ .
-
2. Генитиву свойственна флективность: формант -t одновременно выполняет функции морфемы определенности и морфемы падежа.
-
3. Из-за отсутствия аффикса -ń перед -t́ он, как и в мокшанском языке, присоединяется к основе непосредственно (при гласной основе) или с помощью интерфикса (при согласной основе). Ср.: val'ma- t́ ‘окна (того), окно (то)’, viŕ- t́ -t́i ‘лесу (тому)’.
-
4. Фиксируется однотипность генитива-аккузатива и датива с соответствующими формами мокшанского языка. Ср.: д.ф. moda- t́ , м . л. moda- t́ ‘земли (той)’; д.ф. moda- t́ i , м . л. moda- t́ i ‘земле (той)’.
-
5. В аблативе, инессиве и элативе на блюдаетс я замена синтетических форм
аналитическими конструкциями: pakśa- t́ e͔ zda ‘об этом поле’, pakśa- t́ e͔sa ‘в этом поле’, pakśa- t́ e͔ sta ‘из этого поля’. Семантика пролатива и компаратива параллельно выражается синтетическими формами и аналитическими конструкциями: pakśa-va- ńt́ /pakśa- t́ e͔ zga ‘по этому полю’, pakśa-ška-ńt́/ pakśa- t́ e͔ ška ‘с это поле (по размеру)’.
В определенном склонении оппозиция форм единственного и множественного числа представлена во всех косвенных падежах. Формы множественного числа, как и в мордовских литературных языках, образуются с помощью двух суффиксов: универсального суффикса множественного числа -t / -t и суффикса -ńe / -ne͔ / -nə , восходящего к указательному местоимению ńe ‘эти’: ĺis’ma-t́- ńe ‘эти колодцы’, gobŕik-(t)- ńe ‘эти погреба’, ćora-t́- ńe ‘эти мужчины’. Морфема определенности во множественном числе во всех падежах имеет в словоформе постоянное место – перед падежными морфемами, характерными для основного склонения. Структура форм множественного числа определенного склонения следующая:
склоняемая основа имени + суффикс множественного числа -t / -t + морфема определенности + морфема падежа: viŕh-(t)- ńe -ńdi-sa ‘в этих лесах’, v'el’e-t́- ńe -ńdi-ge ‘по этим селам’, pŕa-t́- ńe -ńdi-ška ‘с эти головы (по размеру)’.
Как видно из табл. 2, 3, определенное склонение в эрзянских диалектах и говорах Самарской области характеризуется отсутствием единой системы падежей, разнообразием падежных форм. Одно и то же падежное значение может быть передано падежной словоформой и аналитической конструкцией, ср.: veĺe-va- ńt́ / veĺe-ń- t́ e͔zga ‘по этому селу’, ćora-do- śt́ / ćora-(ń) -ś-t́ e͔ zda ‘об этом мужчине’, kudo-ška- t́ /kudo- t́ e͔ ška ‘с этот дом (размером)’.
Заключение
Изолированное развитие эрзянских диалектов Заволжья и Южного Урала способствовало, с одной стороны, сохранению архаичной парадигмы определенного склонения, а с другой – появлению новых парадигм.
Анализ диалектного материала исследуемого ареала показал, что в некоторых диалектах до настоящего времени в парадигме определенного склонения единственного и множественного числа сохранилась единая структура словоформ: основа + морфема определенности + падежный суффикс. При этом в единственном числе во всех падежных формах морфемой определенности является только
-ś-/-ź- , тогда как в соответствующих парадигмах эрзянского литературного языка и других диалектах наличествуют три морфемы: -сь, -ть, -нть .
В смешанных диалектах, основой которых был мокшанский язык, образовались новые падежные формы. Известно, что в мокшанском кодифицированном языке и диалектах в парадигме определенного склонения имеются только 3 падежные формы, в эрзянском – 10. В смешанных диалектах Заволжья и Южного Урала с мокшанской основой под влиянием соседних эрзянских диалектов сформировалась более полная парадигма определенного склонения, имеющая 11 падежных форм, из них 6 (аблатив, инессив, элатив, прола-тив, компаратив, каузатив) образовались на основе формы датива, иллатив и абес-сив – на основе генитива.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Глоссы:
ABE – абессив
ABL – аблатив
ACC – аккузатив
CAUS – каузатив
DAT – датив
DEF – определенное склонение
ELA – элатив
GEN – генитив
INE – инессив
INT – интерфикс
PROL – пролатив
SG – единственное число д.ф. – диалектная форма м.л. – мокшанский литературный язык
Список литературы Архаичные и инновационные явления в падежных парадигмах эрзянских диалектов Заволжья и Южного Урала
- Агафонова Н. А., Рябов И. Н. Архаичные явления в падежных парадигмах эрзянских говоров Новомалыклинского района Ульяновской области // Бубриховские чтения: задокументированное народное слово: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Петрозаводск, 2020. С. 42–45.
- Агафонова Н. А., Рябов И. Н. Инновационные явления в падежных парадигмах имени существительного в смешанных говорах Самарской области // Финно-угорские языки в современном мире: функционирование и перспективы развития: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию проф. Д. В. Цыганкина. Саранск, 2020. С. 43–47.
- Агафонова Н. А., Рябов И. Н. Парадигма определенного склонения в эрзянских говорах сел Новомалыклинского района Ульяновской области // Linguistica Uralica. 2017. Т. 53, № 3. С. 161–178. URL: https:// kirj.ee/public/Linguistica_Uralica/2017/issue_3/ling-2017-3-161-178.pdf (дата обращения: 19.05.2021).
- Бубрих Д. В. Историческая грамматика эрзянского языка. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1953. 270 с.
- Давыдов М. М. Больше-игнатовский диалект эрзя-мордовского языка // Очерки мордовских диалектов. Саранск, 1963. Т. 2. С. 118–233.
- Ермушкин Г. И. Имя существительное и глагол в северо-западных говорах эрзя-мордовского языка // Вопросы мордовского языкознания. Саранск, 1967. С. 104–143. (Тр. Науч.-исслед. ин-та языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров МАССР; вып. 32).
- Коляденков М. Н. Историческая общность мокши и эрзи по данным языка // Этногенез мордовского народа. Саранск, 1965. С. 257–271.
- Марков Ф. П. Приалатырский диалект эрзя-мордовского языка // Очерки мордовских диалектов. Саранск, 1961. Т. 1. С. 7–99.
- Надькин Д. Т. К истории указательных форм в мордовских языках // Вопросы мордовского языкознания. Саранск, 1972. С. 61–68. (Тр. Науч.-исслед. ин-та языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров МАССР; вып. 42).
- Надькин Д. Т. Морфология нижнепьянского диалекта эрзя-мордовского языка // Очерки мордовских диалектов. Саранск, 1968. Т. 5. С. 3–198.
- Серебренников Б. А. Историческая морфология мордовских языков. М.: Наука, 1967. 262 с.
- Феоктистов А. П. К вопросу о составе падежных форм мордовского именного словоизменения // Труды Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров МАССР. Саранск, 1962. Вып. 23. С. 208–211.
- Цыганкин Д. В. Эволюция падежных парадигм в эрзянском диалектном ареале // Финно-угорские народы в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности и меняющейся окружающей среды: материалы Междунар. науч. конф. Саранск, 2020. С. 222–226.
- Цыганкин Д. В., Агафонова Н. А., Рябов И. Н. Структура падежных форм парадигмы определенного склонения в эрзянском диалектном ареале // Вестник угроведения. 2017. Т. 7, № 4. С. 86–97. URL: vestnik-ugrovedenia.ru/sites/default/files/vu/cygankin_d.v._agafonova_n.a._ryabov_i.n.pdf (дата обращения: 01.06.2021).
- Ahlqvist A. Versuch einer Mokscha-Mordvinischen Grammatik. Saint-Petersburg: Commissionäre der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1861. 214 S.
- Bartens R. Mordvalaiskielten rakenne ja kehitys. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1999. 183 s. (Memoires de la Societe Finno-Ougrienne; 232).
- Budenz J. Moksa – és erza-mordvin nyelvtan // Nyelvtudományi Kӧzlemények XIII. Budapest, 1876. Kötet 13. Old. 1–134.
- Gabelentz H. C. Versuch einer Mord winischen Grammatik // Zaitschrift für die Kunde des Morgenlandes. Göttingen, 1839. Bd. 2. S. 235–284; 383–418.
- Inaba N. Suomen dativigenetiivin juuret vertailevan menetelmän valossa. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2015. 413 s.
- Keresztes L. Chrestomathia Morduinica. Budapest: Tankönyvkiado, 1990. 204 old.
- Paasonen H. Mordwinische Chrestomathie mit Glossar und Grammatikalischem Abriss. Helsingfors: Société Finno- Ougrienne, 1953. 159 S. (Hulfsmittel fur das Studium der Finnisch-ugrischen Sprachen; 4).
- R u e t e r J . A d n o m i n a l P e r s o n i n t h e Morphological System of Erzya. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2010. 236 р.
- Szinnyei J. Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Leipzig: G. J. Göschon'sche Verlagshandlung, 1910. 156 S.
- Turunen R. Nonverbal predication in Erzya. Tallinn: AS Pakett, 2010. 232 р.
- Wiedemann F. J. Grammatik der ersamordwinischen Sprache: nebst einem kleinen mordwinisch-deutschen und deutsch-mordwinischen Wörterbuch. Saint-Petersburg: Commissionäre der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1865. 261 р.