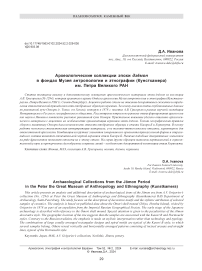Археологические коллекции эпохи Дзёмон в фондах Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра Великого РАН
Автор: Иванова Д.А.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Палеоэкология. Каменный век
Статья в выпуске: 2 т.52, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу и дополнительному освещению археологического материала эпохи дзёмон из коллекции А.В. Григорьева (№ 1294), которая хранится в архиве Отдела археологии Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра Великого РАН (г. Санкт-Петербург). Акцент в работе сделан на описании декоративных сюжетов и определении стилистической принадлежности отобранных образцов керамики. За основу анализа взяты опубликованные данные по раковинной куче Оомори (г. Токио, о-в Хонсю), которую в 1878 г. посетил А.В. Григорьев в рамках научной экспедиции Императорского Русского географического общества. Рассмотрены вопросы по раннему этапу формирования археологии как науки в Японии в контексте раскопок раковинной кучи Оомори. Пристальное внимание уделено описанию археологического материала с акцентом на особенностях орнаментации керамики эпохи дзёмон. Точная географическая привязка сборов к памятнику Оомори дала возможность отнести отобранные образцы к стилям Касори Б и Хориноути. В основу работы положена стилистическая интерпретация материала, а не технико-типологическое описание, характерное для отечественной археологии. Комбинации из крупных элементов зонированного орнамента прямоугольной формы и спиралевидного мотива являются отличительной чертой керамики стиля Касори Б. Наличие подобных декоративных элементов на ряде фрагментов позволяет отнести их к этому стилю. На серии других образцов выявлены вертикальный и горизонтальный узоры из прочерченных дугообразных и прямых линий - особенность декоративной композиции стиля Хориноути.
Япония, маэ, коллекции а.в. григорьева, неолит, дзёмон, керамика
Короткий адрес: https://sciup.org/145147179
IDR: 145147179 | УДК: 903.08 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.2.029-036
Текст научной статьи Археологические коллекции эпохи Дзёмон в фондах Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра Великого РАН
Последние три года для многих отечественных исследователей, занимающихся зарубежной археологией, определили новые акценты исследований: невозможность заграничных поездок для работы с археологическими коллекциями и участия в международных экспедициях стимулировала поиск ранее не привлекавшихся источников. Несмотря на то что в большинстве случаев изучение зарубежных материалов происходит путем анализа иностранной литературы, непосредственная работа с коллекциями – важная составляющая любого научного проекта. Поиск новых источников зачастую приводит к обнаружению оставленных без должного внимания материалов. В нашем случае ими оказались уникальные археологические коллекции эпохи дзёмон , привезенные российскими исследователями из Японии в конце XIX – начале XX в. В настоящей работе представлен предварительный анализ керамики из собрания А.В. Григорьева (№ 1294), которое хранится в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра Великого (МАЭ РАН).
Несмотря на то что археологические материалы эпохи дзёмон были переданы МАЭ еще в начале XX в., а в Россию привезены в конце XIX в., они практически не освещены в отечественной историографии. Исключением является статья Л.Я. Штернберга «Айнская проблема», опубликованная после его участия в III Тихоокеанском научном конгрессе в Токио в 1926 г. [Гаген-Торн, 1975, с. 212–217]. Автор, рассуждая об особенностях айнского орнамента, наряду с иллюстрациями из работы Н.Г. Мунро «Древняя Япония» (Munro N.G. Prehistoric Japan, 1908) приводит фото фрагментов керамики эпохи дзёмон из коллекции А.В. Григорьева: «Рис. 5. Орнаментированные глиняные черепки, найденные А.В. Григорьевым в Японии, между Иокагамой и Токко (Токио. – Д.И. ), близ оз. Омори, в 1907 г. МАЭ, № 1294» [Штернберг, 1929, с. 345]. Для этой фотографии Л.Я. Штернберг из 131 предмета отобрал лишь четыре фрагмента керамики (№ 20, 33, 54 и 57). Они были использованы для демонстрации простых форм орнамента (зигзаги, волнообразные линии, спирали), которые встречаются как в айнском декоре и археологических коллекциях неолита Японии, так и в культурах Юго-Восточной Азии.
Данная статья является продолжением исследований в области анализа керамического комплекса эпохи дзёмон и развития интереса к японской археологии каменного века в отечественной историографии.
Коллекции А.В. Григорьева в фондах МАЭ: общий обзор
Предметный интерес к коллекциям А.В. Григорьева возник у меня во время работы над статьей, посвящен- ной изучению истории появления в российской археологической литературе термина «дзёмон», а также эволюции отношения к данному периоду в японской и отечественной археологии [Табарев, Иванова, 2020]. Российские ученые обратили внимание на древности сопредельных территорий, в частности Японского архипелага, в конце XIX – начале XX в. Первоначально древние культуры Японии рассматривались через призму этнографии («айнская проблема»), позже центральную роль стали играть археологические материалы каменного века. А.В. Григорьев, И.С. Поляков, Д.М. Позднеев, К.С. Мережковский, Л.Я. Штернберг – отечественные исследователи, которые вживую познакомились с этими материалами, а некоторые из них смогли привезти с собой коллекции керамики и каменных орудий эпохи дзёмон [Там же, с. 64–68]. Меня привлекли материалы А.В. Григорьева, собранные во время его достаточно длительного пребывания в Японии.
Александр Васильевич Григорьев (1848–1908 гг.) – ученый широкого профиля (зоолог, ботаник, географ, этнограф). Благодаря стечению обстоятельств он первым из российских исследователей посетил Японию в конце XIX в. Как член Императорского Русского географического общества (ИРГО) А.В. Григорьев был командирован весной 1879 г. в научную экспедицию на шхуне «А.Э. Норденшёльд», которая прибыла в порт Йокогамы 1 мая 1879 г., а 24 июня села на мель у берегов о-ва Хоккайдо.
Воспользовавшись непредвиденной остановкой и заинтересовавшись еще в Йокогаме историей и культурой Японии, исследователь решил остаться в стране практически на год. На протяжении этого времени он успел детально ознакомиться с достопримечательностями Токио, Йокогамы и Хакодате. Увлеченный народом айну, А.В. Григорьев приобретал старинные рукописи с иллюстрациями, предметы айнского обихода, делал подборки фотографий и формировал альбом зарисовок. Интере суясь зоологией, он составлял коллекцию заспиртованных рыб. А.В. Григорьев посетил памятник Оомори (о-в Хонсю), где собрал разнообразный археологический материал. Благополучно до ставленная в Россию, эта коллекция была преподнесена в дар Музею Русского географического общества 21 октября 1880 г. [Дударец, 2006]. В 1907 г. ИРГО передало ее Музею антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). В следующем году В. Каминским была составлена Опись коллекции. На титульной странице дана пояснительная записка: «Коллекция черепков, раковин и каменных орудий из японского кьёкенмеддинга близ Оомори, на пол пути между Иокогамой и Токио, собранная Александром Васильевичем Григорьевым и полученная музеем от Императорского Географического Общества в 1907 г. Предметов №№ 131». В со- ставе данной коллекции можно выделить несколько групп находок, подавляющее большинство которых относится к неолиту: керамика – орнаментированные и неорнаментированные фрагменты, обломанный носик сосуда, отдельные элементы лепных аппликаций, обломок антропоморфной глиняной ручки (личина) (№ 1–60); каменные орудия – кремневые скребки, пластины, целые и обломанные наконечники копий и стрел, грузило, топор, отщепы (№ 61, 64–80); фрагменты костей животных (№ 62, 63); раковины (№ 81– 129); средневековые артефакты – изделие из железа (№ 130) и небольшой свиток (№ 131).
К сожалению, ввиду фрагментарности керамической коллекции А.В. Григорьева и отсутствия целых сосудов представленный в настоящей работе анализ морфологических и стилистических параметров является лишь первым шагом к полноценной интерпретации и атрибуции материалов. Не имея возможности провести сравнение с эталонными комплексами эпохи дзёмон , я оперирую данными, представленными японскими коллегами из Университета Тохоку (г. Сендай) в ходе консультаций, основной задачей которых был поиск аналогий среди многообразия стилей керамики эпохи дзёмон . Наличие четкой привязки к памятнику – «…из японского кьёкенмеддинга близ Оомори, на пол пути между Иокогамой и Токио» - позволило сократить варианты до двух: это стили Хориноути ( Хори-ноути сики доки Й2ЙЙ±Ш ) и Касори Б ( Касори B сики доки ^^^ B ^iS )*. Таким образом, в анализе коллекции А.В. Григорьева будут использоваться данные по указанным стилям керамики. В настоящей работе применяется термин « стиль », интерпретируемый как визуальная характеристика керамики эпохи дзёмон , включающая декоративную композицию, под которой подразумевается определенная система сочетания разных комбинаций орнамента внутри одной стилистической группы [Иванова, 2018, с. 178].
Концепция стиля (ё:сики Ж^) в контексте японской археологии складывалась на протяжении XX в. Окончательно она была оформлена в трудах выдающегося японского археолога Тацуо Кобаяси. В общих чертах стиль – это определенный «пакет данных», которые можно получить в ходе анализа керамического комплекса того или иного региона и периода. Неповторимость стилей дзёмон отмечается на протяжении всего процесса создания керамики и наиболее ярко выражается в орнаментации. Наряду с термином «стиль», Тацуо Кобаяси оперирует еще двумя важными в современной японской археологии терминами - «тип» (катасики ^^) и «форма» (кэй-сики ^^) [Иванова, Табарев, 2022, с. 60-63]. Исходя из этого, керамику из коллекции А.В. Григорьева целесообразнее описывать с позиции стиля (с акцентом на декоративной характеристике), а не технико-типологической классификации и технологии производства.
Историческая справка: раковинная куча Оомори и особенности керамики стилей Хориноути и Касори Б
Раковинная куча Оомори расположена в специальных районах Оота и Синагава столичного округа Токио (о-в Хонсю) [Като Рёку, 2006, с. 73; Синнихон…, 2020, с. 66] (рис. 1). Памятник был открыт в 1877 г. американским зоологом Эдвардом Сильвестром Морсом (Edward Sylvester Morse), который провел первые в истории японской археологии научные раскопки. С его именем связывают появление термина « дзёмон ». Однако, согласно источникам, сам Э.С. Морс этот термин никогда не употреблял, а в своем отчете 1879 г. по раковинной куче Оомори при описании керамики использовал название «cord marked pottery» («керамика с веревочными оттисками») [Кобаяси Тацуо, 2008, с. 832]. Сочетание «керамика дзёмон » ( дзё:мон доки 縄紋土器 ) появилось только в 1886 г. в работе Мацу-таро Сираи [Табарев, Иванова, 2020, с. 63].
В отчете Э.С. Морса по раковинной куче Оомо-ри (1879 г.) содержались много детальных рисунков, характеристика артефактов, в первую очередь керамики, обозначены их функциональные особенности и приведены аналогии в материалах других регионов мира [Кобаяси Тацуо, 2008, с. 833–839]. Общее число найденных за четыре месяца (с сентября по декабрь) артефактов составило 261 ед.: 214 фрагментов керамики, 6 глиняных табличек добан , 23 орудия из кости и рога, 9 каменных орудий и 9 раковин. В настоящее время все находки отнесены к категории важных национальных ценностей.
Следует отметить, что раковинная куча Оомо-ри была известна до раскопок Э.С. Морса. В 1872 г. во время строительства железной дороги в результате расчистки восточной части плато, где располагался памятник, обнажился слой с раковинами и битой посудой. Именно этот культурный слой через пять лет привлек внимание Э. Морса. Есть свидетельство, что в 1873 г. Генрих фон Зибольт (Heinrich Phillipp von

Рис. 1. Расположение раковинной кучи Оомори.

а

Рис. 2. Памятники в честь первых научных раскопок Э. Морса. а – стела с надписью «Насыпь раковин Оомори» ( О:мори кайкё 大森 貝墟 ); б – мемориальная плита с надписью «Раковинная куча Оомори» ( О:мори кайдзука 大森貝塚 ); в – бюст Э. Морса в археологическом парке.

Siebold), исследуя раковинную кучу в районе между Токио и Йокогамой, нашел каменный топор и наконечник стрелы, которые позже вошли в его коллекцию «Япония в эпоху Мэйдзи» и были переданы Всемирному музею в Вене. Таким образом, Э. Морс, возможно, не был первым западным ученым, который исследовал Оомори. Достоверно известно, что Г. фон Зибольт в 1877–1878 гг. продолжил работы на памятнике. Во время своего пребывания в Японии он изучал раковинные кучи и древние захоронения на обширной территории от о-ва Хоккайдо до о-ва Кюсю. В 1875–1879 гг. в Японии вышли его работы на немецком и английском языках, в т.ч. и по археологии («Notes on Japanese Archaeology with Especial Reference to the Stone Age», 1879). Также широко известен спор Г. фон Зибольта с Э. Морсом по поводу каннибализма у древнего населения Японского архипелага [Като Рёку, 2006, с. 60–61, 69; Хирата Такаси, 2008, с. 139].
В первой половине XX в. в Токио были изготовлены две мемориальные плиты в честь раковинной кучи Оомори. На первой вырезана надпись «Раковинная куча Оомори» (О:мори кайдзука 大森貝塚)* (рис. 2, б). Стела была воздвигнута в ноябре 1929 г. в районе Синагава, рядом со станцией Оомори (при- мерное месторасположение раскопа Э. Морса). Идея выразить почтение заслугам и вкладу Э. Морса в развитие японской археологической науки принадлежала японскому политику и бизнесмену Хикойти Мотояма. В апреле 1930 г. в районе Оота в непосредственной близости от железнодорожных путей ветки «Токайдо» был поставлен второй монумент с надписью, которая дословно переводится как «Насыпь раковин Оомори» (О:мори кайкё ЛЙМ^)* (рис. 2, а). Таким образом, две памятные стелы находятся в соседних районах на расстоянии примерно 500 м друг от друга. Эта ситуация возникла из-за того, что с момента открытия раковинной кучи Оомори прошло 52 года, за которые Токио изменился до неузнаваемости, а в своем дневнике Э. Морс писал, что памятник был расположен в полумиле от станции (ок. 800 м) [Като Рёку, 2006, с. 4–10, 21].
В 1955 г. территория вокруг стел (ок. 2 857 м2) получила статус национального исторического памятника. В результате раскопок 1979, 1984, 1986 и 1993 гг. на площади 101 303 м2 обнаружены остатки шести жилищных котлованов глубиной 30 см, 132 хозяйственные ямы, два очага, в некоторых частях памятника слой раковинной кучи составляет ок. 1 м. В 1984 г. было окончательно установлено место первоначального раскопа Э. Морса – вокруг стелы с надписью «Раковинная куча Оомори» в районе Синагава. В 1986 г. на этом месте открыт археологический парк с экспозицией и поставлен бюст Э. Морса (рис. 2, в ). Основная часть артефактов хранится в Историческом музее Синагавы [Там же, с. 81–88].
Помимо большого количества раковин моллюсков и костей кабана, оленя, птиц и рыб, на памятнике были обнаружены следующие группы артефактов: изделия из камня (наконечники копий и стрел, топоры и тесла, блюда, фрагменты жезлов, терочники и пр.); керамика и предметы из глины (многочисленные фрагменты сосудов, керамические грузила, бусины, ушные диски, небольшие фрагменты догу, глиняные таблички добан ); изделия из костей, рогов и клыков животных (костяные ножи, иглы, проколки, рыболовные крючки, гарпуны, наконечники стрел из клыков кабана, резные изделия из рога и пр.); фрагменты человеческих костей.
Судя по керамическому комплексу, раковинная куча Оомори активно использовалась местным населением с середины позднего по первую половину финального периода эпохи дзёмон. Радиоуглеродные даты, полученные по углю, указывают на интервал 3 500–3 000 кал. л.н., что соотносится со временем распространения на равнине Канто стилей Касори Б, Хориноути и Ангё 3 (4 240-3 220 кал. л.н.) [Там же, с. 73; Кобаяси Кэнъити, 2019, с. 111–127].
В материалах памятника Оомори представлены классические для эпохи дзёмон формы емкостей: глубокие горшки ( фукабати ^й ), неглубокие горшки ( асабати ^# ), сосуды баночной формы ( цубогата доки ^^iS ) и с носиком ( тю:ко: доки ^Di 器 ) [Акита Канако, 2008, с. 596; Кано Минору, 2008, с. 591]. В некоторых районах распространения керамики стиля Касори Б (преимущественно это территории префектур Сайтами и Тиба) найдены горшки с ручками для подвешивания ( цуритэ доки ^^iS ), однако на памятнике Оомори они не выявлены [Накамура Косаку, 2008, с. 1065].
Для стилей Касори Б и Хориноути характерно деление сосудов фукабати на два типа: А – с выгнутой или отогнутой горловиной, B – с вогнутой. В японской археологической литературе горшки первого типа обозначаются термином асагаогата доки ( ^ 顔形土器 ), – «сосуд с горловиной в форме раструба вьюна»; второго - кярипа:гата доки ( ^tU^—^ 土器 ) – «сосуд с горловиной в форме кронциркуля» [Хосода Мосару, 2008, с. 412–416]. Следует отметить, что все указанные варианты сосудов были характерны для стилей керамики среднего периода эпохи дзёмон . Таким образом, наблюдается преемственность форм.
Декоративная композиция на сосудах стиля Хориноути и Касори Б представлена фоновым (оттиски шнура, «гребенка», прочерченный узор) и основным орнаментами. В большинстве случаев поверхность сосуда разделена на несколько горизонтальных орнаментальных поясов, однако для стиля Хориноути также характерно и вертикальное расположение орнамента. За счет четкого разделения на пояса визуально выделяются зоны горловины, тулова и придонная. Основная часть декора расположена от края венчика до середины тулова.
Среди декоративных элементов можно отметить узор из прочерченных линий (прямых, волнистых, дугообразных), спиралевидный и зонированный геометрический орнамент, линейные аппликации (вертикальные и горизонтальные), затертый отпечаток веревки, ряды оттисков прямоугольной и овальной формы. Характерно сочетание орнаментированных и неорнаментированных деталей. Для создания контраста использовали затирку и лощение поверхности. Как и в случае с формами сосудов, основные декоративные элементы и технические приемы сложились еще в среднем периоде эпохи дзёмон [Акита Канако, 2008, с. 596–597; Кано Минору, 2008, с. 587–591; Иванова, 2018, с. 176–190].
Обзор керамического комплекса и определение стилистической принадлежности
Наибольший интерес для идентификации стилистической и хронологической принадлежности коллекции А.В. Григорьева представляет керамический комплекс, насчитывающий 60 номеров и 67 предметов. Мной произведено визуальное исследование черепков с фиксацией вариантов орнамента. В тех случаях, когда удавалось выполнить предварительную реконструкцию части сосуда из разрозненных фрагментов, была зафиксирована и проанализирована декоративная композиция.
В контексте данного исследования из коллекции № 1294 были отобраны 25 фрагментов (22 номера: 2, 4–6, 8, 9, 11–15, 33, 34, 41–45, 57–59, 60а–г). Определяющим фактором для выборки были четко читающийся орнамент и возможность реконструкции отдельных фрагментов в крупные части, которые дают больше информации для стилистической интерпретации. Часть образцов получилось соеди- нить, благодаря чему имеются более точные данные по декоративной композиции трех сосудов. В выборке присутствуют и отдельные фрагменты с четко чи- тающимся орнаментом, позволяющие рассмотреть разные варианты декора сосудов эпохи дзёмон.
Во время систематизации керамики по орнаменту выявлено 12 фрагментов от одного горшка: № 4–6, 8, 9, 11–15, 33 и 34. В процессе предварительной реконструкции удало сь частично восстановить зону горловины и стенку тулова (семь фрагментов из 12), которые представлены фрагментами № 4–6, 8, 9, 15 и 34 (рис. 3, 1 ). Сосуд визуально разделен на две части – неорнаментированную зону горловины со следами затирки и орнаментированную зону тулова. Разделение выполнено с помощью горизонтального жгута, дополнительно украшенного оттисками округлой формы. Акцент в орнаменте сделан на зону тулова. Представлена часть крупного рельефного декоративного элемента – многоуровневый зонированный орнамент прямоугольной формы со спиралевидным мотивом в центре. Композиция дополнена затертым отпечатком веревочного шнура и оттисками округлой формы. Такой вариант комбинации де-

Рис. 3. Реконструкция частей сосудов. © МАЭ РАН, 2024.
1 – фрагменты № 4–6, 8, 9, 15 и 34; 2 – фрагменты № 60а–г.
коративных элементов является характерной особенностью стиля Касори Б [Акита Канако, 2008, с. 596–597; Син-нихон…, 2020, с. 91].
Второй сосуд представлен четырьмя крупными фрагментами под № 60а–г (рис. 3, 2 ). Это верхняя часть тулова с неор-наментированным венчиком. Декор представлен типичной для стиля Хориноути 2 композицией: ряды горизонтальных и диагональных прочерченных линий формируют многоуровневую и многослойную комбинацию из треугольников. Общая концепция дополнена неорнаментирован-ными зонами. На фрагменте № 60б есть небольшой участок нижней части туло-ва. Она была затерта, как и зона венчика [Кано Минору, 2008, с. 587–588].
Фрагменты № 41–45 являются частями третьего со суда (рис. 4, 1 ). Удалось объединить три из пяти. Декоративная композиция сформирована двумя вариантами орнамента: затертыми оттисками веревочного шнура и узором из прочерченных дугообразных линий. Это сочетание декоративных элементов украшало всю поверхность тулова, оставляя нижнюю часть сосуда неорна-ментированной. По предварительным данным, описанная композиция характерна для керамики стиля Хориноути 1 типа Б [Там же, с. 588, 590].

б
10 cм
Рис. 4. Фрагменты № 41–45 одного сосуда ( 1 ) и фрагмент № 2 ( 2 ). © МАЭ РАН, 2024.
Среди отдельных черепков также есть крупные экземпляры с четко читающимся орнаментом. Фрагмент № 2 (рис. 4, 2 ) примечателен наличием декора не только на внешней поверхности сосуда, но и вдоль внутреннего края горловины. Здесь он представлен горизонтальным зонированным орнаментом прямоугольной формы, заполненным прочерченным узором в виде эллипсообразной фигуры с пунктирными линиями в середине (рис. 4, 2 , б ). Декоративные элементы разделены вертикальным узором из двух оттисков концентрической формы, соединенных параллельными прочерченными линиями. Однако, поскольку горшки с внутренним декором редкое явление, более информативным является орнамент на внешней поверхности (рис. 4, 2 , а ). Он представлен комбинацией из рельефного узора и неорнаментированных зон. Декоративные элементы выполнены в технике прочерчивания и предположительно имеют форму восьмерки и спирали. Последняя состоит из чередующихся полос: декорированной оттисками веревки и неорнаментированной со следами затирки. Основываясь на форме орнамента и сочетании разных декоративных приемов, можно предположить, что это фрагмент сосуда стиля Касори Б [Акита Канако, 2008, с. 596–597].
Заключение
На сегодняшний день в архивах Отдела археологии МАЭ РАН хранится пять собраний археологических материалов из Японии, которые были переданы в дар
Императорским Русским географическим обществом в начале ХХ в. Помимо коллекции из раковинной кучи Оомори (№ 1294), А.В. Григорьев собрал еще одну на о-ве Хоккайдо (103 экз. каменных орудий и фрагментов керамики). В фонды МАЭ материалы поступили в 1907 г., и в 1908 г. описаны В. Каменским под № 822. Коллекция № 1295 была привезена И.С. Поляковым из Синагавы (около Токио), № 1590 – сборы на о-ве Хоккайдо, автор неизвестен. Последняя коллекция получена в 30-х гг. XX в. (№ 4083). Она была собрана Л.Я. Штернбергом в разных частях Японии (префектуры Нагано, Аомори и Сайтама) предположительно во время его поездки в Токио на III Международный Тихоокеанский конгресс в 1926 г.
Коллекция археологических находок из раковинной кучи Оомори (№ 1294), собранная А.В. Григорьевым, уже более века хранится в архиве МАЭ, и до настоящего времени о ней упоминалось только один раз в статье Л.Я. Штернберга [1929] в контексте «айнской проблемы», а не археологии каменного века Японии. Это говорит о необходимости дополнительного освещения коллекции, поскольку из 67 фрагментов керамики было опубликовано только четыре. Представленное в настоящей работе описание артефактов и проведение параллелей со стилями позднего – финального дзёмона – лишь первый шаг к полноценной интерпретации и атрибуции всего комплекса материалов, хранящихся в фондах МАЭ РАН. Изучение зарубежных археологических коллекций, хранящихся в архивах российских музеев федерального и регионального уровней, является перспективным и важ- ным исследовательским направлением, особенно в контексте современных приоритетов развития национальной гуманитарной политики.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-39-60001). Выражаю глубочайшую признательность сотрудникам Отдела археологии МАЭ Г.А. Хлопачеву, Д.В. Герасимову и О.С. Емелиной за оказанную во время работы с коллекциями помощь, профессору Канно Томонори (Университет Тохоку) за важные консультации по теме статьи.