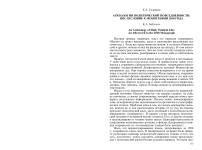Археология политической повседневности: послесловие к монографии 2018 года
Автор: Соловьев Кирилл Андреевич
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: У книжной полки
Статья в выпуске: 61, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена подходам политической повседневности, использованных автором при изучении сюжетов политической истории России конца XIX - начала XX вв. Автор определяет методологические и источниковедческие принципы, которые лежат в основе данного исследовательского приема. Особое внимание уделено тем выводам, к которым автору удалось прийти при разработке проблем политической повседневности. Автор ставит вопрос о специфике политической системы в России в 1905-1917 гг.: роли представительных учреждений, лоббистских групп, периодической печати, механизмам взаимодействия законодательной и исполнительной властей. Опыт работы с материалами думского периода истории России позволил автору обратиться к политическим процессам в 1881-1905 гг. Он пришел к выводу, что разговор о власти в России до 1905 г. нельзя свести к проблеме автократии. Речь должна идти об особой политической системе, для которой император - крайне важный, но не единственный элемент. Более того, в ходе эволюции и усложнения законотворческого процесса происходила минимизация функций царской власти.
Российская империя, самодержавие, бюрократия, законотворчество, государственный совет, русская революция 1905 г, государственная дума, политическая повседневность, методология истории, исторический источник
Короткий адрес: https://sciup.org/149127039
IDR: 149127039 | DOI: 10.24411/2072-9286-2019-00023
Текст научной статьи Археология политической повседневности: послесловие к монографии 2018 года
Историк привык завершать текст его первыми страницами. Обычно он пишет введение, когда в заключении расставлены все точки над 1. Тогда все представляется ясным, и остается объяснить себе и другим, почему он все же решился на сей труд. В этом заключается своего рода лукавство. Все же стоит хотя бы однажды взяться за честное введение, разобравшись в самом себе и собственном тексте.
Видимо, методологически верно идти от проблем к источникам. У меня чаше всего получалось иначе. Я сравнительно давно столкнулся с совершено уникальным источником: материалами перлюстрации, осуществляемой Департаментом полиции Министерства внутренних дел. Они хорошо известны историкам и в то же время лишь в малой степени использованы. Объем переписки, сохранившейся в личных фондах архивов, поразительно мал, и это при том, что письма - одна из важнейших форм коммуникации в начале XX в. Немногие берегли чужую (да и свою собственную) корреспонденцию. Она терялась, горела. В конце концов ее целенаправленно уничтожали.
Вместе с тем, переписка - уникальный и, в сущности, непревзойденный источник. Письмо пишется «по свежим следам», не себе, не потомству, а своему современнику, который нередко может проверить полученную информацию. Письмо может компенсировать ложь делопроизводства, недосказанности протоколов и стенографических отчетов. Проблема лишь в том, что писем неизмеримо меньше, нежели на то мог рассчитывать историк. И тут ему на помощь приходит политический сыск, часто склонный к политически мотивированному «вуайеризму». В данном случае интересы политической полиции и историков вполне сходятся. И те, и другие склонны к подглядыванию и чтению чужих писем. Благодаря бдительности сотрудников политического розыска, в фондах Департамента полиции сохранилось то, что неминуемо должно было пропасть1.
Жаль, что перлюстрированных писем, датированных до 1906 г, сохранилось очень мало. В Департаменте полиции было принято уничтожать выписки десятилетней давности. Однако и того, что есть, достаточно, чтобы составить совершенно новое представление о политической жизни России думского периода. Это меня под- толкнуло к мысли, что нужно совсем иначе написать политическую историю позднеимперского периода. Исследователю никуда не уйти от законодательства, официального производства или публицистики, но даже не это должно стать главным. Было очевидным, что активное использование источников личного происхождения и, в первую очередь, эпистолярного наследия участников политического процесса начала XX в. позволит заглянуть на «политическую кухню» России этого периода и пристально в нее всмотреться.
В этой связи вспомнился исследовательский прием, восходящий к работам Б.М. Эйхенбаума, изучавшего, в том числе, «литературный быт», то есть социальные аспекты писательского труда, в значительной мере определявшие и характер текстов2. Но тексты могут быть разные: это не только беллетристика, но и научные сочинения, и законодательные акты и другие. Точно так же порядок работы над ними в значительной мере будет обусловливать их содержание. В этой связи можно говорить не только о литературном, но и о политическом быте, состоящем из множества разнообразных практик.
Как принято обсуждать проекты, сколько времени на это обычно тратится, какие эксперты привлекаются к этому делу, как вообще организован институт экспертизы, как редактируются тексты - все эти и многие другие вопросы оказываются даже важнее для понимания законотворческого процесса, чем привычные декларации правительственной власти и происходящие у всех на виду ее столкновения с оппозицией. Кухня важнее обеденного зала, закулисье важнее сцены. О самом важном редко пишут в газетах.
Политическая история - объект критики и даже насмешек. Ее упрекают в методологическом консерватизме и близорукости. Тем не менее, она не теряет своей привлекательности и для научной корпорации, и для околонаучного сообщества. Порой это создает у авторов ложное ощущение благополучия, следствием чего становятся устойчивые традиции историописания политических сюжетов. Они возникли полтора столетия назад, еще в XIX в., и не слишком существенно менялись с тех пор. Социальная история успела стать «новой», экономическая история - тоже, к политической истории это в полной мере не относится.
Интерес к ней, в том числе, обусловлен структурой Источниковой базы, которая в огромной степени складывалась усилиями органов власти и так или иначе освещает их деятельность. Вольно или невольно авторы следуют за своими источниками, воспроизводя их акценты, умозаключения, терминологию. Такого рода зависимость чаще всего почитается за добродетель. По умолчанию подразумевается, что текст о власти тождественен самой власти3.
Вместе с тем канон организации делопроизводственного материала зачастую был весьма далек от подлинного хода обсуждения и принятия законопроектов. Иными словами, реальные практики законотворчества и администрирования в полной мере не описывались 116
законодательными актами и делопроизводственными материалами.
Еще в большей степени это относится к любой хронике политической жизни. В новое и новейшее время с ее задачами справляется пресса. Она обращает внимание читателя на то, что ей представляется важным, существенным, чаще всего игнорируя законотворческую рутину, повседневность политического процесса. В этом случае происходит «мобилизация» сведений об исключительных обстоятельствах из жизни правительства, которая создает безусловно искаженное представление о норме. Политический процесс исключительно сводится к борьбе за власть, непримиримому столкновению действующего правительства с его оппонентами. Журналисты подбирают новости. Как хорошо известно, когда человек садится на лошадь - это не новость. Новость - это когда лошадь садится на человека. Историческая наука как раз такими новостями меньше интересуется. Важнее обычное, рядовое, рутинное - то, что формирует повседневность приятия политического решения, политическую повседневность. Речь идет о каждодневном ритме работы участников политического процесса как со стороны государственных служащих, так и партий, в том числе оппозиционных.
Искривленная картина политической жизни «выпрямляется» благодаря подходам «политической повседневности». В данном случае в центре внимания оказываются алгоритмы политического поведения. Их изучение подразумевает ряд методологических посылок.
Первая. Политическая повседневность разворачивается в пространстве, а не во времени. Речь идет об устойчивых структурах, которые меняются чрезвычайно медленно. Они редко переживают дисбалансировку и сравнительно быстро восстанавливаются. Их анализ подразумевает анализ статических состояний (организационной структуры), а не динамики.
Вторая. Памятен афоризм М. Блока о «людоедстве» историка, гоняющегося за «человечиной». Представляется, что проблемный анализ политической истории требует от исследователя своего рода «диеты». Акцент надо делать на институтах, а не персоналиях. Именно институты формируют правила игры, создают жесткие рамки для индивидуальной деятельности.
Третья. Пользуясь терминологией М. Фуко, в Европе эпохи модерна ключевая власть - не репрессивная, а дисциплинарная4. Органы государственного управления - лишь «верхушка айсберга». Носителем подлинной власти оказываются обыватели, которые знают, что есть норма, и так или иначе приводят все вокруг в соответствии с ней. Такая власть безлична и сама себя властью чаще всего не считает5. Иными словами, власть - это не решение, а процедура; не воля, а практика.
Четвертая. Из политической истории следует изъять «большие дни» и «красные даты», примечательные для хронистов и журна-117
листов, заменив их серыми буднями. Политическая повседневность бессобытийна и может даже показаться неисторичной. При этом следует иметь в виду что столь впечатляющая «политическая публичность» сродни театральности6. Она знает строгие законы, хорошо известные зрителю, которому не стоит даже задумываться о том, что происходит за кулисами. Он пользуется понятиями, санкционированными государством, мыслит категориями, вольно или невольно формируемыми государственной властью. По словам П. Бурдье, «следствием государства является то, что оно заставляет думать, будто нет никакой проблемы государства»7. Важным элементом политической театрализации становится вера в безусловную значимость свершаемого представления8. Подходы политической повседневности подразумевают ее преодоление.
Пятая. Политическая повседневность существует вне ценностных ориентиров. Она не идеологична, а технологична - а значит и аполитична.
В рамках этого подхода была проанализирована политическая система России в 1906-1914 гг. Особенности взаимодействия законодательной и исполнительной власти лишь отчасти описывались правовыми актами того времени. На практике оказывалось, что полномочия представительных учреждений были шире, чем это было установлено в Основных государственных законах 23 апреля 1906 г. Государственная дума и Государственный совет - это не только властные институты. За ними стояли социальные реалии сложно организованной России тех лет. Более того, сама Дума, выборы в нее, политические партии способствовали их появлению. Пользуясь представительными учреждениями, различные группы интересов неожиданным образом возникли на политической сцене тех лет, получив эффективный инструмент давления на администрацию. Депутаты и стоявшие за ними корпоративные и сословные объединения, предпринимательские организации, земские собрания и городские думы довольно быстро инкорпорировались во властные круги Народные избранники, может быть даже вопреки собственным ожиданиям, обрели значительный вес в правительственных сферах. Они отвоевывали себе новые полномочия, прерогативы. Так складывались правила игры, далеко не во всем совпадавшие с законодательством 1905-1906 гг.9
Решить проблему политической повседневности на материалах России до 1905 г. и сложнее, и интереснее. До Первой революции участников политического процесса было существенно меньше -соответственно, меньше осталось и источников. Стенографические отчеты заседаний Государственного совета или Комитета министров не велись, а журналы и мемории дают весьма приблизительное представление о характере обсуждения тех или иных вопросов в высших законосовещательных учреждениях империи. Иными словами, историк обладает весьма ограниченным кругом источников, 118
чтобы высказаться о формализованном порядке работы законодательной машины страны. Тем более, это относится к неформализованным или слабо формализованным практикам, куда более важным для понимания законотворческого процесса.
Отчасти это объясняет, почему априорные суждения о характере политической системы России конца XIX - начала XX вв. подменяют все остальные. Нет простых путей решения данной проблемы. Для этого надо искать свой методологический «ключ» и, конечно же, источники. Намного проще ограничиться общими и мало обязывающими словами об автократическом характере власти в России до 1905-1906 гг. Однако подобные оценки мало устраивали современников. Ситуация им рисовалась значительно более сложной и неоднозначной. Они отмечали и ограничения царской власти, и внутриправительственные конфликты, и влияние общественности на принятие политических решений. Причем об этом писали опытные чиновники, хорошо знавшие технику законотворчества. Одновременно с тем они были талантливыми литераторами, которые чувствовали «нерв» эпохи, старались воспроизвести нравы петербургских канцелярий. Характерно, что для учебного курса воспоминания В.И. Гурко, С.Е. Крыжановского, Д.Н. Любимова, Н.Н. Покровского и других представителей высшей бюрократии были, пожалуй, лучшими текстами, позволяющими сформировать более или менее цельное представление о функционировании политической системы.
Нужно ли доказывать, что воспоминания - не лучший исторический источник. Им есть альтернатива - письма и дневники сановников империи. В них, в том числе, излагаются перипетии политической борьбы, ход заседаний высших законосовещательных коллегий, а также частных совещаний министров. Только лишь с опорой на подобные материалы можно восстановить принципы работы законотворческого механизма Российской империи. Большая удача, что в распоряжении историков есть такой источник как донесения государственного секретаря А.А. Половцова императору Александру III о работе Государственного совета. В своих записках царю Половцов подробно пересказывал, что и как говорили члены высшей законосовещательной коллеги империи. Государственный секретарь излагал собственную точку зрения на многие вопросы и, вопреки писанным и неписанным правилам, давал советы императору. Иногда в своих записках царю он касается и частных бесед, имевших место в правительственных кругах. В ряде случаев эта информация дублируется в его дневниках, но, правда, такое случается далеко не всегда.
Иными словами, в распоряжении историков есть источники, позволяющие по-новому взглянуть на политическую жизнь империи. Однако для верного прочтения нужен еще «ключ». Ради его обладания надо отрешиться от привычного образа самодержца, принад- лежащего скорее к фольклору или историческим преданиям, нежели политическим реалиям даже вековой давности. Любая власть - это и мифология, и технологии. Мифология прочно вошла в головы современников и потомков, что нельзя сказать о технологиях. Учитывая растущие масштабы делопроизводства и усложнявшиеся задачи, стоявшие перед государственной властью, процесс принятия решения становился все более технологичным. Отчасти роль императора сводилась к легитимации уже практически принятого решения. Конечно, в этом утверждении есть известная доля преувеличения. Император принимал решения по кадровым вопросам, таким способом оказывая непосредственное влияние на направление деятельности всех ведомств. Главное даже другое: цари, в отличие даже от многих своих министров, продолжали верить в самодержавие и в некоторых случаях проявляли волю, настаивая на своем. Однако такие случаи составляли скорее исключение. Порядок заключался в другом: во встроенности императорской власти в большую бюрократическую машину, существовавшую и работающую по своим правилам10.
В этой связи возникает много интересных проблем, сюжетов, вопросов. Например: можно ли говорить о полном отсутствии публичной политики в условиях автократии; как печать, даже подцензурная, влияла на правительственные решения; какие поведенческие принципы и мировоззренческие установки были характерны для бюрократической корпорации и можно ли вообще о такой говорить; обязательно ли было формальное участие императора в процессе законотворчества; какова роль канцелярии при принятии решений и Т.Д.?
Подобных вопросов может быть очень много. Каждый из них оттеняет простой факт: современный исследователь не привык говорить о политической системе неконституционного типа. Он склонен ее сводить к простым формулам в то время, как она может оказаться весьма сложной, даже более изощренной, чем в государстве с парламентской формой правления. Она подразумевает наличие особых «партий», особых лоббистских групп, особого понимания законности и правового государства. Эта «особость» не описана (да и не могла быть описана) в современной политической науке.
Однако вне этого политико-правового контекста совершенно непонятными становятся события Первой российской революции. Ведь она случилась как результат несостоятельности политического режима, чьи параметры как раз нуждаются в специальном уточнении. Конечно, исключительно трагическая модальность при разговоре о государственной жизни России начала XX в. едва ли уместна. Любая политическая система имеет достоинства, оборачивающиеся недостатками. Рассуждая об имперской власти того времени привычно писать о неминуемости революции. Однако возможен иной поворот темы: как так случилось, что изучаемая политическая система сравнительно долго существовала и не без пользы для страны, которая и развивалась, и расширялась - причем в условиях жесткой конкуренции с ведущими европейскими игроками?.
Важнейшая характеристика «старого порядка» в России - это осуществление политики без политиков. Задача политика - определять вектор развития на будущее. Министры не могли претендовать на эту роль, которая была предписана лишь государю императора. Он же в силу масштабности проблем, на его плечи возложенных, с этой задачей явно не справлялся. Таким образом, в легальном поле России политиков не было. В этом заключались свои определенные преимущества. На вершине управленческой пирамиды оказывались не случайные лица, а преимущественно технократы, обладавшие достаточным опытом и навыками для участия в законотворческом процессе. Баланс интересов между ними, между ведомствами, которые они возглавляли, формировали своего рода «систему сдержек и противовесов». Это была особая «русская конституция» - естественно, без парламента и легальных политический партий. Ее цель - поддержание status quo, в чем уже можно усмотреть серьезную проблему.
Такая политическая система не способна к самореформирова-нию.
Сложность возникает и другого свойства. Аполитичность бюрократии автоматически не обозначает аполитичность каждого отдельного бюрократа. Чиновник, поменявший мундир на халат, мало отличался от своего соседа-общественника. Он читал те же журналы, тех же авторов, вел те же разговоры в гостиных. В условиях Первой революции выяснилось, что и взгляды его зачастую оппозиционные. Прежде об этом можно было только догадываться. В решающий момент оказалось, что представители власти самой власти не сочувствовали11.
Рыхлая, сложносоставная, разношерстная управленческая элита - явление скорее социального порядка, которая в политическом отношении может себя вести неожиданным образом. Государственная же власть в этом случае - не всепожирающий Левиафан, а бесформенная, громадная амеба, для которой целеполагания не существует. Распределение государственной власти скорее напоминает модель М. Фуко, а не М. Вебера. Речь должна идти не о рационализирующихся структурах управления, а о сложной ткани взаимодействия различных общественных групп, так или иначе включенных в политический процесс: это и чиновники, и придворные, и земцы, и представители дворянской корпорации, и военнослужащие, и журналисты, и предприниматели и т.д. Причем нередко это одни и те же лица, совмещавшие разные социальные статусы т ролевые функции12. В этом случае власть сложно отделить от общественности, бюрократию от оппозиции, а охранительство от революционности.
Различные элитные группы так или иначе реагировали на феномен абсолютизма в России. Он лишь в малой степени напоминал западноевропейские образцы XVII-XVIII вв. Слишком изменилась Европа за XIX столетие. В условиях технического прогресса и новых скоростей и законотворческий процесс становился более технологичным. Усложнявшееся государственное управление не могло сводиться к простым функциям, более или менее контролируемым одним человеком, пускай даже самых выдающихся личных качеств. Абсолютизм был ограничен в своих возможностях и в прежние времена. Он скорее представлял собой идеологию, нежели повседневную практику. У монарха было слишком мало инструментов, чтобы гарантировать тотальность рационального порядка13.
Теперь же, к концу XIX столетия, абсолютизм - юридическая фикция, служившая, прежде всего, легитимации существующего порядка. Поразительно то, что как раз у государства стало значительно больше возможностей, чем раньше. Однако к этому времени в глазах подавляющего большинства представителей общественности самодержавие смотрелось явной архаикой. Популярные и в чиновничьей среде концепты «закона», «законности», «правового порядка», «реформ» не соответствовали привычным представлениям об абсолютистском государстве. Более того, даже понятие «самодержавие» в ряде случаев интерпретировалось как нечто противоположное абсолютизму или, по крайней мере, не соответствовавшее ему. Иными словами, политический режим существовал в определенном интеллектуальном пространстве, что само по себе становилось вызовом для властвующей элиты14. Мир идей и понятий, в котором существовали политические игроки рубежа XIX-XX вв., - точно так же часть политической повседневности.
Методология политической повседневности вполне применима и в отношении общественного движения, которое чаще всего исследуют как череду партийных столкновений и совокупность судеб политических организаций. Практика показывает, что границы между ними весьма условны. Многие видные политические лидеры «кочевали» от одной организации к другой, порой отказываясь от прежних идеологических предпочтений в пользу новых идей. Общественность (по крайней мере, России в конце XIX - начала XX вв.) - это, прежде всего, среда, привычки и определенный набор концептов. К ним можно было относиться по-разному, принимая или даже отрицая их. В любом случае они «намагничивали» интеллектуальное пространство, в котором вращалась «интеллигенция». При таком подходе можно было проанализировать общественное движение как совокупность в первую очередь социальных практик, может быть, даже более важных, чем партийные программы и уставы.
К сожалению, этот исследовательский прием пока еще не апробирован, практикой не проверен. Возможно, он дал бы неведомые всходы. Однако, думается, он был бы в любом случае полезен. Он позволил бы разглядеть социальное измерение политического процесса как в правительственной канцелярии, так и в революционном 122
подполье, а значит поставить совсем новые вопросы источнику и получить новые ответы, включая совершенно неожиданные.
Список литературы Археология политической повседневности: послесловие к монографии 2018 года
- Эйхенбаум Б.М. Литературный быт // Эйхенбаум Б.М. О литературе: Работы разных лет. Москва, 1987. С. 428-436.
- Блоуин Ф., Розенберг У. Споры вокруг архивов, споры вокруг источников // Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? Москва, 2013. С. 135-136, 139-140.
- Орлова Г.А. Изобретая документ: Бумажная траектория российской канцелярии // Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? Москва, 2013. С. 45-46.
- Фуко М. "Нужно защищать общество": Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975 - 1976 учебном году. Санкт-Петербург, 2005. С. 38, 48-59; Фуко М. Психиатрическая власть: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1973 - 1974 учебном году. Санкт-Петербург, 2007. С. 59-77.
- Бурдье П. О государстве: Курс лекций в Коллеж де Франс (1989 - 1992). Москва, 2016. С. 129.
- Соловьев К.А. Законодательная и исполнительная власть в России: Механизмы взаимодействия (1906 - 1914). Москва, 2011. С. 495-499.
- Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной аристократии, с введением: Социология и история. Москва, 2002. С. 193-195; Скиннер К. Истоки современной политической мысли. Т. 2: Эпоха Реформации. Москва, 2018. С. 521-524, 534.