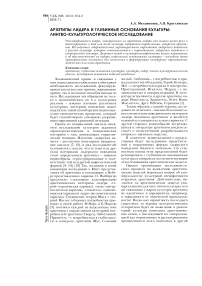Архетипы лидера и глубинные основания культуры: лингво-культурологическое исследование
Автор: Мельникова Алла Александровна, Круглянская Лилия Яковлевна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 1 (26), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается вопрос, универсальны ли архетипы лидера или можно вести речь о доминировании в той или иной культуре совершенно определенных лидерских архетипов. Исследуются содержательные характеристики нормативов лидерского поведения в русской культуре, которые сопоставляются с нормативами лидерского поведения в американской культуре. Делается вывод о культуроспецифичности таких нормативов и об обусловленности их набора глубинными основаниями культуры – последние дают критериальные основания для включения в формирующие культурные нормативные модели тех или иных архетипов
Архетипы, глубинные основания культуры, культура, лидер, лингво-культурологический анализ, культурные основания моделей поведения
Короткий адрес: https://sciup.org/14031475
IDR: 14031475 | УДК: 008;
Текст научной статьи Архетипы лидера и глубинные основания культуры: лингво-культурологическое исследование
Terra Humana
Экономический кризис и связанная с ним социальная нестабильность обостряют необходимость исследований, фокусирующихся как на анализе причин, породивших кризис, так и на поиске способов выхода из него. Исследования эти обращены не только к экономическим, но и к культурным реалиям – именно изучение различных культурных паттернов поведения может подсказать такой способ организации социально-экономических процессов, который будет способствовать успешному разрешению современной кризисной ситуации.
Одним из направлений анализа является исследование культурно заданных характерологических и поведенческих паттернов у лиц, занимающих управленческие позиции. Изучение лидерских качеств – достаточно популярное направление анализа [7; 12], и ряд исследователей склоняются к мысли, что за теми или другими паттернами лидерского поведения стоят определенные архетипы – мощные первообразы, структурированные в соответствии с той или другой мифологической формой [9; 10]. [10] Так, соединив в своей концепции восходящие к Юнгу представления об архетипах и восходящие к Веберу представления о харизме, О. Нойбергер предложил следующую классификацию архетипических паттернов лидера: «герой» (героическая харизма), «отец» (патерналистская харизма), «спаситель» (миссионерская харизма) и «царь» (величественная харизма). Соединение теории Юнга с теорией Маслоу о базовых потребностях проводят в своей работе М.Марк и К.Пирсон [3], соотнося каждый из выделенных ими архетипов с определенной категорией потребностей: архетипы Творец, Заботливый, Правитель – с потребностью в стабильности и контроле, архетипы Шут, Славный малый, Любовник – с потребностью в принадлежности и обладании, Герой, Бунтарь, Маг – с потребностью в риске и мастерстве, Простодушный, Искатель, Мудрец – с независимостью и самореализацией. В литературе встречаются и другие архетипы лидера: Повелитель, Хранитель, Эстет, Воин, Мыслитель, Друг, Ребёнок, Странник [1].
Таким образом, с одной стороны, исследователи отмечают – именно бессознательное соответствие поведенческих паттернов лидера значимым архетипам и является основой его авторитета и популярности. С другой стороны, разнообразие встречающихся в литературе архетипов свидетельствует о недостаточной разработанности вопроса о значимых моделях.
В контексте вышесказанного продуктивным будет исследование представлений о нормативных формах лидерского поведения. Кажется логичным, что сущностная основа этих представлений будет резонировать с глубинными основаниями культуры и опираться на соответствующие этим основаниям архетипические модели.
Однако организация исследовательского процесса по выявлению архетипических моделей поднимает вопрос об универсальности/ культурной специфичности открытых архетипов. Действительно, являются ли архетипические модели универсальными для всех типов культуры или же связанные с ядром культуры архетипы не идентичны и варьируются, например, в зависимости от этнической принадлежности? Поскольку вероятность последнего существует, то верным методологическим алгоритмом будет не выявление в рамках одной культуры комплекса архетипических основ, с последующей их генерализацией как нормативных и рассматриванием проявленности этого комплекса в другой культуре – насколько полно или неполно он воплощен. В контексте задач описания лидерского архетипа правильным будет изучение представлений о нормативных формах лидерского поведения в рамках одной культуры с параллельным сравнением с нормативами другой культуры – таким образом, с одной стороны, происходит выявление определенного архетипа, а с другой стороны, исследуется его универсальность/ культурная специфичность.
Выявление культурно-специфичных представлений о нормативных формах лидерского поведения продуктивно произвести, используя лингво-культурологический анализ: исследование языка как формы опредмеченности национальных норм и ценностей уже давно относится к стандартным аналитическим процедурам. Проведем подобного рода исследование, поставив своей задачей определить, какие черты лидера значимы для россиян, и для иллюстрации культурных различий рассмотрим значимые характеристики лидера с точки зрения американской культуры.
Лидеры – это лица, наделенные высоким социальным статусом. Что является составными частями социального статуса? Теоретики функциональной школы (Т. Парсонс, Р. Мертон, К. Дэвис) при анализе социальной позиции разводят понятия «престиж» и «уважение». Престиж связан с формальной характеристикой самого занимаемого положения: это «одобрение, которое связано только с занимаем положением», а уважение – с тем, как человек «относится к правильному выполнению обязанностей положения». Таким образом, престиж – «мотивация к стремлению занять это положение», а уважение – «мотивация выполнения тех требований, которые предъявляет положение» [8, с. 321]. То есть престиж соотносится с индивидуальными целями личности, тогда как уважение – с культурно значимыми ценностями.
Анализ представленности данных понятий показывает: собственного концепта, закрепляющего входящие в «престиж» смыслы, в русском языке нет, а заимствованное из французского слово – низкочастотное в языке, причем используется оно в основном как прилагательное («престижная должность»), в то время, как «уважение» – не только высокочастотно (вплоть до анекдотического «Ты меня уважаешь?»), но и имеет разработанное семантическое поле (само существительное «уважение», глаголы «уважать» и «уважить», прилагательные «уважаемый» и «уважительный» с краткой формой «уважителен», обращение «Уважаемый!»). Такое распре- деление значимости между «престижем» и «уважением» в русском языке говорит о том, что для нашей культуры нормативным является ориентация не на достижение индивидуальных целей, а на реализацию ценности – именно реализующие их личности приобретают уважение, которое и обеспечивает высокий личностный статус.
Дополняет анализ обращение к содержанию существительного «авторитет» – именно оно обозначает социальный вес, который приобретает индивид в общественной жизни. Исследование его содержательного наполнения проясняет, что служит основным критерием при определении социальной значимости личности.
Русская трактовка существительного «авторитет» следующая [5, с. 17]: 1) общепризнанное значение, влияние, общее уважение; 2) лицо, пользующееся влиянием, признанием. Что касается английского «authority», то, согласно словарю [13, с. 49] возможно четыре варианта употребления: 1) маркируется определенное качество, связанное с влиятельностью, властностью; словарный сборник [6] еще более конкрети- зирует – это власть с исконным значением «право требовать подчинения» («to exercise authority» – «осуществлять правление»; «These employees are under my authority» – «Эти сотрудники находятся у меня в подчинении»); 2) относится к сфере официальной власти и обозначает полномочие («He was given authority to sign the agreement» – «ему были даны полномочия подписать соглашение»); 3) маркировка городских властей – управление, отдел: «The Port of London Au-thority» – «Управление Лондонского Порта»; 4) об источнике – надежный, общепризнанный («He is an authority in this field» – «Он авторитет в этой области»). Таким образом, в английском понятии «authority» ядром является влиятельность и властность, по большей части связанная с официальным статусом индивида, его должностным положением, наделяющим его властью.
Мы видим, что русский вариант существенно отличается от английского. Во-первых, здесь имеется концентрация смысла – словарь отмечает лишь два значения, и они различаются несущественно, как в английском варианте – оба раза смысл, стоящий за понятием «авторитет», один и тот же, но в первом словоупотреблении это признак, а во втором – лицо, этим признаком обладающее. Во-вторых, русский вариант никак не связан ни с должностным положением, наделяющим индивида властью, ни с властью самой по себе, а связан с уважением и общественным признанием.
Общество
Terra Humana
Таким образом, в нашей культуре авторитет (высокий социальный статус, связанный с уважением и общественным влиянием) индивид приобретает не вследствие того, что он находится на определенной должности, а когда реализует значимые для русского менталитета ценности: то есть мы имеем взаимосвязь «воплощение ценностей» – «уважение» – «авторитет», где каждый последующий элемент детерминирован предыдущим; для менталитета же носителей английского языка отправной точкой социального статуса является должностная позиция, наделяющая индивида соответствующими властными полномочиями, то есть для них характерна взаимосвязь «формальное положение в социальной иерархии (должность, звание)» – «власть» – «авторитет».
Психологические исследования подтверждают полученный вывод, детализируя, какие характеристики должны быть у человека и какие ценности он должен реализовывать, чтобы иметь максимально высокий статус, т.е. пользоваться максимальным уважением в России. Это, в первую очередь, «умение отказываться от себя в пользу чего-то, гораздо более высокого, чем “я”, т.е…. полная бескорыстность и строгое (иногда даже педантичное) соблюдение моральных правил» [2, с. 281]. Именно человек, ставящий на первое место не свое, личное дело, а общее, проявляющий бескорыстие и даже жертвенность, отзывчивый и склонный действовать для достижения различных целей социально одобряемыми средствами имеет в нашей культуре максимально высокий личностный статус, максимальное уважение. Тестирование показывает: у авторитетных руководителей диагностируются высокие показатели действий на основании долга, моральных образцов, образующих «эго- сверхконтроль», а также высокие показатели по шкале альтруизма [2, с. 331]. Высокий статус зачастую предполагает воздействие на других людей в процессе выполнения общего дела. По каким нормативам выстраивает такой человек межличностное взаимодействие? Показательным также является сравнение наших моделей поведения с моделями поведения американцев. Итак, при межличностном взаимодействии имеющие высокий личностный статус руководители-россияне отличаются более сильной эмпатией и способностью сопереживать: американцы набирают 45,5% по данной шкале, наши – более 60%. И в целом представители российской ментальности склонны более ориентироваться на мнение окружающих, считаться с ним – по данной характеристике американцы набирают: мужчины – 39%, женщины – 43% шкалы; у нас: интеллигенты-мужчины – 56%, интеллигенты-женщины – 64%, производственники-мужчины – 53%, производственники-женщины – 63%. Значимые отличия дает шкала конселорности – «адвокатская школа», диагностирующая умение работать «на согласие», на примирение противостоящих сторон; предполагает гибкость и умение ориентироваться в ситуации, терпимость, одновременный учет нескольких факторов и согласование их. Наши соотечественники набирают в среднем 58% всех баллов, а американцы в среднем – 48 %. Такое же расхождение у нас по шкале «эффективный врач» (имеются ввиду психологические установки данной профессии) – американцы набирают в среднем 39%, наши – до 50,7% [2, с. 331–335]. Обе шкалы имеют глубинное сходство – и адвокат, и врач помогают человеку в тяжелой, неприятной для него ситуации, учитывая как специфику человека, так и особенности самой ситуации, хорошо разбираясь и в первом, и во втором, находя оптимальные способы разрешения. Указанная раньше эмпатия выступает как средство, помогающее в этом, а учет интересов окружающих акцентирует первичность именно другого человека в деятельности «врача»/ «адвоката» (в переносном смысле) для носителей русского менталитета.
Итак, наиболее общественно одобряемыми, обеспечивающими индивиду максимум уважения и высокий статус в социальной иерархии являются не действия, предусмотренные формальной организацией и институциональными статусными моделями, а личностно ориентированные, учитывающие индивидуальные и ситуационные особенности, проявляющие гибкость, терпимость, понимание, нацеленные на согласование. В этом мы отличаемся от американцев, носителей английского языка, значимость такой модели поведения для которых существенно меньше. Наряду с указанными выше особенностями, значимы также опора не на формально зафиксированные основания, а на общезначимые ценности, действия не по обязанности, а вследствие внутренних моральных принципов, которыми являются интериори-зированные общезначимые ценности; бескорыстие, доминирование общественного интереса над личным.
Таким образом, мы описали содержательные характеристики нормативов лидерского поведения для русской культуры, сравнив их с нормативами американской культуры. С одной стороны, анализ показы- вает различие этих нормативов поведения, и, следовательно, можно предполагать различие стоящих за данными нормативами архетипических моделей. С другой стороны – ни один из перечисленных в начале статьи архетипов не охватывает полностью тот смысл, который в нашей культуре нормативен для лидера. В качестве объяснения можно предположить, что формулировались все эти описательные архетипические модели представителями американской или западно-европейской культур [3; 7; 9; 10; 13], ориентированных на другие поведенческие лидерские паттерны. Развивая данную мысль, авторы статьи полагают, что мы имеем дело со связкой «нормативы лидерского поведения – архетипы лидера – глубинные основания культуры»: именно последние и дают критериальные основания для включения в формирующие культурные модели тех или иных архетипов. В качестве базового при формировании глубинных оснований русской культуры, безусловно, выступает коллективизм – выделение в качестве основы для формирования дальнейших социально-культурных характеристик показателей коллективизма или индивидуализма представляется исследователям культур несомненным [11; 14; 15]. Согласно результатам тестирования, для членов индивидуалистических обществ характерна концентрация на собственных потребностях и желаниях; они стремятся выделиться, самоутвердиться и сосредоточены на свои внутренних атрибутах: индивидуальных способностях, личностных чертах и предпочтениях, а также на своих целях и правах [11, с. 85–119]. Коллективистские же культуры не приветствуют явной индивидуальной обособленности, делая акцент на том, что можно назвать «фундаментальной связанностью человеческих существ» [4, с. 57]. Для них значимой является адаптация к отношениям в группе, к которой они принадлежат, солидарность с товарищами, понимание их и забота о них, а также участие в одобряемой обществом деятельности. Как мы видим, данные характеристики перекликаются с выявленными нормативами лидерского поведения.
Вполне вероятно, что описанные нормативные представления существуют в культуре в качестве нескольких моделей лидерского поведения, которые акцентируют какой-либо элемент глубинных оснований – то есть дальнейший анализ с большой вероятностью обнаружит существование нескольких архетипов лидера, соответствующих глубинным основаниям русской культуры. Таким образом, хотя исследование с очевидностью необходи- мо продолжать, однако несомненно, что плодотворным являются не попытки обнаружить в нашей культуре те или иные, выделенные в рамках западной культуры, архетипы лидеров, а выделение этих архетипов путем анализа русских реалий. Представляется также целесообразным, чтобы избежать бездумного прикладывания к русской культуре чужих моделей, нахождение в нашей культуре образов (или литературных персонажей), которые будут соответствовать тому или иному обнаруженному российскому архетипу.
Список литературы Архетипы лидера и глубинные основания культуры: лингво-культурологическое исследование
- Иващенко А. Архетипы корпоративной культуры//Технологии управления маркетингом. -2007, № 4 (4). -С. 88-96.
- Касьянова К. О русском национальном характере. -М.: Институт национальной модели экономики, 1994. -367 с.
- Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипа/Пер. с англ. под ред. В. Домнина, А. Сухенко. -СПб.: Питер, 2005. -336 с.
- Мацумото Д. Психология и культура. -СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. -416 с.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. -М.: Азбуковник, 1999. -944 с.
- Словарь Lingvo. Англо-русская версия. [Электронное издание]. ABBYY Software House. 2002.
- Conger J.A., Kanungo R. N. Charismatic leadership. The elusive factor in organizational effectiveness. -London: Jossey-Bass, 1988. -264 p.
- Davis K. A conceptual analysis of stratification/Amer.Soci.Revi. Vol. 7. -1942, № 3.
- Morgan G. Image of organization. -Beverly Hills: Sage. 1986. -184 p.
- Neuberger O. Fьhren und gefьhrt werden. 3. Aufl. -Stuttgart: Enke. 1990. -322 s.
- Schwartz S.H. Beyond individualism/collectivism: New cultural dimensions of values.//U. Kim, H. C. Triandis, & G. Yoon (Eds.). Individualism and collectivism: Theory, method and applications. -Thousand Oaks, CA: Sage, 1994. -P. 85-119.
- Shamir B., House R. J., Arthur M. B. The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory//Organization Science. Vol. 4. -1993, № 4. -P. 577-594.
- The Modern Russian Dictionary for English Speakers. -М.: Русский язык, 1982. -716 c.
- Triandis H.C. Culture and social behavior. -New York: McGraw-Hill, 1994. -324 p.
- Whiting B.B., Whiting J.W. Children of six cultures. A psycho-cultural analysis/In collaboration with R. Longabaugh. -Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1975. -232 p.