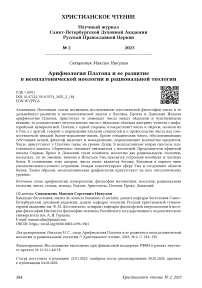Арифмология Платона и ее развитие в неоплатонической ноологии и рациональной теологии
Автор: Никулин М.С.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История церкви
Статья в выпуске: 2 (105), 2023 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена исследованию платоновской философии числа и ее дальнейшего развития в неоплатонической мысли у Плотина, Прокла и Дамаския. Излагая арифмологию Платона, Аристотель то помещает числа между эйдосами и чувственными вещами, то отождествляет онтологически числа с эйдосами, сближая доктрину учителя с пифагорейской нумерологией. Плотин, с одной стороны, отождествляет числа и эйдосы, полагая их в Уме, а с другой, говорит о порождении числами сущностей и о превосходстве числа над умопостигаемой триадой бытие-мышление-жизнь. Кроме генадических чисел, обусловливающих субстанции вещей, философ выделяет и монадические, определяющие количество предметов. Число присутствует у Плотина также на уровне Души. В неоплатонизме вторая гипотеза платоновского диалога «Парменид» начинает связываться с ноологией. Представители афинской школы Сириан, Прокл и Дамаский стали понимать ноологию как рациональную теологию, поскольку, по их мнению, именно в Ипостаси Ума находятся устроения всеобщих и частных богов. В понимании этих авторов, числа также являются богами. Возникая в первом чине умопостигаемого-умного устроения, генады конституируют сферу Ума и следующие области бытия. Таким образом, неоплатоническая арифмология присутствует на всех онтологических уровнях.
Арифмология, нумерология, философия математики, ноология, рациональная теология, число, генада, монада, платон, аристотель, плотин, прокл, дамаский
Короткий адрес: https://sciup.org/140301614
IDR: 140301614 | УДК: 1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_2_184
Текст научной статьи Арифмология Платона и ее развитие в неоплатонической ноологии и рациональной теологии
Доминирующая в философии математики концепция, состоящая в том, что математик не является изобретателем или конструктором предметов своей науки, именуется «математическим платонизмом», поскольку в ней математические объекты (точка, прямая, плоскость, тело, число и т.д.) и законы рассматриваются как реальные сущности в идеальном мире. Они существуют вечно, неизменно и независимо от субъекта. Согласно этой теории, до сих пор не доказанные и не опровергнутые математические гипотезы в умопостигаемом мире уже разрешены. Так, венгерский математик А. Реньи писал, что математик прежде всего является открывателем, а не изобретателем. Его мысли вторят математик и Нобелевский лауреат Дж. Нэш и русский математик Е. М. Вечтомов. К. Гаусс считал, что определение радикала, над которым он безуспешно работал много лет, было открыто ему милостью Бога. С другой стороны, математики-антиплатоники считают прямо наоборот: математик лишь изобретатель, а не открыватель (Витгенштейн), поскольку математические объекты конструируются учеными (Сычева), а математика является отраслью человеческой культуры (Шапошников). Перечисленные представители конструктивистского и интуиционистского направлений философии математики являются последователями Аристотеля, для которого математические объекты — результат абстрагирования, при котором математик изучает свойства, неотделимые от тела, но взятые отвлеченно (Arist. De an. 403b). В отличие от математика-платоника, для которого та или иная гипотеза уже решена независимо от будущего доказательства, для математика-конструктивиста доказательство — решающий факт, так как пока демонстративная конструкция не выстроена, вопрос об истинности теоремы остается открытым [Зеннхаузер, 2016, 61–68].
В «Метафизике» Аристотель передает философию математики Платона таким образом, что математические объекты (та ца0пцат1ка tov npaY^aTOv) занимают у последнего промежуточное положение (μεταξύ) между чувственно воспринимаемым (τὰ αἰσθητὰ) и эйдосами (τὰ εἴδη) (Arist. Met. 987b, 14–18). При этом никто из ближайших учеников Платона не сомневался в корректности такой аристотелевской интерпретации платоновской арифмологии [Мерлан, 2021, 62].
Однако в трактате «О душе» Аристотель утверждает, что Платон именовал числами (ἀριθμοὶ) сами эйдосы (εἴδη) и начала (ἀρχαὶ) вещей, состоящие из элементов (aToixEitov). При этом Стагирит приписывает своему учителю следующую нумерологию: ум есть единица (voйv pev то ev); знание — двоица (EniaTqpnv 8е та 8ио), так как стремится к единству; мнение есть плоскостное число (τὸν δὲ τοῦ ἐπιπέδου ἀριθμὸν 5o^av); ощущение — объемное число (aio0naiv 8е tov той отЕрЕой). Сообразно данному четырехчастному делению излагается и гносеология Платона, в которой одни вещи (np&YpaTa) постигаются умом (vo), другие — знанием (Ёпют^ц^), третьи — мнением (86^^), четвертые — ощущением (aia0qoEi) (Arist. De an. 404b). Можно сравнить изложенное с доктриной Пифагора Самосского, переданной в доксографическом компендиуме «Мнения философов». Согласно данному свидетельству, Пифагор считал природой числа десятку и что потенция десятки заключается в четверке, поскольку если складывать числа от 1 до 4, то получится 10 (1 + 2 + 3 + 4 = 10). Поэтому и душа человеческая также состоит из четверицы: ум (νοῦς = 1), знание (ἐπιστήμη = 2), мнение (δόξα = 3), ощущение (αἴσθησις = 4) (58 B 15). Таким образом, в трактате «О душе» Аристотель явно сближает платоновскую арифмологию с пифагорейской.
В трактате «О числах» Плотин также рассматривает числа как разновидность эй-досов, обладающих объективной реальностью и каузальной потенцией. Так, он ставит в один ряд числа единицу, двойку и идеи белизны, красоты, справедливости, величия, которые присутствуют (παρουσίᾳ) в вещах и обусловливают их бытие одним, двумя, белым, красивым, справедливым, великим. При этом способ причастия (πῶς μεταλαμβάνει) вещей числам сходен (κοινὸν) с причастием (μετάληψιν) их эйдосам (Plot. Enn. VI, 6, 14).
С другой стороны, Плотин развивает арифмологию, полагая число началом и причиной сущности:
Итак, во-первых, в качестве первого сущего (πρῶτον ὄν) должно взять Сущее (τὸ ὂν), а затем Ум (νοῦν), и потом Живое Существо (τὸ ζῷον), ибо Оно уже, кажется, содержит все вещи (πάντα δοκεῖ περιέχειν). А в качестве второго сущего возьмем Ум (ὁ δὲ νοῦς δεύτερον), ибо Он есть действие сущности (ἐνέργεια γὰρ τῆς οὐσίας). Тогда число (ὁ ἀριθμὸς) не будет соответствовать Живому Существу (κατὰ τὸ ζῷον), ибо уже до Него были один и два (ἓν καὶ δύο). И число не будет соответствовать и Уму (κατὰ τὸν νοῦν), поскольку Сущность (ἡ οὐσία), существующая прежде Него, была и едина и множественна (ev оиста кас лоХХа qv) (перевод наш. — свящ. М. Н. ) (Plot. Enn. VI, 6, 8).
В этом отрывке в структуре Ипостаси Ума философ выделяет так называемую умопостигаемую триаду бытие-мышление-жизнь (под «Живым Существом» разумеется Парадигма космоса из «Тимея» Платона). При этом число предшествует жизни, мышлению и даже бытию, то есть находится на грани Единого и Ума, ибо является принципом оформления последнего.
Поскольку чувственная вселенная является образом Ума, то и в ней числа предшествуют и порождают сущности. «Итак, первое и истинное число есть начало и источник сущности для сущих. Поэтому и здесь становление для каждой вещи при помощи чисел… (Ἀρχὴ οὖν καὶ πηγὴ ὑποστάσεως τοῖς οὖσιν ὁ ἀριθμὸς ὁ πρῶτος καὶ ἀληθής. Διὸ καὶ ἐνταῦθα μετὰ ἀριθμῶν ἡ γένεσις ἑκάστοις…)» (Plot. Enn. VI, 6, 15). Кроме «первых» и «истинных» чисел Плотин говорит о количественных числах, но они вторичны и зависят в своем существовании от первых: «Это сущностное число (ὁ οὐσιώδης ἀριθμός), другое же, именуемое монадическим (μοναδικὸς), есть его образ (εἴδωλον)» (Plot. Enn. VI, 6, 9). Разница между сущностным и количественным числом состоит в том, что первое «не выражает то, насколько единственно внешнее вещи, но то, что в сущности и что удерживает природу вещи (οὐδὲ ὅσον λέγει μόνον ἔξωθεν τοῦ πράγματος, ἀλλὰ τὸ ἐν τῇ οὐσίᾳ καὶ συνέχον τὴν τοῦ πράγματος φύσιν)» (Plot. Enn. VI, 6, 16). Сущностное число не говорит о количестве вещей, а выражает единство вещи как субстанции. «Таким образом, все сущие вещи едины, но не едины вроде монады, но как едина мириада, или какое-нибудь другое число (τὰ πάντα ὄντα οὕτως ἕν, οὐχ ὡς τὸ ἓν τὸ κατὰ τὴν μονάδα, ἀλλ’ ὡς ἓν ἡ μυριὰς ἢ ἄλλος τις ἀριθμός)» (Plot. Enn. VI, 6, 10). Такую немонадическую единичность числа Плотин именует генадой:
Итак, сущее, стоящее во множественности (Ev nXq0si), есть число, когда оно пробуждается как многое (πολὺ) и является как-бы подготовкой (παρασκευὴ) к сущим вещам, и прообразом, и как бы генадами (ἑνάδες), обладающими местом (τόπον) для того, что будет на них основано (ἱδρυθησομένοις) (Plot. Enn. VI, 6, 10).
Кроме того, ссылаясь на Платона, Плотин говорит, что сама «Душа есть число, если действительно она сущность (ἀριθμὸς ἄρα ἡ ψυχή, εἴπερ οὐσία)» (Plot. Enn. VI, 6, 16).
В отношении онтологического статуса геометрических объектов у Плотина можно отметить, что, с одной стороны, он полагал линию (γραμμὴ) и фигуры (τὰ σχήματα) позже числа, поскольку в них созерцается единое (Ὕστερον μὲν γὰρ ἀριθμοῦ· ἐνορᾶται γὰρ ἐν αὐτῇ τὸ ἕν). С другой стороны, эти нефигурные (ἀσχημάτιστα) и первичные фигуры (πρῶτα σχήματα) являются умными вещами (πρᾶγμα νοερὸν) и существуют до тел (про tov oopaTOv), прежде всего в Уме (Ev тф vo npoTEpov). Затем они существуют и в Живом Существе (ἐν τῷ ζῴῳ) как естественные фигуры (φυσικὰ σχήματα) (Plot. Enn. VI, 6, 17).
Уже Плотин связывал вторую гипотезу диалога Платона «Парменид» (Plat. Parm. 142b5-155d5) с ноологией. Но стержневой эта связь стала в Афинской школе неоплатонизма, основанной Плутархом Афинским. Разработчиком ее теоретической системы стал схоларх Сириан, ученик Плутарха и учитель Прокла. Вторая гипотеза посвящена божественному, то есть прежде всего сфере Ума. Ум как сущее едино-многое понимается как совокупность божественных генад, воплощающихся в вещах. Каждая генада есть бог, так как является единым со свойствами (предикатами). При введении каждого нового предиката возникает следующий ноологический уровень. Последовательные устроения сферы Ума таковы: 1) умопостигаемое (νοητά), т. е. бытие; 2) умопостигаемо-умное (νοητὰ καὶ νοερά), т. е. жизнь; 3) умное (νοερά), т. е. мышление; 4) сверхкосмическое; 5) сверхкосмически-внутрикосмическое и 6) внутрикосмиче-ское. Таким образом, ноология в позднем неоплатонизме становится рациональной теологией, поскольку именно в Ипостаси Ума находятся указанные выше устроения всеобщих богов (1—3) и частных богов (4—6). Кроме того, на каждом из этих божественных устроений, а также на уровне Души и Космоса существуют эйдосы. «Эйдосы оказываются одной из ипостасей генад в плане парадигматического своеобразия» [Лукомский, 2006, 706–709].
В более ранних «Первоосновах теологии» Прокл Диадох еще не дает детальной ноологической доктрины, в частности не говорит об умопостигаемо-умном устроении и не делит сферу умопостигаемого на триады по схеме бытие-жизнь-мышление (см.: [Лукомский, 2006, 716]). В этом произведении Прокл помещает сферу чисел, именуемых у него богами, между бескачественным Единым и окачественным Умом (см.: [Лосев, 1993, 221]). При этом каждый бог, будучи совершенной генадой, превосходит умопостигаемую триаду. «Всякий бог есть самосовершенная генада, и всякая само-совершенная генада есть бог (Πᾶς θεὸς ἑνάς ἐστιν αὐτοτελής, καὶ πᾶσα αὐτοτελὴς ἑνὰς θεός)» (Procl. Inst. theol. 114, 1). «Всякий бог превосходит сущее, и жизнь, и ум (Πᾶς θεὸς ὑπερούσιός ἐστι καὶ ὑπέρζωος καὶ ὑπέρνους)» (Procl. Inst. theol. 115, 1).
Кроме вышеуказанных теологических чисел Прокл, вслед за Плотином, говорит и о числах на других онтологических уровнях — ноэтическом и психическом:
Действительно, если божественное число (о Qeiog apiQpoc) имеет предшествующей причиной (aLTiav) Единое (т0 ev), как умное — Ум (о voepOc tOv vouv) и душевное — Душу (о ^uyiKOc T^v ^ux^v), и везде множество соразмерно (avaXoYov) своей причине, то ясно, что и божественное число генадично (ἑνιαῖός), если только Единое — Бог (Procl. Inst. theol. 113, 2-5).
В «Толковании на „Парменида“» Прокл более точно указывает онтологический статус числа в рамках разработанной ноологии. Множество генад возникает в первом чине умопостигаемо-умных богов:
Итак, сейчас необходимо ограничиться констатацией: Платон отделяет единое (τὸ ev) от множества генад (тои tov evaSov nXqQoug), поскольку оно порождает и гипостазирует это множество (ὡς γεννητικὸν αὐτοῦ καὶ ὑποστατικὸν); он использует привычные для нас понятия и говорит: «Единое не есть многое (οὐ πολλὰ τὸ ἕν)». Стало быть, в первом апофатическом определении (τῶν ἀποφάσεων) фигурирует чин (τῆς τάξεως), в котором от первой генады появляется первое множество генад (т0 npwTov tov evaSov nXqQog anO трс прытрс evaSoc avEфavn); где именно оно располагается, мы выясним при рассмотрении второй гипотезы (ὑπόθεσις). Упомянем сейчас лишь о том, что оно возникает в чине первых умопостигаемо-умных богов (τῶν νοητῶν… θεῶν καὶ νοερῶν), а вовсе не воспеваемых как умопостигаемые (τῶν povoc upvoupevov vonTov), даже если последним в каком-то смысле и соответствует множество (ἔστι πλῆθος καὶ ἐν ἐκείνοις ἄλλον τρόπον): не потому, что само единое в чине [умопостигаемо-умных богов] является многим (ὥστε τὸ ἓν καὶ εἶναι πολλὰ), а потому, что такие боги оказываются многим единым (ὥστε εἶναι τὰ πολλὰ ἕν) (Procl. In Plat. Parm. 1091,24–1092,1; пер. Л. Ю. Лукомского).
Дамаский Диадох в своем «Толковании на „Парменида“» в целом следует традиции Афинской школы неоплатонизма. В своей ноологии он упоминает те же божественные умные устроения и чины, что и Прокл, но местами его критикует и корректирует
(см.: [Лукомский, 2008, 562-573]). На шкале эманации Дамаский, как и Прокл, помещает число вместе с инаковостью в первом чине умопостигаемого-умного:
В самом деле, характеристиками рассматриваемого чина являются инаковость (ἥ τε γὰρ ἑτερότης χαρακτηρίζει τὴν τάξιν), выступающая в качестве причины числа (ата тои apiO^ou), само число (айтос о ар10цод), поскольку оно образует данный чин (ὡς ἡ τάξις ὤν), а также дискретная ипостась действительных предметов, располагающихся в этом чине (διωρισμένη ὑπόστασις τῶν ἐν αὐτῇ npaY^&TMv). Инаковость оказывается матерью (ц^тпр), так как она производит эти предметы на свет в самой себе и вслед за собой (τίκτουσα ἐν αὐτῇ καθ’ ἑαυτήν), число же оказывается матерью вместе с ее потомками (μήτηρ μετὰ τῶν γεννημάτων ὁ ἀριθμός). И вся божественность (ἡ θεότης ἅπασα) в первом чине умопостигаемо-умного, если рассматривать ее, скажем, в качестве некоей специфической черты (1§1отпта), представляет собой инаковость (ётеротп^), а если говорить о ней как о гипостазирующей космос, связанный с инаковостью (ὑφεστῶσα κόσμον ἑτεροῖον), то она оказывается числом (ἀριθμός) (Damasc. In Plat. Parm. 73, 25–30; пер. Л. Ю. Лукомского, II, 11).
Видимо, прочитывая Платона через призму неоплатоников, А. Ф. Лосев утверждает, что «число пронизывает у Платона решительно все бытие с начала до конца, сверху донизу». Фундаментальные онтологические реальности, впоследствии названные Плотином ипостасями (субстанциями), Платон рассматривает в связи с понятием числа. Первичный принцип Платон именует Единым, то есть трактует через категорию числа. Следующий уровень — Ум — философом видится уже как начало раздельности, которая возможна опять же благодаря принципу числа. Мировую Душу Платон считал самодвижным числом, являющимся источником движения существующего. Вселенная также рассматривается посредством математических дефиниций. Число пронизывает все неживое и живое, включая человека и социум, поэтому А. Ф. Лосев даже именует философа прародителем современной кибернетики и считает, что появление математического естествознания в XVII в. связано с возрождением в эпоху Ренессанса интереса к неоплатонизму, пришедшего на смену господству Аристотеля в средневековье (см.: [Лосев, 2000, 369]). Л. Бриссон также усматривает оригинальность и значимость мысли Платона в «Тимее» в том, что «впервые в истории человечества была предпринята попытка свести всю сложность вселенной к математике» [Бриссон, 2019, 193].
На основании изложенного можно сделать следующие выводы относительно арифмологии Платона и неоплатоников.
Философию математики Платона Аристотель в «Метафизике» передает так, что числа занимают промежуточное положение между эйдосами и чувственными объектами, а в «О душе» Стагирит пифагореизирует нумерологию учителя, отождествляя онтологический статус эйдосов и чисел.
У Плотина числа и фигуры рассматривается преимущественно в рамках ноологии. С одной стороны, он сближает числа и эйдосы и полагает их пребывающими в Уме. С другой, он говорит о предшествии и порождении числами сущностей и о том, что число превосходит умопостигаемую триаду. Иными словами, плотиновская арифмология находится на стыке ноологии и генологии. Кроме генадических чисел, обусловливающих субстанции вещей, философ выделяет и монадические, определяющие количество вещей. Число присутствует также и на уровне Души.
В афинской школе неоплатонизма центральное место заняла экзегеза второй гипотезы диалога Платона «Парменид». Эта гипотеза связывалась с ноологией, понимаемой как рациональная теология. Числа-генады являются богами. Они возникают в первом чине умопостигаемого-умного устроения и диалектически конституируют сферу Ума и следующие за ней ступени бытия. Таким образом, в неоплатонизме число начинает пронизывать бытие на всех онтологических уровнях.
Список литературы Арифмология Платона и ее развитие в неоплатонической ноологии и рациональной теологии
- Arist. De an. — Aristoteles. De anima // Aristotle. De anima / Ed. by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1961 (repr. 1967). P.402a1-435b25.
- Arist. Met. — Aristoteles. Metaphysica // Aristotle's metaphysics: in 2 vols. / Ed. by W.D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1924 (repr. 1970 [of 1953 corr. edn.]). V. 1: 980a21-1028a6; V. 2:1028a10-1093b29.
- Damasc. In Plat. Parm. — Damascius. In Platonis Parmenidem // Damascii successoris dubitationes et solutions. Vol. 2 / Ed. par C. E. Ruelle. Paris: Klincksieck, 1899 (repr. Brussels: Culture et Civilisation, 1964). P. 5-322.
- Die Fragmente der Vorsokratiker / Hrsg. von H. Diels, W. Kranz. Bd. 1-3. Berlin, 1959-1960.
- Plat. Parm. — Plato. Parmenides // Platonis opera. Vol. 2 / Ed. by J. Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1901 (repr. 1967). St III.126a-166c.
- Plot. Enn. — Plotinus. Enneades // Plotini opera: in 3 vols / Ed. by P. Henry, H.-R. Schwyzer. Leiden: Brill, 1951, 1959, 1973.
- Procl. In Plat. Parm. — Proclus. In Platonis Parmenidem // Procli philosophi Platonici opera inedita. Pt. 3 / Ed. par V. Cousin. Paris: Durand, 1864 (repr. Hildesheim: Olms, 1961). P. 617-1244.
- Procl. Inst. theol. — Proclus. Institutio theologica // Proclus. The elements of theology: 2nd ed. / Ed. by E. R. Dodds. Oxford: Clarendon Press, 1963 (repr. 1977).
- Аристотель. Сочинения: в 4 т. / Под ред. В. Ф. Асмуса и др. М.: Мысль, 1976, 1978, 1981, 1983.
- Дамаский. Комментарий к «Пармениду» Платона / Пер. с др.-греч. Л. Ю. Лукомского. СПб.: Мiръ, 2008.
- Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / Под ред. А.Ф. Лосева и др. М.: Мысль, 1990, 1993, 1994.
- Плотин. Эннеады: в 7 т. / Пер. с др.-гр. Т. Г. Сидаша. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2019.
- Прокл. Комментарий к «Пармениду» Платона / Пер. с др.-греч. Л. Ю. Лукомского. СПб.: Мiръ, 2006.
- Прокл. Первоосновы теологии / Пер. А. Ф. Лосева // Прокл. Первоосновы теологии. Гимны. М.: Изд. группа «Прогресс», 1993. С. 5-149.
- Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / Под ред. А. В. Лебедева. М.: Наука, 1989.
- Бриссон (2019) — Бриссон Л. Платон. Писатель, который изобрел философию / Пер. с фр. О. Алиевой. М.: Rosebud Publishing, 2019.
- Зеннхаузер (2016) — Зеннхаузер В. Платон и математика. СПб.: РХГА, 2016.
- Лосев (1993) — Лосев А. Ф. Комментарии // Прокл. Первоосновы теологии. Гимны. М.: Изд. группа «Прогресс», 1993. С. 187-302.
- Лосев (2000) — Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. 2: Софисты. Сократ. Платон. М.: АСТ, 2000.
- Лукомский (2006) — Лукомский Л. Ю. Афинская школа неоплатонизма и Комментарий Прокла к «Пармениду» Платона // Прокл. Комментарий к «Пармениду» Платона. СПб.: Мiръ, 2006. С. 693-721.
- Лукомский (2008) — Лукомский Л..Ю. Комментарий Дамаския и традиция неоплатонической экзегезы диалога Платона «Парменид» // Дамаский. Комментарий к «Пармени-ду» Платона. СПб.: Мiръ, 2008. С. 553-582.
- Мерлан (2021) — Мерлан Ф. Греческая философия от Платона до Плотина // Кембриджская история поздней греческой и ранней средневековой философии / Под ред. А.Х. Армстронга. СПб.: Владимир Даль, 2021. С. 57-190.